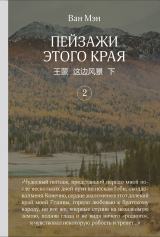
Текст книги "Пейзажи этого края. Том 2"
Автор книги: Мэн Ван
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
…И все же он не уехал. О Худай! О судьба! Почему они к нему так безжалостны? Он уже прошел все формальности, купил билет на автобус, за бесценок распродал имущество. Он всюду ходил, прощался, пил на прощание – и подхватил острую дизентерию: понос и рвота, вторая степень обезвоженности; если бы не двенадцать часов под капельницей – глюкоза и физраствор, – точно протянул бы ноги. Когда он вышел из больницы, власти уже приняли ряд мер по противодействию подрывной раскольнической деятельности, его удостоверение советского эмигранта оказалось фальшивкой чистейшей воды – и он никуда не смог уехать…
Это было еще хуже, чем когда в пятьдесят седьмом его осудила рабочая группа. Он хотел броситься в реку Или, повеситься на брючном ремне, выпить крысиный яд.
Он не совершил самоубийство. Он нашел то место, где его «спасли» пять лет назад. Он толкнул калитку на высоком крыльце, вошел в сумрачный коридор, на всякий случай покричал:
– Латиф-ахун!
Вышел человек. Майсум остолбенел от испуга: знакомое лицо, оспины на белой коже, жидкие брови, кривой выступающий нос, крупная родинка на нижней скуле и прядь волос на ней – этот человек пять лет назад входил в ту рабочую группу, которая рассматривала его дело и выносила решение – Алимамед, руководитель компании в управлении торговли округа!
– Я… ошибся дверью, – промямлил Майсум, пятясь к выходу.
– Ошибся дверью? Ну что за выражение! – Алимамед рассмеялся. – Разве мы не знакомы? Входите!
Майсум, поколебавшись, все же вошел в гостиную. В его ушах еще звучал строгий, властный голос Али, который тогда методично и размеренно осуждал его.
– Вы… не смогли уехать? – спросил Али.
– Я… – не зная что сказать, Майсум неловко и беспокойно ерзал, как курица со связанными ногами.
Али едва заметно улыбнулся и сказал дружелюбно и участливо:
– Я хотел было послать человека сказать вам, что лучше не уезжать, но в те дни все было так сумбурно. Они думали только о том, чтобы самим уехать, некого было послать к вам. Так неудачно. Вы были слишком слепы. Вы были как в тифозной горячке, это неправильно.
– Вы говорите, что хотели отправить ко мне человека? Кого? Кто он?
– Какая разница кого? Нам незачем об этом думать. Лучше расскажите о своем положении. Судя по выражению вашего лица – как у женщины во время родов… – Али попробовал пошутить, но, увидев, что Майсум молчит, сказал: – Вы – элита и надежда уйгурского народа. Мы не можем уехать из Синьцзяна, и Синьцзян без нас тоже не может. Даже собака вдали от своего дома лает не так звонко. Но все же – что с вами произошло? – Опять молчание. Али продолжил: – Когда человек жадно глотает, он теряет лицо; когда он много болтает – теряет голову. А если слепо бежать куда-то… – он указал на ноги Майсума, – может случиться большая беда!
– Вы – дед? – выпучив глаза, вскрикнул Майсум.
– Какой дед? – холодно отмахнулся Али.
– Вы – тот аксакал, о котором говорил Латиф? – продолжал Майсум удивленно и радостно.
– Какой Латиф? Я же спрашиваю о ваших делах.
Майсум рассказал о себе. Али качал головой:
– Глядите-ка, как глупо вы себя вели! Вам следовало быть умнее, не суетиться, как некоторые тыквоголовые. Сейчас все сложилось не очень удачно… Но это ничего. Вы побыли начальником отдела, поели-попили, повеселились, порезвились – теперь пора в деревню: подышать свежим воздухом – он освежит вашу голову и сделает вас гораздо умнее. Что это вы плачете? Что? Все кончено? Ну что за слова! Вы же почти хаджи[3]3
Паломник; человек, совершивший хадж в Мекку
[Закрыть] – для таких у них политика очень мягкая. К тому же все это лишь вопрос времени. Зимой снег укрывает землю, под снегом – земля, в земле спят личинки…
После того, как Майсум стал членом Седьмой производственной бригады Патриотической большой бригады в коммуне имени Большого скачка, он еще дважды ездил к Алимамеду; к этой комнате с голубым потолком и резными деревянными ставнями и дверями, с алым ковром на стене было теперь приковано его сердце.
В это воскресенье Алимамед полулежал-полусидел, прислонившись спиной к стене; в зубах он сжимал пропитанный слюной носовой платок и с горькой миной массировал десну. Увидев вошедшего Майсума, он выплюнул платок и пояснил:
– Зуб болит.
– Вот, принес вам двух голубят – вашим детям поиграть, – Майсум почтительно вручил голубей и добавил: – Вы и сами знаете – мы теперь нищие, нет никакого достойного подарка, уж так неловко…
Алимамед усмехнулся и снова скривился от боли. Он взял в руки вращающего в испуге красными глазками голубенка, погладил его мягкие белоснежные перья:
– Какая красивая птичка! – Он пристально разглядывал голубя и постанывал: – Ох! Клянусь печенкой, несчастной жизнью своей… Ах! – он отложил голубя в сторону. – Как жаль! Сейчас еще не время баловаться голубями. Потом…
Майсум покачал головой и тяжело вздохнул. Алимамед внимательно посмотрел на него.
– Как же далеко это «потом»! Кто знает, увидим ли мы его?
– Вы потеряли веру!
– Да, веры еще осталось немного, но в то же время очень грустно. Лысого сняли, о войне никто не решается говорить. А здесь взорвали атомную бомбу. Сплошное хвастовство… – сбивчиво заговорил Майсум.
Лицо Алимамеда сморщилось еще больше, и он стал как молотком стучать кулаком по правой щеке, где у него была родинка с длинными волосами, – словно хотел выбить этот больной зуб.
– Говорят, совсем скоро приедет в село рабочая группа проводить социалистическое воспитание, – Майсум сделал жалобное лицо и просительно посмотрел на Али.
– Ну и хорошо, – Али говорил будто через нос.
Взгляд Майсума потух, он тихо и меланхолично сказал:
– Повсюду говорят только о классовой борьбе – о классовой борьбе и еще каких-то трех великих революциях…
– Да, – Али стал немного серьезней и перестал колотить себя по родинке, – ситуация очень серьезная. Целыми днями твердят о том, что ни в коем случае нельзя забывать о классовой борьбе. Но вам-то чего бояться? Истинный владыка бережет вас. Вы каждый день газеты читаете?
– Я не выписываю газет.
– Это почему же? Может быть, вы умеете воровать?
– Что?! Нет, что вы, нет… – Майсум вздрогнул.
– Вы умеете выделывать кожу, ткать ковры, плести циновки, класть печки, сучить пряжу, красить ткани… Нет?
– Нет-нет, вы…
– Не торопитесь. Другими словами, у вас ничего нет. Вы не владеете никаким ремеслом. – Видя замешательство и недоумение Майсума, Али довольно улыбнулся. – Но вы хотите самой лучшей жизни, хотите превосходить обычных людей – а на каком основании? Что у вас есть?
– У меня есть образование, я кадровый работник…
– А вот это правильно, – кивнул Али. – Культура, теория, политика – вот ваше искусство. Вы, я, все мы – политики. Но разве может политик быть настолько близоруким, так отчаяться и разочароваться? Разве он может, как вы, не выписывать газет, не вооружать себя самыми новыми формулировками и лозунгами? Вай-вай-вай, брат мой начальник отдела! Вай-вай-вай, господин Майсум! Неужели среди деревенщины вы понемногу стали такой же по-крысиному близорукой деревенщиной и видите только то, что у вас под носом? – Алимамед прервался, чтобы нанести еще несколько ударов по родинке, под которой пульсировала боль. – Все верно, сейчас говорят о классовой борьбе, хорошо; ни в коем случае не забывать – это не только для них сказано, но и для нас. Из нас уж точно никто не забудет. Мы живем среди бесконечных громких речей, это эпоха громких и пустых слов, одно громче другого, чем дальше – тем больше хвастовства и вранья; а все мы: русские, узбеки, татары, казахи, уйгуры – мы все самые большие мастера громких слов. Казахская поговорка: «Громкими словами можно дойти до неба» – громкими словами можно двигать горы! можно изменить весь мир, изменить вас, меня, можно повернуть вспять течение реки Или! Например: «ни в коем случае не забывать о классовой борьбе» – хорошо, очень хорошо! Однако кто с кем борется? это ведь не то же самое, что две армии выстраиваются друг против друга. Какие-то внутри– и внешнепартийные противоречия и столкновения, какие-то четыре – чистим, четыре – не чистим – тоже противоречия; какая каша, какой омач из них сварится? Я читал какие-то статьи в последнее время, там попадается такое, что просто страшно! Кадровых работников на селе рисуют такими черными красками! Ну ладно, пусть сами жарят себя в собственном же соку. Вам-то что переживать? Вы же самый простой, обычный член коммуны из народных масс. Вы даже можете быть передовиком, вы можете и справа и слева получать выгоду… Классовая борьба расцветает пышным цветом, так что если небо рушится и земля переворачивается, и никто ничего понять не может – разве это не выгодно для нас? Я ведь это все вам уже говорил. И еще говорил вам, что не надо ко мне часто приходить. Но сегодня вы пришли, – недовольно закончил Али.
– Я себе места не находил, – Майсум приложил ладони к груди.
– Да, главная причина – у вас недостаточно веры, а это для политика очень опасно. Сейчас я хочу, чтобы вы увиделись с одним человеком, он вам скажет то, что вы больше всего хотите услышать… – Майсум стал нетерпеливо интересоваться, с кем он должен встретиться, но Али вдруг повернул разговор в другую сторону: – Спасибо за ваш подарок. Скажите, я могу свободно распорядиться этими двумя голубками?
– Конечно.
– Может, мне следует их отпустить? – Али вопросительно и с издевкой смотрел на Майсума; по-видимому, он хорошо разбирался в этом вопросе: если голубя отпустить, то он полетит назад, к Майсуму домой – «подарок» сам собой вернется, это знают те, кто держал голубей. – Голубь должен быть в небе, рыба – в глубине моря, осел – под наездником, а шакалы и волки – в горных ущельях и густых лесах. – Внезапно он так быстро, что едва можно было уловить взглядом, свернул голубям шеи[4]4
Уйгуры, когда готовят голубей в пищу, не режут их, а сворачивают им шеи.
[Закрыть] – и свежая кровь брызнула на их белоснежные перья, на его руки и капнула на край штанины; безжалостно лишенные голов голуби в конвульсиях дергали лапами. – Их поджарят – будет хорошая закуска, можно угостить дорогого гостя, – сказал он и свистнул.
Из внутренней комнаты вышел человек в высоком белом тюрбане, с длинной бородой, в очень длинном чапане, по виду – важный мулла.
Майсум поспешил встать, приложил руки к груди и, поклонившись, поприветствовал муллу-ахуна.
«Уважаемый мулла» не ответил на церемонные слова Майсума как положено, зато сказал очень знакомым голосом:
– Вы меня не узнаете?
– Латиф! – вскрикнул пораженный Майсум.
Латиф приложил палец к губам.
– Вы откуда… Оттуда? – Майсума била легкая дрожь, по всему телу прошла волна – то ли страха, то ли отвращения, то ли радости.
Латиф зажмурил один глаз, поджал губы и тихонько кивнул.
Глава двадцать четвертая
Как была убита корова, или никакой выгоды для Нияза
Кутлукжан и Майсум меряются силами
Кувахан так спешила, что, входя во двор, забыла пригнуться и стукнулась лбом о притолоку. Она ойкнула, схватилась за голову и только тогда увидела Тайвайку, который сидел на пороге и ерзал от нетерпения. Увидев Кувахан, он поднялся и спросил:
– Так резать или не резать?
– Резать! Резать! Корова так болеет, что вот-вот умрет, а потом люди скажут… – тут она увидела дочку с маленьким братиком на руках, хлопнула ладонью – одной, заметьте! – Я что вам сказала? Почему дяде Тайвайку не налили чаю? Вот маленькая дрянь! Ну что ты за человек…
Девочка дернулась от такого неожиданного выговора, выпустила из рук братишку, тот шмякнулся на землю и заорал, а девочка от испуга заголосила вслед за ним. Кувахан с видом, полным отваги и решимости, бросилась вперед, но Тайвайку удержал ее:
– У меня еще дела, если надо, тогда – быстро!
– Да-да, быстро!
Кувахан спешила еще больше – не обращая внимания на ушибленный лоб и орущих детей, она довольно живо, почти бегом помчалась в хлев и выгнала наружу старую черную корову. Эта самая объявленная больной и приговоренная к смерти корова раскачивала головой, шла не торопясь, с важным видом – будто ей ни до чего нет дела, мотала хвостом, облизывала свой нос и совершенно не догадывалась об уготованной ей злой участи. Тайвайку хоть и видел, что здесь что-то не так, не хотел задавать лишних вопросов. Его задача – зарезать корову.
Когда корова дошла до дальнего угла двора, он махнул Кувахан, чтобы та ушла, снял с пояса толстую веревку, привычно опутал корове ноги, слегка потянул – и корова бессильно повалилась на бок. Тайвайку шагнул вперед, затянул веревку, стал на одно колено, быстрым движением выхватил из голенища сверкнувший острый нож, шаркнул пару раз по голенищу лезвием и длинно затянул:
– Ал-ла-а-акба-ар! – обращался, как положено, к великому Единому владыке перед тем, как резать животное.
Затем Тайвайку профессионально и умело, с холодным, бесстрастным выражением лица провел острым лезвием по коровьей шее, левой рукой держась за рог – раздался легкий хлопок, и пенящаяся, поначалу как солнце красная свежая кровь брызнула на несколько метров; старая черная корова протяжно замычала, ее розовый язык далеко вывалился наружу, глаза вдруг широко раскрылись, заблестели и застыли в одной точке…
Собрание закончилось, люди расходились, Лисиди помахал рукой, подзывая Ильхама и Нияза сесть поближе, и сказал Кутлукжану:
– Давайте вместе обсудим вопрос о корове Нияз-ахуна.
Кутлукжан отказывался:
– Вы поговорите, поговорите! А мне надо еще в мастерские. Я так скажу, Нияз-ахун: умерла так умерла. Корова, она так или иначе все равно когда-нибудь умрет. Да что там корова! ты, я, твоя-моя – все мы рано или поздно помрем! Не надо так сердиться-обижаться, и бригадиру не надо обижаться-сердиться. Это деревня, такие вот дела, хо-хо, хе-хе… – и вот таким образом, одновременно прощаясь, поправляя шапку, всех успокаивая своими приговорками, он и ушел.
– Похоже, у вас к начальнику бригады Ильхаму есть много вопросов, замечаний; давайте поговорим вместе, пусть он тоже послушает, – обратился Лисиди к Ниязу.
– Не о чем говорить! – фыркнул Нияз, и в его голосе была нотка усталости. Что-то не видно было той выгодной для него атмосферы, какую предсказывал Майсум: говорил, все кадровые работники забегают в испуге поджав хвосты. – Я только пришел спросить в большой бригаде – как быть с моей коровой? Вы этим будете заниматься?
– Бригадир Ильхам, вы здесь? – самой Ян Хуэй еще не было видно, а звонкий голос уже долетел до них, и Ильхам отозвался. Распахнулась дверь, и Ян Хуэй, как пулемет, засыпала его упреками: – Хороший начальник бригады! Вызываете меня по телефону, я иду пять километров, а вы спокойненько сидите в конторе, как чиновник, как большой начальник! – но, увидев Лисиди и Нияза, сбавила тон: – Ну и какая теперь программа действий? Корову уже зарезали, а меня зовете ее лечить? чтобы я все органы поместила обратно внутрь, а живот зашила? – говоря это, она толкнула свой чемоданчик-аптечку в сторону Нияза. – Здесь же должны быть не пенициллин и касторка, а душистый перец, имбирь! – чтобы вкусный говяжий бульон варить! – и, обернувшись, снова напала на Ильхама: – Вы же настоящий бюрократ!
Лисиди и Ильхам в недоумении переглянулись – что за чертовщина? – оба одновременно с одинаковым вопрошающим и недовольным выражением лица повернулись к Ниязу.
Ян Хуэй затянула головной платок, поправила очки, потом стала обмахиваться ладонями как веером, словно ей было нестерпимо жарко в этой комнате после проделанного бегом расстояния и пламенной речи. Совершенно не обращая внимания на присутствие Нияза, она продолжила:
– Я пришла в дом этого уважаемого Нияза, но сестра Кувахан не пустила меня. О-е! я еще не видела такого отношения к гостям! Наверное, Кувахан еще помнит возникшую у нее летом «неприязнь»? Летом, когда работали в поле, мы организовали женщин на отбор сортов пшеницы, все отбирали по колоску; а наша уважаемая сестра Кувахан швыряла пучками, не разбирая где овес, где ячмень, где дикая пшеница… Хорошо, что я пришла проверить, как идет работа. Я заставила ее все переделать. Говорят, за этот день ей записали только полтора балла, и она за спиной ругала меня. Ругаться нельзя, а работу все равно надо переделывать. Сегодня не пустила меня – так тоже нельзя. Я сказала ей: ваш начальник бригады говорит, что у вас корова серьезно больна, – а если это ящур? Надо немедленно осмотреть ее; если это серьезно, то весь ваш двор – и людей и животных – на карантин; может быть, даже придется временно прекратить транспортное сообщение между Или и Урумчи; в случае ящура надо немедленно доложить в уезд, в округ, в административный район и госсовет. СССР, Пакистан, Афганистан как соседние государства тоже должны будут принять меры… Только тогда она нехотя дала мне протиснуться во двор. О Небо мое! Корова уже висит под навесом – этот ваш здоровяк, который на повозке ездит – как его зовут? никак не вспомню! – уже разделывает тушу!
– Что, в конце концов, происходит? – с каменным лицом спросил Ильхам у Нияза, с усилием сдерживая гнев.
– Что ходит? каких гонцов? Опять ваша корова-морова! – Нияз прикинулся дурачком и заодно пытался поиздеваться над тем, как Ян Хуэй говорит по-уйгурски: – Я вообще ее южный акцент не понимаю!
– Тебя спрашивают, почему корову зарезал. Ты опять не понял? – крайне строго сказал Лисиди, употребив чрезвычайно редкое в разговоре между взрослыми «ты». Насмешка Нияза над Ян Хуэй его рассердила: как это можно так относиться к «нашей дочери»! Он задышал тяжело, как лев, собирающийся зарычать. Нияз невольно втянул голову.
– Э-э… да, – Нияз уже придумал, что сказать: – Корова уже очень сильно болела, как можно просто смотреть, как она помирает? А зарезать – так можно еще немного денег получить – а то заработанного даже на соль не хватает…
– Вашу корову нельзя продавать и нельзя есть, надо отправить мясо в больницу на анализ, проверить, не заразное ли оно, – честно попытался объяснить Ильхам.
– Как это, как это? Мясо чем виновато?
– Неизвестно, чем была больна корова, ее мясо может содержать вирусы, опасные для человека. Мясо надо отправить на ветеринарную станцию!
– Мясо нормальное! – Нияз сильно занервничал. – Я головой своей гарантирую! Если у кого живот заболит от этого мяса – я отвечаю! – он бурно жестикулировал и брызгал слюной.
– То есть корова ваша не болела? – холодно усмехнулся Ильхам.
– Нет, не болела… ой, болела-болела… то есть нет, не болела… – Нияз не знал, как ответить.
– То есть? Я для чего сюда прибежала, ради чего? Я что должна делать? Если вы тут считаете, что не надо звать санэпидемстанцию заниматься коровой Нияза, – тут Ян Хуэй встала, – то я пошла.
– Погодите, – остановил ее Лисиди. – Нияз еще не уплатил налог на забой скота; пусть наша дочь сообщит в налоговое управление.
Нияз возмущенно вскочил, громко двигая стол и скамейку, ни на кого не глядя сказал:
– Ну хорошо, мы еще поглядим! – то ли от возмущения, то ли от переживаний по поводу уплаты налога лицо его стало мертвенно-бледным, Нияза била дрожь – как малярийного больного во время припадка.
– Пока не уходите, – остановил его Лисиди взмахом руки. – Нияз-ахун, подумайте хорошенько, пожалуйста: почему вы так себя ведете? Зачем вы устроили цирк с этой коровой?
Вас в семье восемь человек, при старых порядках вы бы все умерли от голода и холода. Вам бы горячо любить социализм, быть хорошим членом коммуны…
Слова секретаря не возымели действия. Нияз, не дожидаясь, пока Лисиди закончит, повернулся и вышел, решительно, упрямо и непреклонно, подрагивая своим тучным телом при каждом шаге.
Ильхам, глядя на этот пейзаж, покачал головой:
– Я просто не понимаю: он не помещик, не кулак, а ведет себя так, как ни кулак, ни помещик не посмели бы. Социализм облагодетельствовал его – а он фактически ненавидит социализм. У него все мысли настроены против социализма и коллектива, ничего кроме смутьянства и безобразий. С такой энергией лучше бы разводил овец или выращивал чеснок – и денег бы заработал… – Ильхаму много еще хотелось сказать, обстоятельно поговорить с Лисиди, но, поглядев на изможденное лицо секретаря, он оборвал свои речи и сказал: – Секретарь, идите домой, отдохните.
– Угу, – буркнул Лисиди, но не тронулся с места.
Сегодня он слишком много говорил, грудь стала словно ватой набитая – ни вздохнуть, ни продохнуть, ни выкашлять… Ильхам это чувствовал, но не знал, чем помочь; он сказал:
– Я принесу вам горячего чая.
На лице Лисиди высветилась благодарная улыбка, но он помотал рукой и тихо спросил:
– Как вы думаете, почему Нияз снова поднимает шум? Может быть, он унюхал что-нибудь?
– И что же он мог унюхать?
– Брат Асим тоже выступил: не пускает Иминцзяна в кладовщики. Говорит, скоро будут «учить социализму» и всех ответственных работников станут давить и «выпрямлять». Какой-то начальник большой бригады сказал ему, что один такой попавший под разбор бухгалтер из-за страха перед критикой взял да и повесился.
Лисиди кивнул:
– В других бригадах похожая ситуация – всякое разное говорят про новое движение, в том числе было «выпрямлять» и «повесился»…
– Похоже, кто-то специально пускает слухи. Вот гады!
– Кто-то пускает слухи… – повторил Лисиди, глубоко задумавшись; сетка морщинок в уголках его глаз стала еще глубже. Он снова заговорил, но уже мягче: – И ведь не все это вранье.
– Что вы такое говорите? – растерялся Ильхам. – Не все вранье? То есть что-то из этого – правда?! Как так?
Лисиди продолжал задумчиво, как бы рассуждая вслух:
– Борьба – это сложно; как учить социализму, мы и сами толком не знаем. Борьба, борьба – конечно, будет борьба. Без борьбы все сгниет, переродится; а раз борьба, то изо всех сил – ну кто ж борется-то вполсилы? В ходе движения могут возникнуть разные сложные ситуации. Это будет непросто, но мы должны это испытание выдержать.
Ильхам не все четко расслышал из того, о чем говорил секретарь. Но весомость и смысл слов «сложная ситуация» и «выдержать испытание» он хорошо осознавал, поэтому слушал серьезно и внимательно.
Лисиди поднял голову и посмотрел на портрет Председателя Мао, висевший на стене напротив входа, – и светлая волна прошла по его изможденному лицу. Он искренне сказал:
– Мы должны верить массам, должны верить партии. Вроде бы так просто, когда говоришь это… А как непросто на самом деле! Мы сможем? Так, чтобы всегда, в любой ситуации?
– Конечно, – уверенно кивнул Ильхам, хотя у самого в душе была как раз полная сумятица. – Вы бы лучше шли отдыхать.
– Да, хорошо. Это… – Лисиди помедлил, как бы сомневаясь – спрашивать или нет – и все же спросил: – Что ты все-таки думаешь о начальнике большой бригады? Какое у тебя мнение на его счет?
– О начальнике большой бригады? – переспросил Ильхам. – Все проясняется понемногу… – и рассказал все что думал, ничего не скрывая.
Он не стал уходить далеко в прошлое, начал с шестьдесят второго года, когда вернулся из Урумчи и все видел своими глазами: в чьих интересах было поведение Кутлукжана, кому на пользу были его слова и поступки? Кому он доверяет, на кого опирается, кого отодвигает, против кого выступает – неужели все еще не очевидно? Что он всецело одобряет, что делает, а чему препятствует – это разве не ясно? Как он относится к делу революции, как относится к товарищам по партии, как проводит время – разве в этом есть хоть что-то от коммуниста? Какие-то темные дела, какие-то смутные ситуации… Ульхан одно время говорила, что это Кутлукжан вызвал из дома Исмадина тем вечером тридцатого апреля шестьдесят второго, а потом, когда стали допытываться, снова сказала, что не может вспомнить. Ленька в итоге все же рассказал Ильхаму что, насколько он слышал, Мулатов из Общества советских эмигрантов в апреле шестьдесят второго заходил к Кутлукжану домой и, возможно, не один раз разговаривал с ним. Об этом он тогда сразу же сообщил в партийные организации большой бригады и коммуны.
Секретарь Чжао разговаривал с Кутлукжаном – когда речь зашла о шестьдесят втором, Кутлукжан решительно отрицал, что у него были какие-либо проблемы – категорически, ничего, никогда. То, что говорили Ульхан и Ленька, не может подтвердить кто-либо другой и неубедительно с точки зрения закона. Когда все стало ясно с личностью Бао Тингуя, руководство пыталось провести работу – чтобы он и Кутлукжан рассказали о своих близких отношениях. Ни тот ни другой ничего говорить не стали. Кутлукжан считает, что у него-то все получилось – вся вода как с утки стекла, ни капельки не осталось; но так как раз и не бывает: если по воде плаваешь, капельки на перышках-то всегда остаются… Впрочем, народ не дурак. По меньшей мере можно сказать определенно, что Кутлукжан открыто занимается деятельностью, которая на руку ревизионизму, выгодна врагам, плохим людям – и невыгодна партии. Пусть даже и не ясны мотивы, которые им движут. Нет таких уток, к которым совсем не пристает вода, как бы хорошо ни были смазаны жиром перья – разве что только совсем не касаться воды. И нет таких дел, которые совсем не оставляют следов; любое явление показывает свою сущность – пусть даже искаженно, как отражение в воде. Кутлукжан – вот узел всех болезней в большой бригаде. Этот вывод становится все яснее с каждым днем. Однако, чтобы решить эту проблему, не хватит усилий нескольких ответственных работников большой бригады.
– Я хотел все передать в рабочую группу по социалистическому воспитанию, сейчас уже полностью готово; недостает лишь «четырех чисток» – как только подует свежий ветер обновления, так и слетит вся эта маскировочная вуаль, – сказал Ильхам.
– Это верно, вопрос давно назрел. Но самая полная картина – только по шестьдесят второму. Как приедет рабочая группа, мы сами сразу же инициативно объясним ей всю ситуацию и поставим этот вопрос, – сказал Лисиди. – А Майсум – как он ведет себя в последнее время? – снова спросил он.
– Не было каких-то новых серьезных проявлений. Единственное – какое-то притворство все время ощущается, на людях всегда заискивает, подлаживается. На собраниях такие передовые речи толкает, словно наизусть редакционную колонку из газеты цитирует… Но этой весной, когда ставил стену вокруг дома, выкопал фундамент на чужой земле – большой бригады «Новая жизнь». В последнее время он стал поживее, люди говорят, пару раз ходил к Ниязу, а раньше они совсем не общались. Еще ходил к Ясину, и еще, люди рассказывали, зазывал Тайвайку водку пить…
– Да, я был позавчера в мастерских – там многие только и говорят между собой, какой «начальник отдела» хороший или какой он нехороший – а как только я пришел, так сразу умолкли. – Лисиди на минуту задумался и опять спросил: – Ты как думаешь – какие отношения у начальника большой бригады и Майсума?
– Пока что ничего замечено не было – если не считать, конечно, того случая, когда Майсум только-только перебрался сюда и понес начальнику большой бригады подарок – два брикета фуча, а тот их не принял и Майсума строго отчитал.
– Ну да, про это точно все слышали.
– Но только вот члены коммуны говорят, что Майсум стал кассиром в мастерских исключительно благодаря бригадиру. И дом свой Майсум построил с его помощью. А у себя дома начальник повесил-таки на стену шелковый ковер – в прошлом году он надеялся было на Бао Тингуя, но тогда ковер до него так и не дошел, а в этом году, говорят, Гулихан-банум подарила…
– Правда? – удивился Лисиди, а потом довольно сказал: – У тебя – вся последняя информация, и такие детали!
Ильхам смущенно улыбнулся: какие там детали, какая информация – это же деревня! разве хоть кто-то укроется от людских глаз? Если ты только не слепой или сам не зажмурился и не заткнул уши, как некоторые делают, когда плавают; если ты с народом заодно – то столько услышишь, чего и не думал услышать! У каждого есть уши, язык, у каждого есть своя голова на плечах – и каждый что-то знает, анализирует, рассказывает… Есть, конечно, много такого, чего он не знает – вот, например, о чем думает Тайвайку…
Тут он поглядел на Лисиди, который что-то долго ничего не отвечал, – и вскочил.
– Пойдемте, вам надо отдохнуть. А я займусь организацией встречи.
Ильхам и Лисиди вышли. Не успели они распрощаться и пройти несколько шагов, как Ильхам услышал сзади резкий кашель и тяжелый стон. Он обернулся и увидел, что Лисиди, согнувшись, держится за ствол дерева – его тошнило. Ильхам бросился назад и, не удержавшись, вскрикнул:
– Секретарь? Вы…
Лисиди строго остановил его и слабым голосом сказал:
– Что кричишь? Ну подумаешь, сосудик в бронхах лопнул.
– Я отвезу вас в больницу, – Ильхам засуетился, словно пытался собрать секретаря в охапку. – Вообще-то, когда выпал снег – в тот день – не надо было вам выходить рыть землю для арыка…
– Иди, займись своими делами! А я сам о себе позабочусь. – Лисиди решительно худой, костлявой рукой отодвинул Ильхама, выпрямился, высоко поднял голову и ушел, тяжело и твердо ставя ноги.
Во второй половине дня Кутлукжан выбрался, наконец, из конторы большой бригады; он, во-первых, в глубине души радовался неразберихе и конфликту вокруг Нияза… Чужие ссоры, ругань доставляли ему радость – это качество еще с детских лет укрепилось в нем. С другой стороны, он был недоволен, что не узнал об этом деле заранее. Он разобрал по косточкам весь, что называется, ход событий этого «инцидента с больной коровой» и пришел к выводу, что без постороннего руководства Нияз не решился бы снова лезть на рожон. Он решил, что это наверняка Майсум дергал за ниточки. Майсум, несомненно; это его скрытый союзник. Его опыт, идейность, образованность и связи – все это, конечно, будет очень полезно. Однако репутация Майсума – «недоучившийся хаджи», это минус. В прошлом году, когда секретарь парткома уезда Салим был тут, эта история с подметным письмом… Похоже, Майсум не только почувствовал себя здесь вполне уверенно, не только сует руку во всякие дела, но еще и пытается занять более высокое, более важное положение – и даже размахивать перед ним дирижерской палочкой. Каков наглец! Все это он, Кутлукжан, давно предвидел: в тот самый первый раз, когда Майсум явился к нему с двумя кирпичами чая, он совершенно правильно сделал строгое праведное лицо и сурово отчитал Майсума, а потом раструбил повсюду, чтобы все знали. Потом-то Майсум разобрался в ситуации и усовершенствовал подход: потихоньку заслал в дом начальника свою Гулихан-банум с этими же двумя брикетами и добавил к ним два метра шелковой ткани. Пашахан с радостью все приняла, и довольная улыбка потом несколько часов не сходила с лица жены начальника большой бригады.
Конечно, сам Кутлукжан про эти подношения не знает-не ведает, но когда появилась вакансия в мастерских, то Кутлукжан всеми средствами и способами постарался определить туда Майсума. Вплоть до того, что когда утверждалось его назначение на эту должность, Кутлукжан еще раз припомнил историю с отвергнутым чаем как доказательство твердости и силы своих принципов, как доказательство того, что поступает принципиально невзирая на лица и отношения – и при назначении кассира также руководствуется одной лишь принципиальностью. Равно как и в предыдущем случае, Майсум тоже об этом «не имел ни малейшего представления» и пошел на должность кассира только потому, что подчинялся такому организационному решению. Вскоре после того снова приходила Гулихан-банум и принесла на этот раз изящный чайный набор – большие, средние и маленькие чашечки, всех по четыре – вот ведь, все-таки супруга начальника отдела, какие изысканные манеры! Ну а начальник большой бригады, соответственно, одобрил выделение «списанной» древесины Майсуму «на утилизацию» – чтобы он себе дом построил.








