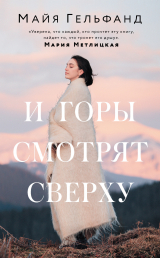
Текст книги "И горы смотрят сверху"
Автор книги: Майя Гельфанд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Майя Гельфанд
И горы смотрят сверху
© Гельфанд М., 2021
© ООО «Издательство «АСТ», 2021
* * *
Глава первая
– Вам надоели безобразные складки на лице? Вы устали от этих ужасных морщин? Вы хотите выглядеть на двадцать лет моложе?
– Да!!!
– Тогда у меня есть для вас революционное решение. Только наш «Антивозрастин» решит вашу проблему.
– Я не верю!
– Продемонстрируем это на нашей пациентке. Клара, 68 лет, не замужем, несколько десятилетий страдает от морщин. Думаете, ей нельзя помочь?
– Совершенно невозможно!
– Вы ошибаетесь! С помощью «Антивозрастина» наша Клара изменится на глазах. «Антивозрастин» сделан на основе крысиного яда и отлично справляется с возрастными изменениями кожи. Нанесем совсем немного «Антивозрастина» на лицо Клары и будем ждать результатов. Всего лишь через 56 минут вы увидите результат.
– Это невероятно! Клара молодеет на глазах! Где гусиные лапки? Где сморщенное печеное яблоко? Все исчезло! Клара теперь выйдет замуж!
– Да-да! Наш «Антивозрастин» творит чудеса. Но это еще не все! Закажите «Антивозрастин» уже сейчас – и вы получите еще два средства в подарок: «Антиобжирин» и «Супермозгиотшибин». И все абсолютно экологически чисто! Спешите оформить покупку, иначе будет поздно!..
«Да, в моем положении только мозгиотшибин может помочь!» – с тоской подумала я, выключая телевизор.
Мне срочно нужна работа! Не то чтобы эта мысль стала обескураживающей новостью, поиском работы я занимаюсь уже давно. Месяца два точно. Но в то утро проснулась, ясно понимая: если сегодня ничего не найду, то завтра помру голодной смертью.
В мои двадцать шесть пора бы уже знать, что работа нужна не для удовольствия или развития творческого потенциала, а для того, чтобы просто жить. Правда, до сих пор как-то удавалось находить подработки, скромно удовлетворяющие мои творческие амбиции и явно завышенное самомнение. Я была наборщицей титров, кассиршей, продавщицей готовых салатов… Но каждый раз моя трудовая деятельность заканчивалась сокрушительным и разгромным провалом – то я путала салаты, и вместо оливье с мясом запихивала в банку какую-то гадостную массу из майонеза и селедки; то принимала чеки, которые потом оказывались фальшивыми. А однажды стала объектом сексуальных вожделений рыхлого, потного хозяина киоска, в котором подрабатывала по ночам, продавая сигареты, выпивку и легкие наркотики. Короче, увольняли меня постоянно, и раз за разом я обнаруживала себя сидящей в длинной и унылой очереди в бюро по трудоустройству.
Сегодня, проснувшись с мыслью о том, что мне срочно нужна работа, я опять отправилась в знакомое бюро. На дешевых неудобных стульях с сиденьями из искусственной кожи и железными спинками, сидели такие же бедолаги, как и я. Одеты они были бедно, вели себя нагло, а лица их не выражали ничего, кроме тупой обреченности.
Когда я вошла в кабинет, меня встретила угрюмая крашеная блондинка невероятных объемов. Даже взглядом не одарила! Она щелкала длинными розовыми ногтями по клавиатуре, не поднимая глаз. Я долго стояла, съежившись, на пороге ее крошечной комнатки, но наконец вошла без приглашения и уселась на стул. На самый краешек, естественно. Блондинка подняла на меня суровый взгляд, в котором читались равнодушие и усталость.
– Мне нужна работа, – сказала я.
– Заполняйте анкету, – вяло ответила она.
Я села и в очередной раз уныло принялась писать. Хвастаться особенно нечем – образования, кроме школьного, у меня не было, особых талантов тоже. Ни яркой внешности, ни физической выносливости, ни сильного характера, ни, на худой конец, мощных покровителей… В общем – ничего такого, благодаря чему я могла бы рассчитывать на достойную работу и приличную зарплату.
– Есть работа на телефоне.
– Чего?
– Ну, работать телефонной девочкой.
– Это звонить людям и предлагать всякую фигню?
– Ну, типа того.
– Это все, что вы можете мне предложить?
– Пока да.
– Давайте, – вздохнула я.
Выглядело это примерно так:
– Здравствуйте! – бодро набрасывалась я на жертву. – Вы делаете страховые отчисления?
– Ну, делаю.
– Тогда у меня для вас прекрасная новость, не вешайте трубочку!
Если мне везло и трубочку не вешали сразу, я продолжала:
– У меня для вас прекрасная новость! Согласно новой поправке к закону о страховании вам полагается страховка по потере трудоспособности!
– Отличная новость.
Тут главное было успеть произнести свой текст максимально быстро, пока клиент готов слушать:
– Ага. В случае полной потери трудоспособности, то есть стопроцентной инвалидности, вам полагается ежемесячная выплата в размере четырех тысяч шекелей. И время ожидания первой выплаты – всего четырнадцать дней, а не три месяца, как раньше!
– Звучит оптимистично.
– Ага. Но и это еще не все! В случае производственной травмы вам полагается сделать анализы в течение семидесяти двух часов, а не трех суток, как раньше.
– Это, видимо, пункт для идиотов.
Теперь, когда разговор завязался, важно было держать клиента на крючке как можно дольше.
– Ага. Но и это еще не все! У вас кто-нибудь раком болеет?
– Вроде нет.
– А вы?
– Тоже вроде.
– Ну, ничего. – Я подпустила в голос капельку сочувствия. – Если вы заболеете раком, то вам полагается – и это только в нашей страховой компании, учтите, – вам полагается бесплатный волонтер, который будет сопровождать вас на всех процедурах и даже заполнять за вас документы!
– Очень заманчивое предложение.
– Ага. Но и это еще далеко не все! В случае смерти все расходы по транспортировке трупа мы берем на себя!
– Супер! И сколько стоит это удовольствие?
Ага! Вот момент моего триумфа! Главное, чтобы не соскочил.
– Всего семьдесят девять шекелей в месяц! Только сейчас и только два дня! По самой привлекательной цене! – ору я совершенно ошалевшим от счастья голосом. Мало кто дослушивал мой текст до этого момента. – Ну, что?
– Ничего.
– Берем?
– Ни в коем случае.
– Почему? – Тут я понимаю, что меня ожидает очередной облом.
– Меня один пункт смущает.
– Какой же?
– Вот про транспортировку трупа.
– И что же вас смущает?
– Вы чей труп будете транспортировать?
Такого поворота сюжета я не ожидала.
– Ваш, наверное, – неуверенно говорю я.
– Вот это мне и не нравится.
– А что вас не устраивает?
– Да за такие деньги я еще поживу!
Через четыре дня я опять сидела напротив блондинки с длинными ногтями. Она, как и в прошлый раз, встретила меня невидящим взглядом.
– Заполняйте анкету.
– Уже заполняла три раза.
– И что?
– И ничего. Не могу я на телефоне работать.
– Почему?
– Стыдно.
Блондинка хмыкнула и впервые взглянула на меня с интересом. В ее глазах я прочитала что-то, напоминающее удивление.
– Пока ничего нет, – сказала она после долгого раздумья. – Может, ты еще что-нибудь умеешь?
Я погрузилась в размышления.
– Вспомнила! – вдруг меня осенило. – Я в армии фельдшером служила. Может, это как-то поможет?
– Вряд ли, – охладила мой пыл блондинка, – но надежда есть.
Я вышла из бюро в самом угрюмом настроении. Денег не было, работы тоже, да и перспектив не просматривалось. Я села на лавочку в парке и развернула бутерброд с колбасой, который взяла из дома. Есть не хотелось. Хотелось плакать.
Скверик, где я оплакивала свою незадачливую жизнь, зажатый огромными многоэтажными офисными зданиями, находился в центре города. День выдался нежаркий, что редко бывает. Дул несильный, но ощутимый ветерок. Листья на деревьях колыхались ему в такт, голуби деловито хлопали крыльями, курлыкали, догоняли и клевали друг друга. Желторотые скворцы, скрытые между акаций и баухиний[1]1
Баухиния – цветущее дерево семейства цезальпиниевых.
[Закрыть], щебетали на разные голоса, заливались трелями и свистом, изредка высовывали свои черные головки и исполняли бесплатные сольные концерты для всех желающих. Солнце светило деликатно, как будто чуть застенчиво выглядывая из-за широких ветвей сикоморы, просачивалось сквозь яркие желтые мимозы, играло на огненных цветах красной акации.
Прилетела колибри с синей головкой. Она воткнула длинный клюв в цветок бугенвиллии и зависла на несколько долгих секунд. Я смотрела на ее крохотное тельце, блестящую головку, трепещущие крылышки с завистью и тоской – ведь это красочное и разнообразное буйство жизни не имело ко мне совершенно никакого отношения. Я чувствовала себя подавленной и несчастной. Моя жизнь была абсолютно бессмысленна и пуста.
У заливающегося в песне дрозда, у ползущей по земле улитки, у цветущего куста жимолости было какое-то тайное предназначение. У меня же не было никакого.
Настало время обеда. Офисные работники начали потихоньку, тонкой струйкой, вытекать из огромных сверкающих зданий. Высокие женщины на тонких каблуках, с развевающимися по ветру волосами, придерживая дорогие сумки, засеменили в соседние ресторанчики.
Я взглянула на свой бутерброд с дешевой колбасой и проводила их завистливым взглядом. Они принадлежали этому миру – блестящему, богатому, успешному… Они то и дело отвечали на звонки, в то время как мой телефон молчал по несколько дней. Они решали сложные и глобальные вопросы, в то время как я думала, как бы мне убить оставшееся время с минимальными потерями. Они ворочали огромными суммами, управляли вкладами, отслеживали тенденции на рынках, в то время как я с тоской размышляла, где бы мне разжиться парой сотен, чтобы хоть как-то дотянуть до конца месяца. Они были частью этого большого механизма, а я не подходила даже на роль мельчайшего винтика. Они продавали за большие деньги свои знания, умения и потенциал роста. Мне же продавать было нечего, кроме тела сомнительной привлекательности.
Вдруг зазвонил телефон. У меня? Я вздрогнула от неожиданности. Кому могло прийти в голову искать меня?
– Работа есть, – я сразу узнала хриплый голос блондинки из бюро по трудоустройству и впервые обрадовалась, услышав ее. – Но тяжелая. Не потянешь.
– Потяну! – пообещала я. Неужели? Что она предложит на этот раз? Модель? Нет, для модели я тяжеловата. Телеведущая? Нет, кажется, картавлю.
– Сиделка, – сказала блондинка. Я тут же представила ее длинные ногти, которые равнодушно барабанят по клавишам, пока она беседует со мной по телефону. – Женщина, старая. Плохо слышит. Плохо ходит. Ищет сиделку. Три уже отказались. Пойдешь?
– Пойду, – ответила я и тоскливо вздохнула.
Глава вторая
На следующий день я отправилась на работу. Дверь мне открыл высокий мужчина средних лет, лысый, худощавый, с несколько брезгливым выражением лица.
– Вы из агентства? – спросил он, окинув меня оценивающим взглядом.
– Да, – ответила я на иврите.
– По-русски говорите?
– Да, – ответила я.
– Это хорошо.
Мужчина буравил меня взглядом маленьких, умных глаз.
– Я должен вас предупредить, – сказал он хриплым, грубым голосом, – мама – человек тяжелый. С ней сложно ужиться. А вам придется видеться каждый день, по много часов… Вы понимаете?
– Понимаю.
Он продолжал изучать меня. Невысокая, коренастая, я никогда не блистала красотой, и если раньше спасало очарование юности, то теперь и оно стало меня покидать.
– Не думаю, что вы понимаете, – сказал мужчина.
Я съежилась под его тяжелым, пытливым, недовольным взглядом.
– Мне нужна работа.
Он промолчал.
– Присядь здесь, – указал он на стул возле круглого столика, покрытого клеенкой.
Я осмотрелась. Это была маленькая квартирка, опрятная, но несколько запущенная. Стены и потолки давно не белены, а в углах заметны следы плесени. Окна чистые, но рамы в некоторых местах расколоты. На полу кое-где виднелись трещины, на стенах – подтеки. В единственной вазе, стоявшей на небольшом полированном столе, – давно засохшие цветы. На выцветшем, то ли розовом, то ли фиолетовом, диване – пыльные подушки.
– Это она? – послышался старческий голос.
– Мама, ты только не волнуйся.
Я встала. Из темной глубины коридора медленно выползала старуха. Опираясь на ходунки, она с трудом двигалась по направлению ко мне. В комнате было жарко, но кондиционер не включали. Старуха, одетая в легкий халат и теплые тапки, согнувшись над ходунками, еле-еле передвигала ногами, при этом не забывая недобро поглядывать на меня.
Наконец она доплелась до стола и плюхнулась на стул, где я только что сидела.
– Ну? – она вопросительно посмотрела на меня.
– Здравствуйте! – Я пыталась говорить, как можно вежливей. – Я Ева.
– А мне какая разница? – Старуха сразу же поставила меня на место.
Удивительно – несмотря на дряхлость и немощность, глаза у нее были живые и умные. Темные, глубоко посаженные, с сохранившимися ресницами, они смотрели внимательно, словно заглядывая в самое сердце.
– Что умеешь делать?
– Вообще-то, в мои обязанности входит ухаживать за вами. – Я попыталась встать в защитную позицию.
Она только усмехнулась:
– Гулять я не буду. Не в детском садике.
– Хорошо.
– Готовить мне не надо, я твою отраву есть не буду.
– Хорошо.
– Читать мне не надо, сама грамотная.
– Понятно.
– Телевизор я не смотрю, там сплошная дрянь.
– Ясно.
– Что тебе ясно? Что ты тут делать собираешься?
Я была совершенно обескуражена. Делать мне действительно было нечего, разве только окна мыть…
– Окна мыть.
Старуха взглянула на меня вновь.
– Окна, говоришь? Ну, бери тряпку и мой.
Все это время мужчина, видимо, приходившийся старухе сыном, недоверчиво и придирчиво глядел на меня.
– Где ведро? Вода?
– Я сейчас покажу, – сказал он и повел меня к чулану. Спиной я чувствовала на себе старухин взгляд.
– Да, у мамы характер сложный, – сказал он, как будто оправдываясь. – Но ты привыкнешь… Наверное.
– Я – Ева, – решила я представиться.
– Я – Роман.
– Ну, что ты там копошишься? – послышался недовольный старухин голос.
– Иду, иду! – ответила я.
Я вернулась в комнату, где она сидела, с ведром и тряпкой.
– А у вас тут средство для чистки окон есть?
– Чего это? – Старуха злобно взглянула на меня.
– Ну, чтобы окна мыть. А то как тряпкой-то… – Я растерянно взглянула на тряпку.
– Вот, газету бери, – предложила она. – Газета – самый лучший способ. Мы так раньше всегда делали.
– Мама, раньше газетой и кое-что другое делали! – попытался вступить в разговор Роман.
– Ну и что, что жопы подтирали! Зато больных не было, все здоровые. Это вы теперь гнилые. То у вас аллергия, то пневмония, то родильная горячка!
– Нет, это невыносимо, – вздохнул Роман. – У тебя есть нормальные чистящие средства?
– Нету ничего, – огрызнулась старуха и обиженно отвернулась.
– Ладно, я сейчас сбегаю в магазин, – сказал он, обращаясь ко мне, и вышел из дома.
В тот день я перемыла все окна, надраила полы и вытерла пыль. Таким образом я убила три часа, отведенные мне по расписанию.
По окончании первого рабочего дня я, толком еще не понимая, куда попала, вернулась домой. Мы жили с мамой в крошечной квартирке в районе городских трущоб. В нашем распоряжении были две маленькие комнатки, которые мы поделили не совсем честно: в одной был «зал», а также столовая, гостиная и моя комната, а другая полностью и безраздельно принадлежала матери. Кухней нам служил маленький закуток со столешницей, покрытой мрамором, на которой стояли электрическая плитка, чайник и тостер. Рядом примостились крохотный холодильник с двумя полками и совсем маленький столик, за которым с трудом умещались двое взрослых людей. В метре от кухни находились туалет, душевая кабина и стиральная машина. Большим преимуществом нашей квартиры перед другими был крошечный балкон, на котором в хорошие вечера можно было сидеть и смотреть на звезды, чего мы, по правде говоря, никогда не делали. Еще на балконе я развела палисадник и каждый раз рисковала жизнью, осторожно ступая по наполовину сгнившим деревянным половицам, чтобы полить растения. А недавно в нашем доме был праздник: мы купили кондиционер! Правда, платить за него придется ближайшие два года, да и электричество резко подскочило в цене, но зато теперь мы не изнываем от духоты и не обливаемся по́том в любое время суток, даже ночью.
Дом, в котором мы жили, был зажат между другими зданиями, так что свежий воздух здесь никогда не задерживался, а если и заглядывал ненадолго, то тут же, словно в ужасе, спешил покинуть наше тесное помещение. Но если с воздухом была напряженка, то с криками, воплями и всевозможными шумами – полный порядок! Звуки, свидетельствующие о человеческой и прочей жизнедеятельности, не смолкали ни на секунду. Сливной бачок, спущенный в соседской уборной, грохотал созвучно мерному стуку стиральной машинки за другой стенкой; лай потревоженной собаки, охранявшей ешиву[2]2
Ешива – религиозная школа для мальчиков.
[Закрыть] для мальчиков, очень удачно расположенную под окнами нашей, с позволения сказать, квартиры, звучал в унисон с криком петуха, которого завели на незаконно оттяпанном участке общего дворика особенно наглые соседи. Рев автомобилей, визг детей, стоны чьей-то страсти, неизвестно откуда взявшаяся музыка, сообщения по радио, которые передаются традиционно тревожным и вселяющим пессимизм голосом, ругань соседок, вопли мамаш, пьяные песни – этот концерт сопровождал наше скудное на события, но наполненное эмоциями существование.
Выцветший паркет, дырявые трубы, стены, покрытые упрямой, неотстающей плесенью, дешевые, подогнанные вручную шторы, прогнивший пол на балконе, старые, потрескавшиеся рамы на окнах – все это составляло декорации, в которых мы ежедневно проживали свою жизнь.
А запахи! О, эти запахи, которые влезают в горло, проникают под кожу, впитываются в клетки! Тушеная капуста и жареный лук, мясные котлеты и вареные овощи, гниющий мусор и собачьи экскременты… Ароматы эти перемешивались и создавали непередаваемый букет, который въедался в одежду, оседал на волосах и всасывался в мозги.
Но все-таки я любила наш дом и пыталась создать в нем, насколько это было возможно, некое подобие уюта. На стенах с замытыми пятнами повесила картины, на полках, которых было немного, расставила безделушки и ароматические свечки. Мне казалось, что эти ухищрения могли помочь скрыть неприглядность нашего существования, но в те моменты, когда я не врала себе, понимала, что уловки не работают: квартира наша жалка и убога, обстановка – бедна и нелепа, да и жизнь – бессмысленна и несчастна.
Мама встретила меня, как всегда, в халате и с сигаретой в зубах. У нее была такое обыкновение: в любое время года, вернувшись домой, переодеваться в старый халат и закуривать. По всей видимости, сегодня она не планировала изменять своей привычке.
– Ну как? – спросила она, выпуская дым изо рта.
– Устала очень, – ответила я нехотя. Мне действительно не хотелось ни с кем говорить. Несколько часов, проведенных наедине со старухой, лишили меня сил. – Сигарету дай.
Мама выдала мне сигарету, и мы вместе затянулись дымом.
– Понятно, – сказала мама, которой всегда все было понятно. – Долго ты там не протянешь.
– Нет, почему же… – уныло промямлила я. – Это же только первый день.
– Посмотрим, – усмехнулась мама и снова затянулась сигаретой.
Глава третья
Наутро я снова отправилась на работу. В тот день перемыла все стены, двери, две ванные комнаты и убила все отведенное мне рабочее время.
На третий день я перестирала белье, полила все кактусы (почему-то у старухи росли только кактусы), пропылесосила диван и два ковра.
Все это время старуха со мной не разговаривала, лишь изредка давала короткие, отрывистые указания:
– Здесь пятно. Иди почисти.
И я молча исполняла ее приказ.
– Тут плохо, пыль осталась. Иди вытри.
И я вновь без единого слова выполняла требование своей подопечной.
За это время я успела подробнее рассмотреть ее. Роста она была маленького и даже при моих скромных габаритах едва доставала мне до плеча. Комплекции полноватой, большой живот, как мешок, висел у нее где-то под грудью. По всей видимости, с возрастом она сморщилась и сжалась, как старый, застиранный носок.
Впрочем, как следует разобрать достоинства ее фигуры у меня не получалось, потому что старуха по большей части сидела на диване, а если и поднималась, то хваталась за ходунки и сгибалась в три погибели. Волосы ее были средней длины, до плеч, волнистые и абсолютно седые, лицо испещрено сетью морщин. На лбу и возле губ они походили на глубокие трещины, на щеках и подбородке – на мелкую паутину.
Но как и в первый день, меня поражали ее глаза. На дряблом старческом лице они казались особенно неуместными. Темные, горящие, умные, они словно прожигали кожу и заглядывали в душу. Я старалась не встречаться с ней взглядом, потому что знала: я его не выдержу.
Домой я возвращалась обессиленная. Чувствовала, что общение со старухой – даже не общение, а нахождение рядом! – высасывает все соки. Она, как ядовитый паук, впивалась в меня и тянула мои жизненные силы.
– Ну, я же говорила! – торжествовала мама. – Эта старуха тебя в могилу сведет.
– Но у нас нет выхода! – пыталась я взывать к ее благоразумию. – Чем мы будем платить за квартиру?
– А чем всегда платили? – Мама удивленно разводила руками и поднимала вверх густо подведенные брови. – Ведь выкручивались как-то.
– Нет, я не хочу «как-то», – вяло спорила я. – Я хочу жить нормально. Я хочу купить себе шмотки, я хочу нормальную свою комнату. Понимаешь?
Она лишь пожимала плечами. Эта жизнь, это убожество, которое нас окружало, эти запахи и вопли ее ничуть не смущали. Она привыкла к ним. Но я задыхалась здесь.
На четвертый день делать было абсолютно нечего. Я тупо сидела рядом со старухой на стуле у круглого маленького столика и смотрела на свои колени.
– Сидишь? – послышался скрипучий голос.
– Сижу.
– Почему не работаешь?
– Делать нечего.
– Ну пойди ковер подмети.
– Я только вчера пылесосила.
– Вчера не считается. Иди.
Я встала, тяжело вздохнула и поплелась за пылесосом.
– Пылесос оставь! – послышался приказ.
– Почему?
– Нипочему.
– И как же я буду ковер чистить?
– Веником.
– Чего?
– Ты что, не знаешь, что такое веник?
Честно говоря, я плохо представляла себе, что такое веник. Дома мы пользовались только жесткими щетками.
– Пойди в чулан, притащи веник.
Я отправилась в чулан. К моему удивлению, там действительно стоял веник.
– Намочи в воде, – командовала старуха.
Я окунула веник в воду и принялась подметать.
– Неправильно метешь! – послышался окрик.
– А как правильно?
– Ты метешь влево, а надо мести вправо!
Я послушно повернула движение веника вправо.
– Полоску, полоску оставляй!
– Какую еще полоску?
– Ровную. Чтобы ровная полоска оставалась. Ты что, не видишь? Ворс в одну сторону должен быть направлен, ровненько. А у тебя вкривь-вкось. Руки кривые!
– Ну хватит! – Я бросила веник. – Больше я подметать не буду. Это не входит в мои обязанности!
Старуха молчала. Я не могла понять, что означает это молчание. Неужели готовит новую пытку?
– Тебе сколько лет? – вдруг спросила она.
– Двадцать шесть.
– Муж есть?
– Мужа нет. И детей нет. И денег нет. – Я помолчала и добавила: – И жизни тоже нет.
– Не бросай слова на ветер. Бывает так, что жизнь меняется за считаные месяцы. А иногда даже за дни.
– У меня такого никогда не было.
– Как же это ты так? Уже под тридцать, а ничего нет?
– Вот так. Не сложилось.
– Это потому, что ты некрасивая. Я вот в молодости красивая была… Все на меня засматривались. Помню, к отцу специально гости заходили – на меня посмотреть.
– Повезло, – ответила я хмуро.
– Думаешь? – Старуха усмехнулась. – Не принесла мне счастья красота…
Мы замолчали.
– Поди-ка сюда, – скомандовала она.
Я молча поднялась.
– Помоги мне добраться вон до того кресла, – и она указала кривым пальцем на кресло-качалку в дальнем углу комнаты.
Я подставила руку, и она оперлась на нее. Несмотря на дряхлость, хватка у старухи была крепкой, а рука – тяжелой. Мне пришлось тащить ее практически на себе, и, пройдя каких-то жалких три метра, я вспотела и раскраснелась.
Наконец старуха уселась в кресло.
– Подай плед! – приказала она.
Я принесла теплый плед без лишних вопросов, хотя в комнате было жарко, укрыла ее ноги, подоткнула с боков.
Она чуть откинула назад голову, закрыла глаза.
– Слушай.
И начала рассказ.
– Шла китайка с длинным носом, подошла ко мне с вопросом… – пропела она.
– Чего? – Я выпучила глаза.
Она хитро улыбнулась:
– Да ладно, шучу, шучу. Слушай…
* * *
1895
Ханох Ланцберг жил в маленьком городке в Литве. Он был сапожником – тачал мужские ботинки, мастерил дамские туфли, тонкие, на каблучках, делал тяжелые меховые сапоги и всякую кожаную мелочь. Среди местных евреев слыл хорошим мастером. К нему часто приходили клиенты. Они болтали, жаловались, пытались шутить… Ханох принимал их сурово, говорил с хрипотцой и, придавая своему некрасивому лицу с большим, будто придавленным, носом и маленькими умными глазами, вид строгий и чуть насмешливый, споро и добросовестно выполнял свою работу. Женщины его побаивались, мужчины уважали. Гордостью Ханоха была борода – в меру окладистая и густая, очень красивая и блестящая. О нем ходили разные слухи: мол, соседей не жалует, к родне не ездит, сторонится всех, – словом, мезынтроп, как сказал про него ученый Гришка, вернувшийся недавно из самой Вильны с папиросами в кармане и модной шляпой на голове.
Ханох был женат. Супруга его, женщина грубоватая, всегда мешковато одетая, была столь незаметной, что никто уж и не вспомнит теперь ее имени. Лишь одна деталь всплывала в памяти, если вдруг, редко, речь заходила о ней: огромное пушистое родимое пятно на щеке, которое кровило всякий раз, когда наступала зима, и она начинала исступленно сдирать засохшую на холоде корку. Кровавое пятно придавало женщине отталкивающий вид, и за ней тоже сохранилось прозвище мезынтропка, хотя ее настоящей сущности никто не знал, да и не интересовался особо. Детей у них не было, и об этом нюансе их жизни тоже любили посудачить злобные кумушки, обремененные вопящим детским выводком. Ханох никакого внимания на эти пересуды не обращал, а держался невозмутимо и отстраненно.
Как бы то ни было, но однажды пришла в их дом беда. Она материализовалась в виде прыщавого и нахального молодого человека, который как-то утром, чуть рассвело, громко постучал в дверь. Не дождавшись ответа, незваный гость нагло ворвался внутрь, подняв чертыхавшегося хозяина с постели, и, зачем-то засучив рукава, выудил из кармана несвежий желтый листок бумаги, принял торжественный вид и громко зачитал:
«Всем мужчинам еврейской национальности в возрасте от 18 до 35 лет велено явиться в означенный день и час в рекрутский дом для производства проверки годности оных лиц для приема в армию. Неявка будет расценена как дезертирство и будет караться по закону, а именно расстрелом.
Командующий К-ским округом
капитан царской армии Лебядко».
Затем парнишка скрылся, оставив за собой отчаяние.
В доме полуслепой одинокой бабы, близ костела, была устроена некруцке[3]3
Рекрутская (искаж.).
[Закрыть], где охраняли созванных рекрутов. Там же проверял их на годность специальный военный врач.
Каждый боялся попасть в армию, поэтому и придумали систему охвотников. Охотниками были бедные еврейские парни, которые соглашались идти в солдаты по найму вместо призванного рекрута. Наниматели кормили их хорошо, вдоволь, чтобы врач не забраковал по слабосилию. И все их прихоти исполняли. Даже пословица ходила такая: «Эр нэмт зих ибер ви ан охвотник», – мол, жрет как свинья. И капризничает, как красавица какая. За охвотниками родственники рекрутов следили похлеще, чем иные царские стражники: вдруг сбежит, каналья, и все старания будут напрасны! А рекруты нарочно питались плохо, чтобы на врачебном осмотре их признали негодными по состоянию здоровья.
Но вот подкралось время «приема». На площади у здания, где заседает воинское присутствие, толчется народ, испуганный, с заплаканными глазами. Ждут приговора. Вот вышел один, молодцеватый щеголь. Шапкой машет счастливчик: отпустили! Вместо него теперь охвотник служить будет. А вот выводят молодого еврея, бледного, шатающегося, остриженного налысо. Раздаются крики: «Признали годным, забрили лоб!» – и в ответ громкие вопли родных. Плачут родители, плачет жена, орет ребенок. Все они прощаются с «погибшим», может, на долгие годы, а может, и навсегда…
Ханох оказался, как на грех, абсолютно здоров. И к помощи охвотников прибегать не стал. Молча собрался, взял сухарей, еще немного какой-то снеди, прихватил свои сапожные инструменты – шило, нитки, тачанку, сухо поцеловал жену и ушел вместе с отрядом полураздетых, худых скорняков и врачей, извозчиков и егерей, лавочников и стеклодувов. Жена его еще долго кричала, бесновалась, заламывала руки и причитала. Но никто ее криков уж не слыхал: счастливчики разбрелись по своим домам, обнимая «спасенных», а те, чьих родственников забрали, оплакивали их каждый по-своему, втихаря.
Во время службы Ханох продолжал работать сапожником. Это уж потом, много позже, стал он снова вытачивать изящные дамские туфельки да лакированные, из тонкой кожи мужские ботинки, а в то время приходилось латать простые солдатские сапоги. Обувь тогда делали наскоро, как попало, из кожи зарезанного скота, а он к каждому башмаку подходил обстоятельно, заботился о нем, как о ребенке, стараясь вложить в грубую мужицкую обувь и тоску, и любовь, и грусть, и ожидание, и усталость, и надежду, и нежность.
Скоро он стал незаменимым человеком. Его ценили и уважали, но близко сходиться с ним боялись.
О чем он думал? О чем мечтал? Что снилось ему по ночам? Куда улетали его мысли в те моменты, когда стучал он своим молотком по облезлым вонючим сапогам?
Может быть, ему снились дальние страны, новые впечатления, неожиданные встречи? Может быть, любовь женщины, дом, дети? Хотя в его-то возрасте полагается оставить срамные мысли, считается, что жизнь уже осталась позади. Но он продолжал надеяться и мечтать.
Случилось ему добраться и до азиатской степи. Оказавшись на окраине страны, в крошечном городке, зажатом между шелковистыми зелеными горами, душном, потном, но отчего-то удивительно обаятельном Верном, Ханох обомлел. Такого изобилия фруктов и овощей, мяса, круп и ягод он не видывал никогда в жизни. А о такой дешевизне и мечтать не мог.
Что такое восточный город в конце девятнадцатого века? Залитый солнцем – солнце на Востоке бывает коварным, от него и жизнь и соки земли, но и смерть, удушье, – заполненный пылью, потом, воплями торговок и криком муэдзина. А что такое восточный город, ставший частью огромной империи и находящийся на земле кочевого народа? Это сумасшедшее смешение языков, цветов кожи и волос, тембров голоса и взглядов на жизнь.
И конечно же горы. Горы, горы, горы… Повсюду великие, прекрасные, разноцветные горы, повидавшие на своем веку и кочевые племена древних саков, и захватнические орды монголов, и жестокие нашествия джунгаров. Эти горы видели столько, что их уже было невозможно ничем удивить.
В Верном, в отличие от других городов империи, к евреям относились терпимо, даже с некоторой симпатией. Слишком много здесь было намешано кровей, слишком тесно сплелись людские судьбы. Однако и тут главной проблемой оставалось право проживания, которое евреи получали с большим трудом, и любая провинность, будь то донос соседа или просроченный документ, могла привести к депортации целой семьи. Причем опасность эта грозила не только мелким ремесленникам, но и богатым купцам, нотариусам, докторам и аптекарям. Поэтому евреям приходилось дружить с местным полицейским начальством. Тем же, у кого не было денег на дружбу, оставалось уповать на Всевышнего. Евреям запрещалось заниматься винокуренным производством и владеть пивоваренными заводами. Те, кто побогаче, шли учиться в университеты, преодолевая все возможные процентные нормы, кто победнее – осваивали ремесла, и это позволяло им передвигаться по просторам Российского государства в поисках лучшего места…








