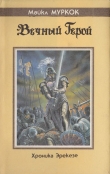Текст книги "Мультивселенные Майкла Муркока. Интервью для радио Свобода"
Автор книги: Майкл Джон Муркок
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Мультивселенные Майкла Муркока. Интервью для радио Свобода
16.12.2009 21:00
Анна Асланян (Лондон), Дмитрий Волчек
Дмитрий Волчек: Выпуск Поверх Барьеров подготовлен к 70-летию Майкла Муркока – писателя, у которого в России великое множество поклонников. Муркока начали издавать на русском в 1990 году, и перечень его книг, вышедших с тех пор, занимает в Интернет-магазине “Озон” семь страниц. В списке этом не учтены, разумеется, подпольные советские издания – в начале 80-х я читал сагу о похождениях принца-альбиноса Элрика, самого известного героя Муркока, в самиздатских переводах, и хорошо помню алые обложки этих самопальных машинописных брошюрок, которые где-то доставал мой одноклассник, увлекавшийся фантастикой. В библиографии Муркока – почти сто произведений, большая их часть адресована подросткам, но британские критики отмечают не только его достижения в жанровой литературе: книга “Лондон, любовь моя”, например, вошла в опубликованный в этом году в лондонской “Таймс” список лучших романов, написанных за последние 60 лет. Анджела Картер определила творчество Муркока так: “гигантская театральная постановка о борьбе добра со злом”. Говоря о секрете его успеха, она же пришла к выводу, что “все дело в трудолюбии, энтузиазме и высокой скорости письма”. Сам Муркок утверждает, что в лучшие времена он ежедневно выдавал на гора до 15000 слов. Корреспондент Свободы Анна Асланян встретилась с Майклом Муркоком в Париже и первым делом поинтересовалась, как ему удалось написать столько книг.
Анна Асланян: Неужели подобная сверхпроизводительность возможна?
Майкл Муркок: Я вырос среди авторов – главным образом авторов легкого чтива, – которые умели писать с такой скоростью. И ничего такого уж необычного в этом не было – нет, серьезно. Знал я и таких писателей, которые могли закончить книжку в два дня. Я еще, помнится, говорил: на самом деле на это уходит два дня, но нужен еще третий, чтобы как следует все отшлифовать. Однако ничего из тех своих книг я ни разу не перечитывал – ни разу. Как-то, знаете, скучно... Жанровая литература мне, на самом деле, не особенно нравится. Странная ситуация – я ведь фэнтези вообще не читаю. Речь тут, разумеется, идет о книгах именно жанровых: триллеры, фэнтези – одним словом, какой-нибудь отдельный жанр. А жанр как таковой меня не очень привлекает. Мне интересна та стадия, когда книга только начинает формироваться; еще до того, как она сложится в определенном жанре; когда сама вещь только пытается вписаться в какой-нибудь жанр. И еще интересно, когда в игру вступает сатира на жанр, в том или ином виде; то есть, когда в результате выходит нечто совсем другое – книга, посвященная собственно жанру. Взять, например, вестерн. Знаете фильм “Пылающие седла” (Blazing Saddles), это пародия на вестерн; вот он мне понравился. Хотя на самом деле мне вообще нравятся вестерны, так что это плохой пример – вестерн, пожалуй, едва ли не единственный жанр, который я люблю, так что... Но вот детективы мне не нравятся. Если я и писал детективные романы, то они всегда были либо комические – опять-таки, пародия на форму, – либо форма в них каким-то образом использовалась в качестве своего рода, ну, интеллектуальной шутки, что ли.
Анна Асланян: Вы часто подчеркивали, насколько важна для книги структура, заметив однажды, что “мораль и структура неразрывно связаны между собой”. Есть ли у Вас какие-либо правила на этот счет?
Майкл Муркок: Во всех моих книгах за структурой стоит некая математика – моего собственного изобретения. Попытайся я кому-нибудь это разъяснить, покажется, наверное, что это какое-то безумие. Да что там: я однажды попытался, и мне самому так показалось. Структуру – по крайней мере, в каких-то случаях – я определяю так: сначала надо решить, какое число взять за основу и какие единицы измерения использовать в отдельных частях книги. Обычно я заранее решал, сколько в книге будет слов, как это количество разделить на главы. Так, в романе “Лондон, любовь моя” (Mother London), если я правильно помню, там... да, там все делится на шесть и на двенадцать: в каждой главе по шесть или двенадцать тысяч слов.
Анна Асланян: Вот уж ни за что не догадалась бы – мне бы и в голову не пришло начать их считать.
Майкл Муркок: Да я вовсе и не рассчитывал, что начнете! Это ведь мой собственный способ, это не для читателя – понимаете, я же не ожидаю от читателя ничего подобного. Мне бы меньше всего хотелось, чтобы читатель начал исследовать книгу таким образом. Все, что я пытаюсь сделать – создать, насколько это возможно, ощущение спонтанности. Видите ли, искусство же не спонтанно; ну да, определенные его элементы – может быть... Но просто взять и выплеснуть все как есть на бумагу нельзя – по крайней мере, я так не могу.
Анна Асланян: То есть Вы пытаетесь натянуть на себя смирительную рубашку, чтобы избежать опасности слишком увлечься?
Майкл Муркок: У человека, по природе своей склонному к романтизму – если его, как меня, тянет к романтике, – внутри куча всякого материала, и все кипит... Приходится это сдерживать – обязательно, иначе наружу выплескивается нечто огромное, бесформенное. По крайней мере, так кажется мне – не у всех такое бывает.
Анна Асланян: Многие переключаются в подобных ситуациях на другой язык. К примеру, Сэмюэл Беккет начал писать по-французски ради пущей строгости. В английском – и дело тут не в том, что Беккет его лучше знал – позволяешь себе гораздо больше. Говорят, писать по-английски – все равно, что ходить босиком, во французском же подобной свободы нет: на тебе всегда ботинки, причем, туго зашнурованные.
Майкл Муркок: Ну, знаете, это дело очень индивидуальное. Именно это я имел в виду, когда говорил, что на бумаге подобные рассуждения выглядят безумием. Я знаю – пробовал, и действительно, возникает ощущение полного сумасшествия, если попытаться что-то такое объяснить. На самом деле, какая разница! По-моему, существуют писатели – причем среди них есть писатели замечательные, – которым романтический дух дается с трудом. Они, по сути, романтикой восхищаются и изо всех сил к ней стремятся. В некотором смысле на них смирительная рубашка уже надета. Я отнюдь не возражаю против смирительной рубашки, не хочу сказать, что это плохо – тут ведь вопрос личности, характера. Но, поскольку смирительная рубашка на них уже есть, они пытаются из нее вырваться. А у меня – как, полагаю, и у большинства моих друзей-писателей – ситуация другая: стараешься найти смирительную рубашку, которая придется тебе впору, такую, в которую поместится то, что ты пытаешься сказать.
Анна Асланян: Пытаюсь, но не могу представить себе писателя, который родился в смирительной рубашке. У Вас есть какие-нибудь примеры?
Майкл Муркок: По-моему, так было с Анджелой [Картер]. По-моему, Анджела тянулась к романтике, восхищалась ей. Но при этом ее последние вещи, где она выбирала темы гораздо более обыденные, чем в ранних своих книгах, были в каком-то смысле лучшими. Я это вовсе не к тому... Я люблю ее книги, я любил Анджелу – дело тут отнюдь не в том, что лучше, что хуже... Насколько я могу судить, среди моих знакомых писателей, тех, которые хвалили меня – знаете, я не хочу сказать, что я достоин похвал, но они сами их высказывали, – среди них много представителей так называемой социальной литературы. Энгус Уилсон, например... Однажды я сказал Энгусу Уилсону, что пишу социальный роман, и он пришел в ужас. Он уговаривал меня: брось ты это занятие, вернись лучше к своим... я в то время писал книги про Джерри Корнелиуса. Так вот, он говорил: зачем тебе наступать на горло собственной песне! Энгусом Уилсоном я по-настоящему восхищался. Да и вообще я читаю куда больше социальных книг, чем... как бы тут выразиться... романтической литературы.
Диктор: Светало. “Они то поднимались по склонам холмов, то спускались в долины – таков был типичный ландшафт самого северного лормирского полуострова.
– Поскольку Телеб К'аарна живет за счет богатых покровителей, – объяснил другу Элрик, – он почти наверняка отправится в столицу, в Йосаз, где правит король Монтан. Он попытается устроиться при каком-нибудь аристократе, а может, даже при самом короле.
– И когда же мы увидим столицу, мой господин Элрик? – спросил Мунглам, поглядывая на тучи.
– До столицы несколько дней пути, мой друг.
Мунглам вздохнул. Небеса грозили снегопадом, а шатер в его седельном мешке был из тонкого шелка, пригодного для более теплых краев на востоке и западе. Элрик же словно не замечал холода. Его плащ развевался за ним на ветру. На нем были штаны из темно-синего шелка, рубашка черного шелка с высоким воротником, стальной нагрудник, покрытый, как и его шлем, черным блестящим лаком и изящно украшенный серебром. К его седлу были привязаны две корзины, на которых были укреплены лук и колчан со стрелами. На боку у него раскачивался огромный рунный меч Буревестник – источник силы его и несчастий, а на правом бедре находился длинный кинжал, подаренный ему Йишаной – королевой Джаркора.
Время от времени Элрику и Мунгламу попадались небольшие деревеньки – несколько приземистых домишек из камня с соломенными крышами, но путники избегали их.
Лормир был одним из старейших Молодых королевств, и прежде история мира создавалась главным образом в Лормире. Элрик и Myнглам проезжали мимо земледельческих хозяйств, ухоженных полей, виноградников и фруктовых садов – деревьев с золотыми листьями, окруженных поросшими мхом стенами. Прекрасная и тихая земля, так не похожая на оставшиеся позади беспокойные, бурлящие северо-западные страны – Джаркор, Таркеш и Дхариджор”.
(Майкл Муркок, роман “Спящая волшебница”)
Анна Асланян: А Вам хотелось начать писать то, что Вы условно называете книгами социальными?
Майкл Муркок: Ну, мне необходимо было научиться их писать – необходимо было расширить свой репертуар. От природы я склонен в писательстве к тому, чтобы давать волю своему воображению... Вот мне и приходилось читать много социальной литературы, чтобы научиться этому самому. Мой любимый писатель – самый любимый из всех – Элизабет Боуэн, а ей, если вспомнить, доводилось писать истории о привидениях. Да-да, у нее действительно есть книги, которые к реализму никак не отнесешь, хотя, конечно, в основном, как Вам известно, ее вещи – весьма точно выписанные, относительно небольшие полотна с относительно небольшим числом персонажей. Так вот, ею я в действительности восхищаюсь, больше, чем кем бы то ни было... Читать Айрис Мердок мне становилось все сложнее и сложнее по мере того, как она отдалялась от реализма – просто потому, что мне очень нравились ее ранние вещи, гораздо ближе стоявшие к обычной социальной литературе. А когда она от этого отошла, я к ней как-то поостыл. Просто, чем дальше она писала и чем более философскими ее книги становились, тем меньше они мне нравились. По-моему, ранние ее вещи – они зачастую о романтиках, а не сами по себе романтические; они – о романтике. “Бегство от волшебника” (The Flight from the Enchanter) – типичный тому пример. Не знаю, может, дело в том, что, чем романтичнее она становилась, тем меньшему я от нее мог научиться. Другое дело писатели социальные, такие, как Элизабет Боуэн – вот у кого я учусь до сих пор. Конечно, мне до нее всегда будет далеко, я никогда в жизни не стану таким же блестящим стилистом, как она. Она мне нравится больше, чем Вирджиния Вулф – ну, это всего лишь вопрос личных пристрастий. И знаете, что странно? Насколько я понимаю, серьезные авторы – с Элизабет Боуэн я знаком не был, но знал других, в чем-то на нее похожих, работавших в таком же стиле, – так вот, они как раз любят читать научную фантастику и тому подобное. Тогда как я фантастику не переношу – не интересует она меня, и все тут.
Анна Асланян: Помимо фэнтези и научной фантастики, вы пишете и мейнстримовые вещи. Сложно ли переключаться с одного на другое?
Майкл Муркок: Да тут на самом деле все зависит от темы. В последнее время я пытаюсь делать другое – сводить их вместе; вот это труднее. А в остальном не могу сказать, что одно всегда сложнее другого. По-разному, конечно, бывает. Мои амбиции со временем выросли. Многие вещи мне быстро надоедают. Неохота постоянно писать одни и те же книжки, или книжки одного и того же типа. Так что даже научная фантастика и фэнтези у меня сильно изменились. И в результате этого я, по сути, потерял кого-то из читателей. Читателям ведь нравятся истории попроще, и чем больше я их усложняю, чем более амбициозными они становятся, тем меньше у меня читателей. Так бывает, это ведь совершенно нормально.
Анна Асланян: Похоже, тут, в Париже, поклонники у вас есть – правда, те, с кем я разговаривала, увлекаются только фэнтези, а про остальное даже не слышали.
Майкл Муркок: Да-да, я понимаю, о чем Вы – вообще говоря, если кто-то и попадается, то это, скорее всего, оказывается любитель фэнтези, по крайней мере, здесь. Ведь по крайней мере половина моих нефантастических книжек во Франции не издавалась. Так что нет ничего удивительного в том, что о них не слышали.
Диктор: “Перейдя через пешеходный мост от концертного зала Ройал-фестивал-холл к набережной Чаринг-Кросс, Джозеф Кисс остановился, чтобы взглянуть на поезд, потом долго смотрел на борющихся с ветром чаек, неспокойную воду, лодки с туристами, освещенные мерцающими лучами солнца. На миг он представил, будто земля все еще заселена чудищами, покрыта илом, гигантскими папоротниками и стоит доисторическая влажная жара, как на Миссисипи. Грохот поезда смолк. “Четырнадцать сорок шесть” пошел по своему обычному маршруту. Зазвучал кларнет. Это была джазовая мелодия, которая от порывов ветра казалась тактами траурного марша.
У Нортумберленд-стрит, с ее высокими, одинаковыми викторианскими зданиями, будто их изначально построили для размещения государственных учреждений, была одна привлекательная черта. В стороне от проезжей части, сбоку от Крейвена, уходящего под арки Чаринг-Кросс, стоял трактир, который Джозеф Кисс продолжал называть “Нортумберлендом”, хотя вывеску сменили лет двадцать назад на “Собаку Баскервилей”. Вычитав у Конан Дойля, что сэр Генри Баскервиль останавливался в отеле “Нортумберленд”, хозяева трактира разместили на верхней галерее экспозицию Шерлока Холмса. Отныне ужин завсегдатаев часто прерывался внезапным нашествием полусотни американских туристов во главе с гидом, который тащил их наверх, а через пять минут с тем же грохотом вниз, после чего все заказывали пиво и уже через четверть часа покидали паб. Джозеф Кисс заходил насладиться этим спектаклем, хотя иногда любил забрести сюда и в более ранний час, чтобы занять местечко в новом эдвардианском баре. Сегодня, для того чтобы успеть освежиться, у него оставалось не так много времени.
Он вошел в море спортивных курток и надвинутых на глаза кепок и понял, что напоролся на компанию японцев. Улыбаясь любезно, как дядюшка любимым племянникам, он приподнял широкополую шляпу и пожелал им доброго дня, полагая, что японцы остались одной из немногих наций, сохранивших в наши дни уважение к старомодной учтивости.
Он не жалел о том, что иностранцы заполонили один из его “родников”, как он сам когда-то назвал это место. Он считал, что туризм принес в Лондон разнообразие, поддержал общественные службы, которые в противном случае потерпели бы полный крах, и, самое главное, обеспечил лично его, Джозефа Кисса, постоянной аудиторией. Что хорошо для города, хорошо для него. В некотором роде это был симбиоз. Без японцев, решил он, я бы усох, и город вместе со мной.
Раскланиваясь и приподнимая шляпу, лучезарно улыбаясь и кивая, мистер Кисс вовремя поспел в бар и заказал пинту портера в прямом стакане”.
(Майкл Муркок, роман “Лондон, любовь моя”)
Анна Асланян: Вот эта вещь – “Лондон, любовь моя” – выходила по-русски.
Майкл Муркок: Да, и по-французски тоже, но издали ее, как ни странно, под маркой фэнтези. Ведь так же нельзя! У меня эти проблемы с издателями существуют давно – более или менее с самого начала. Проблема в том, что они считают: если книгу определенным способом подать, то можно привлечь определенного рода читателя. Но получается, конечно, совсем не так – читатель недоволен. И с романами про Джерри Корнелиуса произошло то же самое. Любители фантастики, которым в то время было, наверное, интересно читать про космос, или про будущее, или про что-нибудь такое, – так вот, когда Джерри Корнелиуса им подали как фантастику, им это страшно не понравилось, очень и очень сильно не понравилось, они так прямо об этом и заявили. Я разругался с издательством “Пенгуин”, забрал у них эти книжки, потому что они никак не желали расставаться со своей фантастикой. Я им говорю: те, кто читает научную фантастику, у вас эти книги не купит, те, кто читает другое – тоже не купит.
Анна Асланян: И вы ничего не можете сделать?
Майкл Муркок: Могу и делаю – чаще и настойчивее, чем большинство авторов. Но тут вот какая проблема: во-первых, у тебя складывается репутация человека несговорчивого, а издатели, соответственно... Издатели ведь любят легкую жизнь – пожалуй, в большей степени, чем представители остальных профессий. Поэтому, если с ними постоянно спорить, они не захотят тебя больше издавать. Так что это не в твоих интересах – да в этом смысле получается, что ни скажи, все не в твоих интересах. Когда “Лондон, любовь моя” подается как альтернативная реальность – а именно так и делается, – когда эту книгу называют фантастикой... Недавно в “Гардиан” был большой материал про книги различных жанров. Единственной из моих книг, которую включили в раздел “научная фантастика”, стала “Лондон, любовь моя”. Но “Лондон, любовь моя” – это не фантастика; там затрагиваются не те предметы, которые затрагиваются в фантастике. Для меня это – очень серьезное непонимание. Не знаю, читали ли Вы книги про полковника Пята – “Византия” и так далее, – но когда их подают как альтернативный мир, тем самым попросту сводят на нет то, о чем я пишу. Я же, черт побери, пишу про Холокост! Не про какой-то там воображаемый Холокост или альтернативный Холокост – я пишу о том, что произошло на самом деле, пишу по возможности ясно. И вкладываю кучу усилий в изучение материалов; знаете, у меня многие годы ушли на то, чтобы овладеть этой темой, и занимался я этим, поскольку не мог успокоиться, не мог найти других романов, где было бы, на мой взгляд, сделано то, что хотелось сделать мне. Понимаете, это значит – отрицать вещи страшно важные. Не то чтобы я переживал о том, понравится ли то, как меня подают, ученым-критикам. Когда меня представляют как автора, работающего в жанре фэнтези, я не переживаю, потому что, если речь действительно идет о фэнтези, то да, все верно – это как раз и есть фэнтези, это книги из серии “Фантастика и приключения”. Это как раз то, что пишется за три дня, а вот эта вещь [“Лондон”] – на нее у меня ушло как минимум недели четыре... [смех] Да нет, на нее у меня около года ушло.
Диктор: “Из-за угла появилась фигура, закутанная в чёрный плащ, сложенный на голове в форме капюшона. В одной руке он держал букет цветов, в другой – белый плоский ящик.
– Приветствую тебя, – формально обратился я к нему в марсианском приветствии. – Мы – гости в вашем городе, и ищем помощи.
– Какую помощь может оказать Кенд-Амрид любому человеческому существу? – мрачно пробормотал закутанный в плащ человек, и в голосе его не было ни единой вопросительной ноты.
– Мы знаем, что ваш народ практичен и полезен, когда речь заходит о машинах. Мы думали... – заявление Хул Хаджи оборвал странный смех закутанного в плащ незнакомца.
– Машины! Не говорите мне о машинах!
– Почему же это?
– Не спрашивайте ни о чём! Покиньте Кенд-Амрид, пока можете!
– Почему нам не следует говорить о машинах? Ввели какое-то табу? Народ теперь ненавидит машины? – Я знал, что в некоторых обществах Земли страшились машин, и общественное мнение отвергало их, поскольку в них видели бесчеловечность, и упор на машинерию заставлял некоторых философов обеспокоиться, что человеческие существа могут стать в перспективе слишком искусственными. На Земле я, как учёный, сталкивался иногда с такой позицией на вечеринках, где меня обвиняли во всех смертных грехах из-за того, что моя работа имела отношение к ядерной физике. Я гадал, не довели ли жители этого города подобные взгляды до воплощения в жизнь и не запретили ли машины, поэтому решил задать такой вопрос.
Но человек в плаще снова засмеялся.
– Нет, – ответил он, – жители города не ненавидят машины – если они не ненавидят друг друга.
– Твоё замечание невразумительно, – нетерпеливо бросил я. – Что случилось?
Я начал думать, что первый встреченный нами человек в Кенд-Амриде оказался сумасшедшим”.
(Майкл Муркок. Роман “Хозяева ямы”, 1969 год)
Анна Асланян: Значит, в каком-то смысле переключаться с одного на другое Вам все-таки приходится? И усилия в разных жанрах требуются разные?
Майкл Муркок: Ну да, приходится. Я соврал было, но тут вы меня поймали.
Анна Асланян: Вернемся к роману “Лондон, любовь моя”. Именно тут Вы пытаетесь совместить обе вещи – реализм и, если не фантастику, то абсурд.
Майкл Муркок: Да, элементы абсурда тут есть, но они не выходят за пределы обычного. То есть, влезть на дерево в Ботаническом саду Кью-гарденз, в теплице для тропических растений, все-таки можно, хоть это и нелегко. Комичное тут заключается вот в чем. Отвлекусь немного: комедия и фантастика тесно связаны между собой. И там, и там требуется преувеличение и сжатие времени. Понимаете, ситуация смешна, когда она разворачивается быстро. У меня довольно много комических сюжетов, и мне почему-то действительно так кажется: что фантастика, что комедия; как я уже говорил, в обеих имеется определенная доля преувеличения, а также – определенная доля ограничений временного характера. В смысле писательского труда они не так уж сильно отличаются друг от друга. При работе и над тем, и над другим задействованы одни и те же ресурсы. В общем, когда у меня этот... как его... Кисс влезает на свое дерево, все дело в том, что на самом деле события с такой скоростью обычно не разворачиваются. Вот что я, пожалуй, хотел на этот счет сказать.
Анна Асланян: Научная фантастика Вам как будто бы ближе, чем фэнтези – последнюю Вы называли эскапистской, пассивной, реакционной. Значит ли это, что фантастике более свойственно что-то менять в мире, проповедовать либеральные ценности?
Майкл Муркок: Нет, по-моему, и то, и другое – вещи реакционные. По-моему, и то, и другое – дань упрощенному восприятию мира. Фантастика, пожалуй, в большей степени... Жанровая литература вообще по большей части консервативна – вероятно, потому ее и читают, потому ее и пишут. Думаю, это именно так – большинству жанровых книг, по крайней мере тех, что я читал, присуще определенное консервативное... настроение, что ли. Отчасти это объясняется вот чем: при их чтении не ожидаешь никаких сюрпризов. Люди читают подобные книги – я читаю подобные книги, – чтобы в очередной раз, так сказать, получить удовольствие.
Анна Асланян: Разве Вы не пытались сделать этот жанр более радикальным? Я о тех книгах, которые Вы согласны считать фантастикой.
Майкл Муркок: Да – и проблема в том, что тут обычно мешает сама форма. Форма тяготеет к упрощению. Скажем так: с этой формой следует обращаться очень осторожно, иначе можно свести все, по сути, к формуле. Понимаете, идеи упрощаются – особенно в научной фантастике, – пусть даже сами эти идеи важны, пусть даже затрагиваются важные вещи: космос, общество будущего, да что угодно. Мне кажется, тут необходимо написать огромную книгу, или серию книг, для того, чтобы придать этому обществу будущего всю сложность реальной жизни, обычного восприятия. Одним словом, все нужно придумывать. Я вот не знаю: а стоит ли оно того? По-моему, этого вообще невозможно добиться. Дорис Лессинг, насколько я понимаю, в своей фантастике пыталась сделать именно это. И в результате получилось... в общем, как-то не особенно интересно. Это не самые интересные из ее вещей – так мне кажется.
Анна Асланян: То есть, такие попытки противоречат самой идее научной фантастики?
Майкл Муркок: Нет, что-то сделать все-таки можно... Скажем, кто-нибудь вроде Иэна Бэнкса – у него чрезвычайно левые взгляды, традиционно левые; потом, есть еще пара шотландских авторов, его приятелей, тоже весьма левых. Да что там говорить, у меня вообще довольно много знакомых-фантастов, известных своей левизной. Среди них есть социалисты, есть либертарианцы – это зависит от того, что они и где. Попадаются и либертарианцы правого уклона; в Америке таких много, правых либертарианцев. Ну, знаете, те, что устраивают чаепития и все такое в знак протеста против Обамы, поскольку считают Обаму социалистом.
Анна Асланян: Иными словами, сами они левые, но работают в консервативном жанре?
Майкл Муркок: Ну да, и это, по-моему, неудивительно – есть ведь консервативное левое крыло. Мне кажется, именно на эту удочку они и попадаются. Я бы сказал, что так произошло и с Иэном. И с писателями вроде него, с теми, которые пишут космическую фантастику, или не помню, как она там называется... “крутая фантастика” (“hard science fiction”) или что-то в этом роде – это где говорится о всяких механических штуках, не только о людях. Сам я никогда ничего из этого не читал; не могу я этим увлечься, что поделаешь. Но с Бэнксом я беседовал, читал интервью с ним, короче говоря, делал все, что мог, кроме одного – книг его не читал. В общем, у меня есть неплохое представление о том, как он мыслит, чего он хочет добиться своими книгами. Наверное, ничего плохого в этом нет – в том, например, чтобы написать фантастический роман, скажем, в анти-тэтчерском духе. Я не хочу сказать, что ничего из этого не выйдет, что против Тэтчер выступить не получится – почему же; но вот ничего нового из этого, пожалуй, действительно не выйдет. Ну, будут там, скажем, какие-нибудь стандартные левые идеи...
Диктор: “Если бы не террор, охвативший Францию в 1793 году и в конце концов принудивший меня бежать из Парижа, я, вероятно, так никогда и не узнал бы совершенной любви, не посетил бы Города в Осенних Звездах, где, – с помощью хитроумия своего, меча и остатков веры, – мне довелось вновь сразиться за будущее мира и утратить свое собственное.
В тот день, когда Том Пейн был арестован по особому распоряжению Робеспьера, я решил, наконец, распрощаться с революционными идеалами. Очевидно, что с моей стороны было бы благоразумней всего встретить новый 1794 год где-нибудь за пределами Франции.
Признаюсь, я все же не мог не испытывать некоторого отчаяния по поводу краха моей карьеры и крушения политических наших грез. Я чувствовал себя жестоко преданным: Революцией, людьми, которых я обнимал как братьев, неумолимыми Обстоятельствами и, – как это бывает всегда, – самим Господом Богом. Не будучи рьяным приверженцем как деспотии, так и дворянских всех привилегий, поначалу я восхвалял Революцию, а потом стал и служить ей, по крайней уж мере, сделался депутатом Учредительного Собрания. Но, когда кровь полилась чрезмерно и несправедливо, я поднял свой голос против разгула сего лицемерия и лжи, сей вырожденческой оргии мести и звериной жестокости!
Такова была вкратце суть моего заявления соратникам-депутатам с которым выступил я, когда сомнения мои обратились в уверенность после того, как стал я свидетелем "Дней сентября", – дней, когда Зверь рыскал во всей устрашающей своей жестокости по улицам Парижа, нахлобучив на голову шляпу Свободы и вытирая о флаг Свободы окровавленную свою пасть.
Впервые увидел я этого Зверя под сияющим небом позднего лета, когда на рю Дофин вывезли шесть карет с арестованными священнослужителями. Сначала толпа лишь обрубала руки, протянутые в окна, – руки, ищущие Милосердия,– а потом растерзала святых отцов в клочья. В тот же день чернь ворвалась в монастырь кармелитов, неподалеку от рю де Вожирар. Монахи все были зверски убиты, тела их – сброшены в монастырский колодец. Убийства невинных множились с каждым часом. Опьяненные произволом своим сентябристы тащили и старых, и малых, жалких безумцев и людей нормальных в тюремные дворы и там насаживали их на пики. Я привык уже к зрелищу груд изуродованных тех трупов. Тела бросали на улицах на потеху толпе. Сморщенные старухи волочили на тротуары еще не остывшие трупы молоденьких мальчиков, дергая и тряся бездыханных своих партнеров по чудовищному похотливому танцу в извращенной пародии на несбыточную человеческую мечту. В тюрьме Ла Пти-Форс с герцогини де Ламбаль сорвали одежды, опозорив перед толпою, и насиловали ее на глазах черни снова и снова. Ей отрезали груди, а потом, еще живую, вновь подвергли всяческим непотребствам. При этом мучители благородной дамы то и дело стирали кровь с ее кожи, дабы Толпа узрела аристократическую ее бледность. Когда бедная женщина наконец испустила дух, тот же самый "кавалер", что вырвал сердце у нее из груди, вырезал аккуратно ее интимные части, насадил их на пику и, поджарив на очаге в ближайшей же винной лавке, съел. Подобные бесчинства творились в те дни по всему Парижу. Я тогда едва не сошел с ума. Бедный мозг мой просто отказывался воспринимать этот ужас, это безжалостное крушение всех моих идеалов.
(Майкл Муркок, роман “Город в осенних звездах”)
Анна Асланян: Возвращаясь к теме издателей и их манере упаковывать книги по-своему: Иэн Бэнкс, которого вы упомянули, пишет свою фантастику под именем Иэн М. Бэнкс, чтобы читателю легче было разобраться. Вам не приходило в голову поступить подобным образом?
Майкл Муркок: Вообще-то немного жаль, что я этого не сделал. Но меня настолько волновало то, чем мы занимались в 60-е: мы пытались сблизить популярную литературу и литературу высоколобую. Это было движение, которое идет и до сих пор – знаете, Дэйв Эггерс в Штатах любит этим заниматься. Ну вот, а в 60-е мы действительно считали, что обычной английской литературы, достойно отражающей дух времени и общества, просто не существует. Как раз тогда же – примерно в то же время – на сцене появилось популярное искусство, художники начали использовать в своих картинах популярную символику, возник феномен “Битлз” – популярная музыка, но с большими амбициями. В этом смысле было ощущение, что можно в самом деле создать нечто одновременно популярное и значительное – значительное в интеллектуальном, если угодно, плане. Поэтому брать псевдоним мне не хотелось. Был такой писатель, Крис Прист, так вот, Крис посоветовал мне сменить имя, поскольку это выглядело бы более респектабельно: в книжках для интеллектуалов пользоваться своим собственным именем, а в ширпотребных – псевдонимом. Оказывается, такая схема работает. Результат – вот какой: тем самым ты даешь понять людям узко мыслящим, людям с предрассудками, что ты с ними согласен. А для меня это было совершенно несовместимо со всеми моими убеждениями. Я этого не хотел – я пытался создавать книжки, где эти две вещи ничто не разделяло бы. А стараться понравиться критику-снобу – такого желания у меня не было; у меня было желание от критика-сноба избавиться, вот что я пытался сделать.