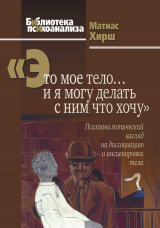
Текст книги "«Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу». Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела"
Автор книги: Матиас Хирш
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Функции отщепленного тела
Тело встает на место жертвы насилия. Тело как контейнерЖертвы травматизации совершенно беспомощны, они – мячики для игры и вещи для агрессора, который может творить все что угодно (в том числе и с ними), поскольку у него есть власть. Основная цель диссоциации тела как следствия травмы – создать в своем теле «не-Я», чтобы иметь объект, над которым жертва, в свою очередь, обретает власть, с которым она может обращаться по своему усмотрению в грандиозной идентификации с агрессором, подражании ему (ср.: Hirsch, 1996). Жертва становится властным агрессором, диссоциированное тело – жертвой. Артур Гольдшмидт (2007) выражает эту мысль даже дважды: «С телом можно делать что угодно…» (S. 187); «С телом можно было, напротив, делать что угодно» (S. 204). То же говорят и упрямые девочки-подростки о своем самоповреждающем поведении: «Это мое тело, и я могу делать с ним что хочу!». Это типичное высказывание и дало название книге. Или же они говорят: «Это мои руки, я делаю с ними что пожелаю и когда пожелаю!» – как это выразила пациентка Подволла (Podvoll, 1969, S. 220). Многие отцы-насильники и агрессивные матери тоже говорят: «Это мой ребенок, и я могу делать с ним что захочу!». Беате-Теа была жертвой такого отца[4]4
См. главу «Диссоциация тела в ситуации травмы».
[Закрыть].
Представление Шенгольда (Shengold, 1979) о вертикальном расщеплении частей «Я», обособлении как попытке совладать с травмой (аналогия с теориями диссоциации Жане уже упоминалась) хорошо применима к диссоциации «Я» и тела. В литературе тело обозначалось и как контейнер (Meltzer, 1986; Bovensiepen, 2002; Pollak, 2009), и как «не-контейнер» (Gutwinski-Jeggle, 1995). По этой модели тело становится сосудом, который вбирает в себя травматическое насилие, место, в котором травматический интроект вновь становится материальным, так сказать, экстернализируется в тело. Но если подумать о модели контейнера в категориях отношений, то оно обретает функции объекта. Оно словно тело того ребенка, ставшего когда-то жертвой насилия или агрессии, которое освобождает остальные части «Я» от идентичности жертвы. Такое понимание встречалось у Плассмана (Plassmann, 1989) в связи с искусственно вызванными заболеваниями. Подобно тому как пациентка искусственно вызывает болезни, есть матери, которые вполне сознательно вызывают у своих детей искусственные, зачастую опасные для жизни болезни: это замещающий синдром Мюнхгаузена, в динамике которого мать регулярно лжет (выступая Мюнхгаузеном), т. е. нуждается в ребенке и его заболевании настолько, что боится раскрытия истинной причины его болезни. В абьюзивных семьях ребенок (или дети) зачастую становится тем, кому адресовано содержащееся в семье насилие, его своеобразным контейнером. Динамику девочек-подростков, склонных к самоповреждению, можно понять именно так: девочка производит обмен ролями «преступник – жертва», делая жертвой свое тело. Теперь она агрессор, а не жертва, она не беспомощна и не должна подчиняться, она может принимать решения и обретает власть, которой у нее нет в других ситуациях.
Тело как суррогат материЭто происходит с каждым маленьким ребенком (по меньшей мере, в нашей культуре), который начинает воспринимать себя отдельно от матери и должен прийти к болезненному пониманию того, что утратил свое всевластие, которым иллюзорно обладал в слиянии с матерью, пока еще верил, что по собственной воле организует и контролирует материнское окружение. Разочарованный ввиду своей прогрессирующей способности к реалистичному восприятию и ментализации, ребенок создает у себя в фантазии суррогатный объект, над которым у него есть власть, который он может использовать как спутника, как утешение, в конце концов, как суррогат матери. Винникотт (Winnicott, 1971) совершил гениальное открытие, выяснив значение знаменитого плюшевого мишки. Конечно, это может быть и другой объект – куколка или одеяло, в любом случае объект этот мягкий, но это не сама вещь, а, скорее, фантазия, которая в ней воплощается. Винникотт расширил эту идею и перенес ее на область игры вообще, а оттуда – на креативную деятельность человека вплоть до религии – все эти создания можно понимать как переходные объекты, которые помогают человеку выживать психологически. Переходный объект маленького ребенка помогает ему заснуть. Когда ему уже нельзя лежать рядом с матерью, чтобы безопасно совершить тяжелый переход от бодрствования ко сну, тогда по меньшей мере переходный объект должен выполнить эту функцию – для многих детей заснуть без медвежонка немыслимо.
Более или менее патологическим образом собственное тело тоже может использоваться как переходный объект. Например, кто-то перед сном задумчиво трогает контур своего тела вновь и вновь, будто проверяя, целое ли оно, а потом спокойно засыпает.
Одного пациента, исполнившего свою детскую мечту стать капитаном (чтобы управлять огромным материнским кораблем), в детстве сильно бил отец. Он рассказал, что перед тем, как заснуть, он не укрывался в нетопленой комнате. Так он мог чувствовать, как мерзнет тело, и одновременно продолжал дело отца и наказывал себя сам. Уже Карл Филипп Моритц (Moritz, 1785/1972, S. 29) видел связь между самоповреждением, деперсонализацией и заботой о себе.
Сама мысль о собственном разрушении была ему не только приятна, она даже вызывала сладострастное ощущение, когда по вечерам он прежде, чем заснуть, живо воображал себе распад собственного тела.
Есть и другое измерение: тело берет на себя функцию объекта не только агрессии, когда посредством самоповреждения и истощения при анорексии оно становится идеализированным материнским спутником. В соответствующих главах я к этому вернусь. Собственное тело как объект в рамках психоаналитической травматологии занимает меня уже давно (Hirsch, 1989a, 1998a, 2002a). У многих пациентов, страдающих болями, можно наблюдать, что посредством боли тело становится ощутимым, оно существует, присутствует и таким образом становится своего рода спутником и, соответственно, особенно при длительной терапии, пациенток можно уличить в том, что они совсем не хотят избавляться от своей боли, мечтают сохранить ее, чтобы не остаться без нее в одиночестве (Hirsch, 1989c). И даже в случае семейного насилия, будь то насилие сексуальное, физическое или же (эмоциональное) пренебрежение: все было бы слишком просто, если бы агрессор был представлен в психике ребенка, а затем и взрослого пациента исключительно негативно. Ребенок бы не выжил, если бы отец и мать были исключительно врагами и насильниками – всегда есть и положительные черты. А посредством идеализации и идентификации с агрессором образ неудовлетворительных родителей становится более приемлемым. Ни один из детей, которые подвергаются насильственному обращению, не может отказаться от родителей, он не хотел бы добровольно покинуть семью (если не принимать во внимание экстремальные случаи, но в таких семьях ребенка можно обозначить как суицидального, ему уже безразличны как связи с родителями, так и связи с жизнью). Социальный работник, который желает ребенку добра и хочет забрать его из абьюзивной семьи, получит от ребенка своего рода подножку. Так же и пациентка держится за свое болящее или кровоточащее тело, потому что иначе она якобы окажется совсем одна. Кроме того, в восклицании «Это мое тело!» содержится бунтарский триумф, позитивный момент власти, ведь некоторые девочки выставляют свои вызванные самоповреждением шрамы напоказ с гордостью, словно амулет (Paar, DKPM-Frhjahrstagung, 1992), но чаще всего девочки эти шрамы все же скрывают. В любом случае анорексички гордятся тем, что создали в своем, уже стоящим на краю могилы теле антимать, не-мать, диаметральную противоположность матери с ее презираемым жирным телом.
Тело как переходный объектДаже собственное тело может использоваться как переходный объект: это известно с тех пор, как Джон Кафка (1969) опубликовал работу «Тело как переходный объект: психоаналитическое исследование самоповреждающего поведения пациента». Пациентка Кафки сравнивала кровь с «одеялом безопасности», мягким «одеяльцем», которое используется подобно плюшевому мишке. Пациентка говорит: «Пока у нас есть кровь, мы в определенном смысле носим это потенциальное „одеяло безопасности“ с собой, оно дает тепло, словно защитная оболочка» (S. 209). Одна пациентка выразила материнскую функцию собственного тела следующим образом: она рассказала, что страстно хочет танцевать, причем в одиночестве. Тогда она могла бы переживать счастливые эмоции, связанные с телом, чувствовать себя будто мать, которая держит на руках младенца. В этом состоянии она отделена от тела, которое танцует в одиночестве: «Я могу передать себя ему, тогда я исполню желание симбиоза с самой собой». Она закрывает глаза, ей больше никто не нужен. Ощущение всемогущества и независимости, триумфа описывает Кернберг (Kernberg, 1975, S. 149): «У многих пациентов с тенденциями к самоповреждению, которые пытаются освободить себя от напряжений любого рода посредством причиняемой себе боли (тем, что режут себя, обжигают кожу и т. д.), можно наблюдать искреннее желание к саморазрушению и огромную гордость за обретенную посредством него власть, своеобразное ощущение всевластия и гордости за то, что не нужно прибегать к помощи других, чтобы достичь удовлетворения». К идее замещения матери переходным объектом я добавил еще кое-что (Hirsch, 1989b, S. 18): «Переходный объект должен обеспечить не только утешение перед лицом одиночества и объединения с хорошей матерью, он служит и защитой от „плохой“ преследующей матери. Если эта защита создана самостоятельно, возникает прекрасное чувство – ты не подчиняешься никому, что, кстати, выражается в форме отказа от отношений с внешними объектами, особенно терапевтами. Эти внешние материнские объекты, которые хотят и при этом не могут помочь, должны чувствовать свою беспомощность, соответствующую всему масштабу всемогущества пациента». Этот – мазохистский – триумф над материнским объектом, наряду с самоповреждающим поведением, имеет место при анорексическом расстройстве, как мы увидим ниже, где истощенное тело становится самостоятельно созданной анти матерью, триумфальным антагонистом реальной матери, тело которой ни в коем случае не должно стать образцом для растущей девушки. А при булимии пища становится (переходным) объектом, над которым у «Я» есть абсолютная власть.
Использование тела для установки границТретья функция тела, которое подвергают дурному обращению, – это установка границ. Причиняющее боль, поврежденное тело служит тому, чтобы отстранить от тела объекты, переживаемые как интрузивные (например, партнера, собственных детей, других близких). Так, болезненная и мокнущая экзема держит партнера на расстоянии. В то же время впечатляющее, быстро успокаивающее действие самоповреждающего поведения, которое мы уже упомянули выше, объясняется тем, что болезненная, кровоточащая поверхность тела становится ощутимой и таким образом образует границу «я-тела», суррогат границы «Я», искусственную границу тела, которая должна, словно протез, защищать границу «Я» от опасности дезинтеграции. Она как «вторая кожа» (Bick, 1968), искусственно созданный корсет, который предотвращает вызывающую страх дезинтеграцию «Я». Эстер Бик, которая исходит из понятия недифференцированного психосоматического «Я», считает, что части психики не отделены от частей тела, а должны удерживаться вместе с помощью кожи как внешней границы. Анзьё ссылается на Бик.
Внутренняя функция удержания частей «Я» вместе является следствием интроекции внешнего объекта, который может держать части тела. Этот контейнированный объект обычно переживается младенцем при грудном вскармливании двойственным образом: как переживание материнской груди во рту и в то же время как ощущение собственной кожи, которая удерживается кожей матери, держащей его тело, ее тепла, ее голоса, ее знакомого запаха. Контейнированный объект переживается конкретно, как кожа. Если контейнированная функция интроецирована, ребенок может обрести представление о внутреннем «Я» и разделенности «Я» и объекта – каждый в своей коже. Если функция холдинга исполняется матерью неадекватно <…>, ребенок не интроецирует ее и вместо нормальной интроекции возникает длительная патологическая проективная идентификация, которая ведет к нарушениям идентичности. Состояния неинтеграции сохраняются (Anzieu, 1985, S. 250).
Тройственная функция диссоциированного тела, или «я-тела», тела как части «Я», как внешнего объекта и как органа-границы также отмечается Анзьё (там же, S. 127) в связи с теорией границ «Я» Пауля Федерна. Терапевтические интервенции нацелены на то, чтобы усиливать границы «Я», исправлять ложные реальности и «правильно использовать тестирование реальности». Этот вид терапии в конце концов должен придать «ясность в отношении тройственного статуса тела пациента: как части „я“, как части внешнего мира и как границы между „я“ и миром».
Диссоциация тела в ситуации травмы (перитравматическая диссоциация)
Хотя диссоциация «Я» и тела повсеместна и повседневна, ее патологические формы возникают в результате тяжелых травматизаций. Диссоциация служит защитой от всепоглощающего страха уничтожения. Она возникает и в ситуации травмы как непосредственная реакция на актуальное травматическое событие, и позднее, в аналогичных травме ситуациях, когда возникает похожий страх уничтожения, от которого требуется защититься. Целые области психики отделяются от «Я» и становятся управляемыми, так как за расщеплением следует их отрицание и отвержение: это касается таких областей, как память, аффекты, символизация. Так же и телесное «Я» отделяется от психического или целостного «Я». Иными словами, часть приносится в жертву, чтобы спасти целое. Идею расщепления тела можно найти уже в конце XIX века у Жане: «Теория диссоциации Жане <…> утверждает, что как соматоформные, так и психические составляющие опыта, реакций и функций могут быть закодированы в подсистемах психики, чтобы избежать интеграции в целостную личность» (Nijenhuis, 2004, S. 97). Это защитная функция диссоциации как расщепления. С другой стороны, диссоциация может описывать некое состояние, а именно не слишком удачную попытку справиться с травматическим опытом или его эквивалентом в дальнейшем, в ситуациях, запускающих диссоциацию. В этом случае речь идет об измененных состояниях сознания, таких как амнезия или транс, вплоть до расщепления частей личности, и в это частично вовлекается тело. Например, переживания деперсонализации нередко являются переживанием деформации тела или его частей.
Беате-Теа Тидерманн увидела по телевизору фильм, где речь шла о сексуальном насилии. Если бы она знала об этом заранее, она бы не стала смотреть фильм, но насилие там было представлено так деликатно, что она досмотрела фильм до конца. Насилие – это ее тема, она даже не знает, как это объяснить… После фильма она чувствовала себя нехорошо и переживала странные состояния, ее тело изменилось, стало бесформенным в одном месте и скукожилось в другом. Тогда же возникло чувство, что голову защемило. Когда она ощутила, куда выросло тело в ее представлении, у нее возникло чувство, что оно действительно там, хотя она знала, что его там нет. Мне вспоминается картина, как я говорю ей: «Чувство деформации тела представляется мне так, будто амеба скручивается, отодвигает свое одноклеточное тело, чтобы избежать опасности, захвата». Тогда пациентка говорит: «Сейчас я думаю о ситуации три года назад, т. е. тогда я была уже взрослой. Это было во время приема у отца, который посадил меня к себе на колени на террасе так, что моя грудь оказалась у него в руках, а когда другой гость это заметил, отец сказал: „Я имею права подержать за грудь собственную дочь…“ Тогда я совершенно отключилась, не могла ничего сказать и позволила делать это со мной, а если бы меня тогда спросили, правильно ли это, я бы ничего не возразила против его действий». Только часть ее, которую она называет «другая», терроризирует, протестует, не позволяет себя подавлять, обращает на себя внимание, причиняет ей боль и парализует, так что она не может ходить на работу. Эта часть не оставляет ее в покое. Пациентка рассказывает о диссоциативных реакциях как в самой ситуации насилия, так и в реакции на актуальные события, которые сталкивают ее с темой насилия.
К этим состояниям диссоциации, при которых отщепляется тело, относятся также конверсия, ранее известная как истерия, и формы соматизации. Непросто собрать все эти разнообразные психические состояния и телесные реакции, т. е. диссоциативные переживания тела, в нозологическую общность. Сегодня царит убеждение, что объединяет их этиология, т. е. травматизация. Хофманн с соавт. (Hoffmann et al., 2004, S. 127) поднимают вопрос о том, существуют ли диссоциативные нарушения, истерическая конверсия и соматизация параллельно в смысле ко-морбидностии их возникновения или же (с чем я склонен согласиться) сегодня стоит «расширить список расстройств, примыкающих к диссоциации (симптомы конверсии, диссоциативные симптомы вплоть до диссоциативного расстройства личности) <…> за счет общего генезиса в смысле этиологии травмы, и включить в этот ряд и другие расстройства. Речь здесь идет <…> в первую очередь о посттравматических стрессовых расстройствах, комплексном посттравматическом стрессовом расстройстве, пограничном расстройстве личности и расстройстве соматизации. Различные картины расстройств <…> составляют здесь своего рода феноменологически дифферентный континуум различных нозологических субъединиц, объединяемых общей этиологией, хотя масштаб травматической составляющей в любом случае варьируется».
Исследователи видят «иерархию, которая простирается от диссоциации как нарушения функций сознания через конверсию (нарушения функции сознания и телесных функций) до соматизации как расстройства исключительно телесных функций» (там же, S. 126). Кохут (Kohut, 1971) различает горизонтальное и вертикальное расщепление: эта оппозиция маркирует разницу между более динамическим пониманием вытеснения у Фрейда (так сказать, сверху вниз) и пониманием диссоциации у Жане, который представлял различные разделы личности скорее дескриптивно (ср.: Hoffmann et al., 2004, S. 114 и далее). Шенгольд (Shengold, 1979) использовал понятие вертикального расщепления при травматизации: он говорит о компартментации как попытке совладать с травмой. Отщепленное «я-тело» я бы понимал как один из таких разделов, как субсистему, в которую смещается травма, чтобы сохранить психическое «Я» и выжить.
Особенно впечатляют рассказы о диссоциативных телесных феноменах, которые возникают при травматизации. Жертвы «в определенной мере покидают свои тела» и «наблюдают нарушение телесной целостности будто со стороны» (Dulz, Lanzoni, 1996, S. 20). Об этом пишет Джулиана Сгрена, которая провела четыре недели в плену в Ираке в 2005 году.
Парить между жизнью и смертью. Надежда сменяется отчаянием, иллюзия – разочарованием. 24 часа в сутки наедине со своими мыслями, я иногда боюсь сойти с ума. Все, что окружает меня в плену, реальное и вымышленное, я интерпретирую как послание жизни или смерти. Я классифицирую каждый звук, анализирую каждое событие, каждый взгляд. А когда мои мысли заигрывают со смертью, у меня порой возникает чувство, что я действительно расстаюсь с жизнью: я вдруг перестаю чувствовать свое тело, как будто оно отделилось от духа, я начинаю смотреть на себя со стороны. Но в этом чувстве нет ничего трансцендентального, оно больше похоже на стратегию защиты: возможно, мне это нужно, чтобы исторгнуть смерть, или же это попытка сбежать из темной комнаты, в которой заключено мое тело. Спустя несколько минут это чувство изменяется, оно становится еще неприятнее. Когда я вздрагиваю, я чувствую ледяной холод в ступнях и по кусочкам снова начинаю чувствовать тело. В эти моменты я нахожу это даже успокаивающим, когда я, укутанная в гору одеял, начинаю потеть: я жива (Sgrena, 2005, цит. по: Süddeutsche Zeitung 02.02.2006).
То же мы встречаем и в рассказе о жертве швейцарской системы воспитания, в которой дети овеществлялись, царившей вплоть до 1970-х годов.
Кэти четыре года, когда она оказывается в приемной семье. Ее опекун – толстый крестьянин, который в первую же ночь бьет Кэти по голове, потому что она плачет. Приемная мать отводит глаза. «Здесь, – Катарина Клодель кладет свои мягкие пальцы на картины на стене, показывает на окно, за которым Кэти били, год за годом, – из окна я видела церковный шпиль, и, когда удары были слишком сильными, я думала, что моя голова висит там, на шпиле» («Овеществление и вытеснение» / Verdingt und Verdrngt, Süddeutsche Zeitung 19.10.2009).
Другой пример приводит Варис Дирие[5]5
См. главу «Мутиляция гениталий» в разделе «Инсценировки тела».
[Закрыть] (1998, S. 70), описывая обрезание, которое ей пришлось пережить в пятилетнем (!) возрасте.
Мои ноги тем временем совершенно онемели, но боль в паху была такой жуткой, что я хотела только умереть. И вдруг я почувствовала, что вознеслась над землей, оставила свои муки позади и смотрела на эту сцену сверху, видела, как эта женщина латала мое тело, пока моя мать держала меня, извивающуюся. В тот момент я чувствовала только совершенное умиротворение – ни заботы, ни страха.
В литературе о травмирующем воздействии сексуального насилия есть целый ряд описания отключения (tuning out), аффектов и диссоциации тела во время нападения (ср.: Hirsch, 1987, S. 105). Переживания жертвы описываются так: «Я не могу это выносить… это безумие… а я такая маленькая… могу только позволить этому происходить… Крушение… Разрушение слабого» (Eist, Mandel, 1968, S. 230). Жертва сбегает в состояние отключки, в котором уже нельзя доверять своим чувствам. Похожим наблюдением делился уже Ференци (1933, S. 518): «Одолевающая сила авторитета взрослого делает ребенка немым, отбирает у него чувства». Писательница Хербьерг Вассму (Wassmo, 1981, S. 138) описывает защитный механизм жертвы следующим образом:
Единственная помощь <…> состояла в том, что у нее появилось время очнуться, защититься, сделаться бесчувственной перед тем, что ей предстояло, и отделиться от тела в кровати, как от старой одежды.
Пациентки из моей практики часто рассказывают об этом отключении чувств: они либо оставались «пассивными и неподвижными», либо становились «твердыми, как доска». Одна пациентка говорила: «Когда страдание стало слишком сильным, я забавным образом почувствовала себя спокойной и пустой». Экардт-Хенн (Eckardt-Henn, 2004, S. 288) рассказывает похожее: «Молодая девушка <…> долго описывала своего отца, который с шестилетнего возраста принуждал ее к оральному сексу, как любящего и заботливого мужчину. „Он был таким нежным <…>, а когда он стал таким отвратительным <…> и во мне была эта мерзкая штука <…>, тогда появились эти состояния, и я могла как птичка вылетать из себя. Моя голова была отделена, и то, что происходило, происходило не со мной. Мне казалось прекрасным, что он был так нежен, и все было в порядке“».
Когда психический аппарат переполнен страхом, необходимы масштабные и искажающие душевную жизнь операции, чтобы ребенок был в состоянии продолжать думать и чувствовать. Во время остро травмирующих событий человек может лишиться сил или отрезать чувства. При повторяющихся травмах этот механизм становится хроническим. Происходящее так ужасно, что его нельзя почувствовать и зафиксировать – человек предпочитает масштабную изоляцию чувств на фоне смятения и отрицания (Shengold, 1979, S. 538).
Наблюдения такого рода появились давно: у же Ференци (Ferenczi, 1933, S. 519) говорит о состоянии «травматического сна», в котором акт нападения перестает существовать «как жесткая внешняя реальность». В результате во время травмирующей ситуации и впоследствии, в качестве привычки, рождается «механически послушное существо», которого мы знаем из творчества Патрика Зюскинда. Шенгольд (Shengold, 1979, S. 538) обозначает это состояние как «гипнотическое состояние жизни – смерти», жизни «понарошку». Как это понимал уже Ференци, смысл таких экстремальных мер очевиден: без них насилие породило бы всепоглощающие, разрушительные чувства страха, гнева, уничтожения и покинутости, которые заполонили бы и разрушили бы «Я». Если не получается отключиться, возникают реакции, описанные Вассмо (Wassmo, 1981, S. 152 и далее): «Однажды вечером дверь так внезапно заскрипела, что у нее уже не было времени покинуть тело и уплыть в мыслях за окно. Торе пришлось воспринимать все, что с ней происходило. Тогда она начала хныкать, стонать и изгибаться. Она не смогла лежать неподвижно, чтобы этим вечером все опять быстро закончилось. Она не могла совладать с собой». Это беспокойство и самооборона смутили насильника и пробудили в нем агрессию, так что вместо привычных посягательств он перешел к изнасилованию. «Мягким, мягким было сопротивление, оно просило о пощаде и поддавалось. Потом все прорвалось. Тора чувствовала это вне себя, не знала, где это началось и закончилось, это не было связано с ее подлинным „Я“. <…> Она поняла, что это была отвратительная реальность. <…> Она осталась лежать в согнутом положении и хватала ртом воздух, пока не смогла наконец снова дышать. Она лежала на краю кровати, разделенная надвое. Нижняя половина была другим человеком».







