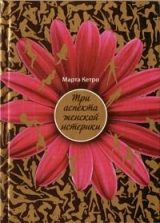
Текст книги "Три аспекта женской истерики"
Автор книги: Марта Кетро
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Его женщины приходили ко мне, принося в ладонях драгоценные воспоминания: «однажды он сказал…», «когда ему было восемнадцать…», «я помню, у него была привычка…». Я слушала и училась любить их – моих прежних соперниц – на этот раз по-честному, хотя бы за его тень в сердце, за прошлое, в котором он был юным и живым.
Его жена, та, которая родила ему ребенка, которая ездила в горы – искать, сказала, что, когда нашли, у него не было глаз и носа. Такова безусловная реальность. У этого конкретного мужчины, которого я любила, которого сотни раз целовала и гладила по лицу, которого видела, засыпая и просыпаясь, – у него не было глаз и носа, когда его нашли. Это теперь останется со мной. Потому что я вижу именно это, когда закрываю глаза.
Недавно я в ужасе выключила какой-то третьеразрядный американский триллер, не смогла видеть оживших мертвецов – потому что отчетливо поняла, чье лицо будет у призрака, который приснится мне в кошмаре. Теперь у меня всегда с собой мой личный ад, еще недостаточно прирученный, чтобы не показываться без вызова.
Ночью я плакала оттого, что вдруг поняла – я его больше никогда не увижу. Только сейчас дошло. Как-то я ухитрялась думать, что сейчас мы поиграем в смерть, я пристойно отстрадаю, похудею, может быть, но потом-то все наладится… А тут поняла. Мои глаза опустели без его красоты. Подозреваю, что осознавать придется долго. Что не услышу. Не прикоснусь. Не почувствую.
У меня крепнет ощущение, что это все сон. Что я тогда накурилась с ним и с тех пор не просыпалась. Что однажды очнусь, и все станет по-прежнему, и никакой головной боли, только легкий тремор и рассеянность. До завтрака.
Я проснусь от того, что он гладит меня по плечу и шепчет: «Пора, киска, пора, но когда я вернусь, то первым делом выебу тебя как следует».
Сон. Мы в постели, в полутемной комнате. Он умер, но вернулся, чтобы я присутствовала при его смерти. Мы обнимались, разговаривали, и вдруг ему стало больно в ступнях и спине (как будто это на самом деле происходило в его последние часы, а сейчас уже не раны, только боль). Я попыталась массировать ему ноги, но сделала только хуже. Тогда я сказала, что люблю его, а потом испугалась, что он умрет прямо сейчас и не скажет то, что я хотела узнать. Я трясла его и спрашивала: «Ты меня любишь?» Боюсь, что причинила ему дополнительную боль. Потом нашла кетанов, и ему полегчало. Мы легли валетом, и я обняла его ноги, а он мои. Потом сказал: «Ты меня несерьезно трахала, а я-то все по-настоящему делал». Засыпая, пробормотал, что завтра поедет к родителям. Вот и хорошо, а то я не знаю, куда девать его тело. Потом я вышла из этого сна, подумала, что нужно все записать, и заглянула в соседнюю комнату, более светлую. Там на разобранной кровати сидела, завернувшись в одеяло, девушка с темной прядью у лица. Она была в черном: узкие трикотажные брюки, майка с белой надписью и шляпа с цветами и лентой, завязанной под подбородком. Я подумала, что должна описать себя в такой одежде, рассказывая эту историю, но тогда будет плагиат. Вернулась в свою комнату, мы побыли немного вместе, и меня разбудил звонок. Но еще до пробуждения я успела понять, что сейчас мы не сделаем ничего нового. Ничего, кроме того, что уже произошло, пока он был жив.
Время от времени я возвращаюсь к мысли, что все-таки сошла с ума тогда, поверив в его смерть. В два часа ночи двадцать девятого октября. Я написала письмо его лучшему другу и легла спать. А утром поехала покупать новый монитор, не проверив почту. Понимаете, я нарочно не стала ее проверять, потому что хотела спокойно купить монитор. Только вечером, когда привезла и подключила, – прочитала, что он пропал десять дней назад. И пошла мыть посуду. Да, точно. Время от времени отходила от раковины, опускалась на пол и выла (или кричала, я не помню, но это был негромкий звук, потому что горло утром болело, как придушенное). А потом вставала и продолжала мыть посуду. Эти приступы становились реже, но именно с тех пор реальность сделалась немного подозрительной, туманно-рваной. И хуже всего, что я не могу определить, что реально – весь этот туман или то, что я вижу в просветах.
Например, та странная скоропостижная любовь, случившаяся со мной потом, весной. Была ли она между мной и тем юношей? Или это всего лишь проекция, тень на белой стене, отброшенная нашими телами и нашей любовью, только для того, чтобы прийти на кладбище и сказать в землю: «Ну вот, видишь, я уже в полном порядке! Я могу без тебя. Я могу без тебя. Я могу без тебя!!!» Не нужно кричать на мертвых. С ними, кажется мне, вообще не стоит разговаривать, спорить, соревноваться.
Ну и другие признаки – я совсем разучилась поддерживать отношения. Я не разлюбила друзей, просто ослабело напряжение сердца, нет, глупо звучит – напряжение тех связей, которые соединяли меня с дорогими людьми и, может быть, с миром вообще. Нужно все время дергать за нить, дергать все сильнее, чтобы я почувствовала, что люблю их. Мне иногда кажется: если мой мужчина перестанет приходить ко мне – не пропадет, а просто скажет, что больше не будет приезжать, – я не стану его искать. Потому что однажды, когда одну из драгоценных нитей твоего сердца обрубят, все остальные тоже провиснут. Я могу без него – я могу без всего.
Весьма вероятно, что я списываю на него свои фобии. В конце концов, отношения со своей семьей я прекратила за полгода до его смерти.
* * *
А может, я сошла с ума позже, в Питере, когда, вся в сиянии новой любви, получила уведомление от оператора сотовой связи: «Ваше сообщение доставлено». Сообщение, которое отправляла ему двадцать первого октября, предположительно в день смерти, его телефон уже три дня как молчал. Так вот, через пять месяцев оно оказалось доставлено. Я стояла посреди комнаты и бормотала: «Кому, кому доставлено, куда?» Тина обнимала меня, а новый возлюбленный смотрел как на обосравшегося котенка – с недоумением, брезгливостью, нежностью, сожалением и с надеждой, что это уберет кто-то другой. Потом я извинилась перед ним, а на следующий день утопила телефон в Фонтанке. Но это был очередной разрыв реальности, и все труднее становилось, заделывая дыры, не заглядывать в них.
Те два месяца, когда мы поссорились и не встречались… До этого между нами было всякое – его девушки носились туда-сюда с частотой пригородных поездов, а я злилась; он предъявлял мне какие-то подозрительные претензии, предлагал жить втроем, вчетвером и впятером. С его точки зрения, идеальные отношения выглядели так: «Мы накуримся, а ты будешь нашей мамой. Дочкой, – тут же поправлялся он, увидев выражение моего лица, – нашей девочкой. Сестренкой». Связь наша постоянно подвергалась проверкам психологического, социального, сексуального, эзотерического и наркотического рода. Последним испытанием была та небольшая истеричная блондинка, которую он пустил в дом однажды осенью и, кажется, полюбил. (Помните Розочку?) От меня он потребовал сделать то же самое. Так прямо и сказал: «Поскольку мы с тобой не можем жить друг без друга, ты должна полюбить Розочку». Мы сидели в кафе на «Баррикадной», я смотрела ему в глаза, гордые слезы падали в чашку с эспрессо. «Что делать, любовь моя, если пока нельзя расстаться», – говорила я, и мы оба были страшно счастливы.
Видит бог, я пыталась. С помощью трех пальцев и таблетки экстази я честно пыталась полюбить Розочку, но ответного порыва не встретила. Поэтому у нас были прекрасная бесприютная осень и зима. У него дома жила Розочка, а я, по причине финансового бедствия, делила квартиру с подругой. Мы с ним часами ходили по грязной и холодной Москве, сидели на ледяных скамейках, от отчаяния даже забредали в гости к моему тогдашнему мужчине. И постоянно держались за руки, у всех на глазах, потому что мера нашей взаимной нужды была уже далеко за пределами добра и зла – так, по крайней мере, приятно было думать.
К весне они окончательно разругались. Я вздохнула спокойно, мы уже могли удовлетворять нашу страсть сколько угодно, но ничего не произошло – в середине апреля мы жестоко поссорились. Он позвонил мне утром и предложил пойти на репетицию, я согласилась, приняла ванну, оделась, перезвонила ему и услышала: поскольку я согласилась как-то неохотно, он решил не брать меня в студию, а встретиться позже и выпить кофе. И вот тут на меня накатила настоящая пенно-розовая ярость, какой бывает поверхность молочного коктейля, в котором вместо клубники – кровь. Ярость была и смешной, и жуткой, потому что, с одной стороны, замешана на молочке, а с другой – все-таки с настоящей кровью. Я кричала на него как на родного – так орут на мужа, на детей, на маму, – не подбирая слов, трясясь от злости, запинаясь, не заботясь о логике и справедливости. Потом потребовала «больше никогда» и бросила трубку. И следующие два месяца не отвечала на звонки. И чувствовала себя прекрасно. Пре-кра-сно (вот так, с нажимом). Я прекрасно себя чувствовала.
А потом он прислал письмо: «Хочу тебя увидеть».
Я два часа думала, что ответить, и в конце концов написала: «Хочу тебя увидеть».
Он сказал, что боялся мне звонить, а потом впервые попробовал пейот, записал альбом, и ему уже стало ничего не страшно. А я посмотрела на него и подумала, что он скоро умрет.
В августе у меня пропал голос, в том смысле, что я перестала писать и промолчала три месяца, до самого октября, когда он потерялся (как теряются дети в злых сказках).
Последним, что я написала перед тем, как заткнуться, было это:
Я скормлю свою тень телефонному автомату —
вместо монет,
чтобы услышать твой голос.
Любовь моя, мир затаил дыхание,
ожидая твоего пробуждения,
солнце отодвигает штору, чтобы прикоснуться к тебе,
и твоя девушка улыбается, слушая, как ты дышишь.
Глупые птицы поют, но кошки крадутся,
чтобы не разбудить тебя слишком рано.
Завтра пойдет дождь, потому что сегодня ты
пожелал увидеть осень.
Женщины начинают лгать своим мужьям при одном
взгляде на тебя,
а деревья теряют листья, не дождавшись твоего
возвращения в город.
Но ты ничего не замечаешь – ты смотришь на свои ладони,
пытаясь отыскать знак, который сделал тебя таким
несчастным.
Впрочем, право петь грустные песни принадлежит не тому,
у кого есть повод для печали, а тому, чей голос звучит
горестно.
Тому, кто просыпается в слезах, не умея вспомнить отчего.
Правда, три строчки в конце я потом выкинула, они какие-то нечестные.
А следующий текст был уже о его исчезновении. Любимые мной мужчины могут со всей уверенностью рассчитывать только на одну любезность от меня – хороший некролог. Вполне вероятно, я до сих пор не перестала его писать. Потому что невозможно остановиться. Пока я пишу, между нами еще что-то существует. И может быть, только они удерживают мою реальность от полного рассеяния, и, когда я закрываю глаза и двигаюсь ощупью, руки мои осязают единственное настоящее, на что можно опереться, – слова о нем.
Прошлой ночью мне приснился голос моей любви. Как будто он наконец вырвался и зазвучал, низкий женский голос, поющий без слов, прекрасный и грозный, как полки со знаменем. Он звучал над лугом, разносился над синими горами, и только во сне я поняла, по ком он поет.
Часть 2
«…все, что не убивает нас, делает нас инвалидами».
Линор Горалик
Любовь, как звезда Давида, нарисованная на спине, притягивает все пули, в том числе не предназначенные для тебя. Даже те, кто прежде был добр, начинают ее видеть и испытывают искушение, не говоря уже о случайных прохожих. И однажды Господь, который, вообще говоря, милосерден, разглядев между земных теней сияние этой проклятой желтой звезды, не откажет себе в божественном праве прислать фиолетовую молнию, которая поразит и звезду, и тонкую кожу, и грудь и, отразившись от креста, или что ты там носишь на шее, найдет сердце и разнесет его в клочья. Это неизбежно, и можно только просить – не сейчас, пожалуйста, еще не сейчас… А пока она, звезда, все жжет и жжет самое беззащитное место между лопаток, и только когда ты обнимаешь меня сзади и я прижимаюсь спиной к твоей груди, я чувствую себя спасенной.
* * *
Мы встретились в странный период моей жизни.
В финале «Бойцовского клуба» он подошел к окну и сказал, глядя на пылающие небоскребы: «Знаешь, мы встретились в странный период моей жизни». Вот после всего, что там происходило, назвать это «странным периодом» – очень круто. Со мной после этой фразы случилось что-то вроде маленькой истерики, но до конца я поняла ее только через несколько лет.
Мы встретились в странный период моей жизни. Десятого ноября, если хотите. Я уже две недели знала, что пропал мой милый. Было понятно, что добром это не кончится, но еще можно было кормиться слабенькой выморочной надеждой. С ним уже произошло все, что могло произойти, и мне оставалось только ждать новостей.
В дизайн-студии моей подруги устроили корпоративную вечеринку, и Тина позвала меня. Мне, в общем, было все равно, где ждать, и я пошла.
Смотрела на мужчин и ужасалась. Они были сплошь страшные, маленькие или толстые (порой и то, и другое), и где было взять еще одного такого, как я люблю. Видимо, я вопила, потому что была услышана. С приставной лестницы, уходящей куда-то под потолок, медленно спустились ноги. Они все не кончались, длинные худые ноги в джинсах. Потом показалась широкая спина в тельняшке. Голова в бандане. Он повернулся ко мне, и я решила, что все-таки подвинулась рассудком от горя и слез. Этот человек выглядел как моя самая безумная эротическая мечта. Я тихонько спросила: «Тиночка, это что такое?!» А она назвала экзотическое имя и повела знакомиться. Он покосился на меня горячим конским взглядом и брезгливо переспросил: «Как-как?» Можно подумать, его самого звали Ванюшкой. Кстати, так и буду его называть, из вредности.
Я запомнила его и поклялась не приближаться на пушечный выстрел, а через пару дней уехала в Питер, где и узнала то, о чем уже говорила. И на некоторое время мне стало не до него, я осталась вдвоем со смертью, и больше ни для кого места на свете не было.
Декабря не помню. Потом наступил Новый год, и я выкрасила волосы в красный цвет. Чтобы мои демоны меня потеряли.
В феврале я сменила диету и вспомнила, что есть Ванюшка, вполне подходящий для начала новой жизни.
Тина как-то упомянула, что случайно спросила его о колонках, и он минут сорок изводил ее рассказами о качестве звука. Ну, понятно. Я одолжила у знакомых наушники потрясающего качества, выбрала момент, когда Тины не было в конторе, и отправилась в разведку. Ах, говорю, девочки моей нету, а я хотела ее плейер послушать, такие у меня наушники замечательные… Ванюшка угодил в сеть мгновенно: с готовностью принялся рассказывать про уши, колонки, Ошо и тантрический секс (слышали бы вы мой логический переход от ушей к сексу – песня). Через полчаса дикий конь ел хлебушек у меня с ладони.
А потом я сделала паузу.
Тиночке пришлось съехать со съемной квартиры. Ванюшка был так любезен, что предложил ей поселиться у него дома. Тина от безысходности согласилась. Но на старом месте осталась кошка, которую сдавали вместе с жильем. Квартира – бог с ней, но с кошкой Тина расстаться не могла, и нам пришлось ее украсть. Девочка имела репутацию истерички, норовила при каждом удобном случае слиться куда-нибудь в тихое место и просидеть там пару суток, слушая, как хозяева срывают голос, выкликая «кис-кис» на разные лады. Поэтому мы решили сначала вывезти ее, а уж потом все вещи.
Оказывается, красть кошек – одно удовольствие.
Я приехала с домиком, и мы, устелив его старыми свитерами, запихали внутрь кроткую зверюшку. Потом я, таясь от соседей, забежала с ней в метро, а Тина с огромным рюкзаком, где лежали почти все ее вещи, догнала меня позже. Киса не оправдала высокого звания истерички и только однажды, когда я закрутила ее восьмеркой, чтобы проверить, как она там, попросила, чтобы я никогда так больше не делала.
Мы привезли ее к красавчику Ванюшке. Тина уехала обратно, а я осталась охранять кошку, чтобы та не заныкалась, по своему обыкновению. Сразу скажу, я опозорилась. Первый час просидела возле кошки, а потом пришел Ванюшка с другом, позвал смотреть кино. Я взяла домик и проследовала в его комнату. Там мне показали гениальный фильм «Пикассо». Во время просмотра мы расположились следующим образом: на одном конце большой кровати лежал невзрачный друг, а на другом – я. На полу сидел Ванюшка, а рядом стояла клетка, на которую я поглядывала. Естественно, когда кино кончилось, никакой кошки уже не было. Растворилась.
Потом Ванюшка и его друг рассказали мне, как изгонять духов, вселившихся в человека. Оказывается, есть три способа. В общем, в плане мистического наполнения мой пропавший милый был ребенком по сравнению с Ванюшкой. Я хихикала в кулак и любовалась его профилем.
Для просвещения ума Ванюшка дал мне книжек Алистера Кроули и еще одного польского психиатра, который столовыми ложками жрал ЛСД и писал об этом. Мы договорились, что запрещенную литературу я верну ему лично, а не через Тиночку, чтобы никто не узнал, как он меня разлагает.
В тот момент я была уверена, что с Ванюшкой нет никаких шансов. Он видит не меня, а только духов. Но мне хотя бы смотреть было важно, я почти поверила, что после милого в мире остались только низкорослые писклявые уроды.
Через неделю нужно было вернуть сатанинские книжки, к тому же я нашла в Сети редкостный роман Кроули «Лунное дитя», который Ванюшка давно хотел прочитать, и записала ему полезную музыку для секса.
По условиям конспирации мне пришлось врать, будто я хочу отдать Ванюшке лично в руки специальный диск, чтобы объяснить, как его открывать. Все смотрели на меня с жалостью. Даже Тина решила, что я на него запала, и выдала номер телефона.
Я набралась храбрости и стала писать эсэмэску. Долго мучилась, с трудом подбирала слова (Я. С трудом. Подбирала. Слова). «Когда будешь в студии? Готова отдать тебе книги. Две. (Я же три брала, но толстую еще не прочитала.) А еще я скачала „Лунное дитя“ и записала на диск». Нет, длинно.
«Готова отдать книги и диск». Какой диск? Он же не знает…
В конце концов злобно написала: «Когда будешь в студии?» Ах, он уже там? Путем длительного обдумывания родила фразу: «Замечательно. Принесу книги и „Лунное дитя“ на диске. К шести». Если я начинаю кого-то ставить перед фактом, значит, очень смущена.
К шести я почти успевала, но для успокоения зашла в магазин, и там, в примерочной, меня позитивно проперло. Она была освещена потрясающе – голубоватый свет и густые тени. Я выглядела как прекрасный вампир, все морщинки видны, но лицо очень сильное и трагическое. Вышла с двумя кофточками, на тысячу рублей легче и на час позже.
Успела к семи, уже на подходе мне позвонил Ванюшка и сварливо спросил, скоро ли.
Я вошла, и мы оба сделали вид, что встретились случайно…
Я быстренько разделась (не до конца) и заглянула в зеркало. На меня смотрело такое же глупое детское личико, как в четыре года, на новогодней фотографии. (У меня до сих пор такое выражение, когда я радуюсь.)
Выглянула из закутка с одеждой и выложила книги на Ванюшкин стол.
Он увидел меня и зарулил в противоположный угол. Я терпеливо ждала.
Он выбрался, я метнулась навстречу и торопливо рассказала, что на диске файл, который я добыла, не знаю, то или нет, а еще там музыка.
Он сказал два раза «спасибо», и я метнулась обратно.
Подошла к зеркалу, обнаружила то же радостное возбуждение и стала кружить по закутку, взволнованная вся. В метро ничего не читала, переживала свое приключение. Событие такое, значит, – мальчику книжку отдать.
Так устала от всего этого, что на следующий день спала до трех.
В первых числах марта настало время для атаки.
Я обольстила одну из его бывших девушек, и мы пошли к нему «смотреть картинки». Договорились на семь, я от волнения явилась на час раньше и традиционно скоротала время в магазине. В примерочной у меня впервые случилось что-то вроде сердечного приступа. Я смотрелась в зеркало, когда сердце остановилось, пропустило удар и снова пошло. Как будто кто-то помедлил и открыл новую страницу. Это был знак, я его поняла и приняла. Новую так новую.
Мы приехали к Ванюшке, я благодарно и нежно улыбнулась девушке, перевела взгляд на него и, кажется, больше не отводила.
Он заварил зеленый чай и пошел к компьютеру, а я спросила у девушки, когда у него день рождения. Пятого января. Тут мир второй раз за день задрожал и подернулся рябью. Потому что у пропавшего моего милого – четвертого. Это уже был даже не знак. Просто сигнал.
Я отставила чашку и прошла в его комнату, села рядом и спросила:
– Я могу остаться сегодня на ночь?
– Да, места полно, – ответил он.
– Ты возьмешь меня к себе в постель?
– Да.
* * *
Его работы были прекрасны. Трезвый взгляд, беспредельное спокойствие, чуть прохладная нежность. От восхищения мне захотелось преклонить перед ним колени, на полном серьезе, – я его зауважала. Он оказался умным, тонким и чистым, какими бывают только ангелы.
Мы пошли спать, и я настолько исполнилась почтением, что решила к нему не приставать.
– Тебя не смутит, если я буду спать голой?
Его не смутило.
Мы легли рядом и взялись за руки. Если бы ночь так и прошла, я бы все равно чувствовала себя счастливой, потому что рядом со мной был самый умный, красивый, самый лучший юноша на свете.
Но когда я смотрела картинки, то отметила, что он очень часто сосредотачивается на женских руках и ногах. Для понимающего – достаточно, и я кончиками пальцев погладила его ладонь, а ступней тронула ногу. (Давным-давно мой первый взрослый любовник сказал, что самая крошечная женщина в постели умеет вытянуться в рост самого высокого мужчины.) И тут он, конечно, вспыхнул. И его огонь горел следующие шесть часов. Наш огонь, точнее. Потому что все мои стратегические расчеты рассыпались при первом прикосновении. И остались только жар, холод, искры и бархатный мрак – как всегда, впрочем. Как впервые в жизни – и это тоже «как всегда».
Я стесняюсь впадать в подробности, скажу только, что он сделал меня счастливой.
Мне показалось, что вся моя предыдущая жизнь была лишь подготовкой к встрече с ним, и все мужчины появлялись, чтобы научить меня с ним обращаться, слушать, понимать и любить.
Конечно, после первой ночи не было речи о любви. Я влюбилась в него через месяц, в Питере.
Тут я, пожалуй, вырежу кусок – что да как. Прямо сразу…
Я лежу на кровати и наблюдаю, как он на полу смущенно трахает некую девушку. Это я решила поиграть с ревностью.
Я смотрю, а мое сердце, как яблоко, кто-то очищает острым серебряным ножом. Медленно срезает тонкую шкурку, причиняя дикую боль, обнажает мягкое и нежное, иногда слизывает выступивший сок.
Она, девушка, вдруг что-то говорит, и он останавливается. (Честно говоря, она сказала: «Ты как будто работу какую выполняешь». Еще бы, когда я тут рядом умираю от боли, ему явно не до резвых игр.) Он садится и потупляется. В этом, кстати, мы не совпали – когда дело плохо, я, наоборот, задираю голову, только уж если совсем беда, опускаю глаза. А он буквально вешает нос, очень трогательно.
И тут я подхожу и говорю: «А со мной, ты потанцуешь со мной?» Мы встаем и начинаем танцевать, так, как текут реки, как растут деревья, как огонь сплетает языки пламени, как смерть отбирает наши дни, – то есть медленно, неотвратимо и неразрывно мы двигаемся, перетекаем друг в друга, и в конце концов я кричу. Не так, как принято – воркующе вскрикивать, – а хрипло, задыхаясь в слезах: «Не уходи, люблю, я люблю тебя». И называю его по имени.
Его тело говорит мне все, что я хотела бы услышать. Сам он молчит, но это не имеет ни малейшего значения.
И снова нет никого на свете, только я, вдвоем с любовью.
Сухой солнечный Питер – нечто, чего я не видела
прежде.
Телефон утоплен в Фонтанке – для того, чтобы
запутать следы.
Любимое существо улыбается, смотрит с нежностью
и восхитительно хитрит.
Не оторвать рук от его лица, следуя за линией
бровей, впадинами щек, изгибами губ, пугливым трепетом глаз под веками и хищной линией носа.
Не оторвать взгляда от его лица, снова и снова
очерчивая профиль на фоне темного окна.
Не оторвать губ от его лица, шепотом рассказывая
о темных волосах, об улыбке волчонка,
о драгоценной складке в углу рта и непроницаемо
ласковых глазах.
Не оторвать сердца от его лица, вспоминая.
Ты улыбаешься мне, душа моя, – потому что я
говорю глупости, потому что я слишком тороплюсь,
потому что этой ночью ты будешь не со мной.
Я улыбаюсь – потому что знаю об этом
и еще о множестве вещей, неизвестных тебе.
Я вижу запрокинутую голову и кровь, вытекающую
изо рта.
Вижу неловко сломанное тело.
Вижу ссадины на коже и слипшиеся ресницы.
Вижу глаза, помутневшие от боли.
Вижу дыхание, замерзающее в ледяном воздухе.
И, видя все это, я думаю: улыбайся всегда, любовь
моя.
И вот еще, перед самым отъездом в Питер. У нас был тот период, когда интересно разговаривать. Мы уже трахались, но всячески подчеркивали взаимное уважение к личности и мнению партнера, вроде как все не только из-за секса, но и потому, что «он такой умный», а «она такая тонкая». И вот мы сидим в подвале «Шоколадницы» на Арбате, я пью африканский кофе, а он – не помню, и беседуем. Я сообщаю ему, что после смерти римского папы католический мир ожидает ужасный кризис. Что церковь их, в погоне за толерантностью, сделалась совсем уж гибкой и шаткой, стоит лишь убрать авторитет этого папы, который, кстати, похож на святого более других духовных лидеров, как все рухнет. Совсем скоро.
– Да, – говорит он, глядя на меня влюбленными глазами, – арабский мир со своей строгостью и отчаянием захлестнет…
И главное в нашем разговоре то, что я легко положила свою руку поверх его руки и что завтра мы уедем в Питер, где, даст бог, проведем четверо суток только вдвоем, и дальше у нас будет долгая счастливая жизнь.
Я возвращаюсь домой и обнаруживаю в Сети новость: «римский папа умер». Потрясенная, звоню ему, он как раз слушает песню «Папа римский пригласил тебя в Италию», и мы оба окончательно уверяемся, что мир погибнет, и только для того, чтобы подать нам знак.
Что сказать? Мы ошиблись: папу в ту ночь откачали, и умереть ему позволили только через несколько дней, мир не погиб, и наше счастье оказалось недолгим.
Но разговаривать нам было интересно, да.
* * *
Пришла на могилу Х, долго и трогательно пристраивала розы так, чтобы головки были обращены к лицу тела (как бы иначе сказать…), формально исплакала два бумажных платка и собралась уходить. А не могу. Очень хотелось его обнять, хотя бы так, через одеяло, но уж очень земля сыра. Прикинула, что надо было взять газетку, расстелить, чтобы не испачкаться. Погладила немного грунт, зачем-то попробовала на вкус, опять приложила ладонь к боку холодного земляного пирога и заметила, что пальцы совершают хищные роющие движения. Услышала за спиной шорох и обнаружила бабку, шевелящуюся на недальнем участке. «Самооткопалась, – подумала я, – сумасшедшая старуха». Потом отрешенно сообразила, что этого эпитета заслуживает не она. По крайней мере не она одна. «До свидания, – сказала я ему. – Я пошла. Ну, прощай. Я тебя больше не люблю. Прощай, говорю. Все. Я забыла тебя. Прощай». Так два часа и пролетели. На кладбище пел соловей, я вспомнила, что прежде мы ходили вместе его слушать примерно в эти дни апреля, а теперь… тоже вместе, только ему никуда идти не надо. Не так уж все страшно. Мимо изредка проходили люди. При виде женщины в черном, рыдающей над новенькой могилой, лица их изображали примерно следующие вопросы: «Что случилось? Почему вы плачете? У вас кто-то умер?» Клянусь, один из них даже озвучил свое недоумение: «Вам плохо?»
– Да.
Я ворвалась в его дом горько плача, опоздав на два часа, и с порога увидела жизнерадостный стол. Буквально пала кому-то на грудь, издала несколько сдавленных рыданий и, картинно взяв себя в руки, отправилась к гостям. Чуть позже меня, трепетную, «в черном платье, с детскими плечами, лучший дар, не возвращенный богом», пробило на пожрать, и я, не меняя трагического выражения лица, съела салат, два куска рыбы, бесчисленное множество ломтиков мяса и колбасы, помидор с тертым сыром, горку маслин, два куска торта, три конфеты, ну и так, по мелочи, приговаривая про себя, что не каждый же день такой случай. Не наелась. Чтобы перебить голод, пообщалась с женщинами Х.
Очень они все милые, гораздо милее, чем в те времена, когда нам было что делить. Выслушала от каждой историю, как у них перед отъездом все наладилось и что по возвращении он бы наверняка с ней зажил. Дуры, думала я, это со мной у него все наладилось, это со мной бы он зажил! Под конец все развеселились и много смеялись. Играла музыка, ибо покойный был барабанщиком, но до танцев не дошло.
Любовь моя, почти три месяца я была счастлива с тобой. «Как никогда в жизни», – скажу я. «Тебе это только кажется», – скажешь ты.
Позволь, я просто напишу об этом, всего несколько историй, хорошо? В том порядке, в котором записывала, возвращаясь от тебя.
После нашей первой ночи я ехала домой с выражением лица, за которое в метро могут побить. Восемь утра, толпа, разъяренная самим фактом своего существования, а у меня разнузданное блаженство на физиономии и счастливо расслабленное тело, по которому изредка пробегает сладострастная судорога. Ну да, для начала я все сделала сама, я же умею быть упорной, но чертовски политкорректной… «Могу ли я приехать и посмотреть на картинки? Остаться переночевать? В твоей постели? Голой? Ты можешь остановиться, когда захочешь…» Следующий уровень политкорректности – после каждой фрикции сообщать, что он имеет право не вводить свой член обратно, если его это почему-либо беспокоит.
Но потом он все-таки сделал со мной что-то такое, отчего я перестала «контролировать ситуацию».
Он красивый… Красивый настолько, что его голову я согласилась бы держать у себя на коленях, даже будь она отрублена. Я закрываю глаза и вижу, как эта прекрасная голова запрокидывается, обнажая шею, на которой так не хватает тонкой красной полосы. Как он опускает лицо и его волосы прикасаются к моему животу нежнейшей из ласк. Как он раскрывает мое тело и делает движение, от которого я внезапно распахиваю глаза и встречаю его темный взгляд с отчетливой тенью безумия на дне. Как он гладит, просто гладит мои ноги, а я теряю себя от страсти, слушая, как тяжелеет его дыхание. Как он говорит: «Нет, еще не сейчас», – и я понимаю: эта ночь будет длиться еще не один час, столько, сколько он захочет, без всяких ограничений, накладываемых плотью. И как он, только что манипулировавший мной с уверенностью массажиста, вдруг отрывается от моего тела и почти беспомощно спрашивает: «Что происходит? Почему мне ТАК хорошо?» Самое нереальное в этой истории, что он потерялся во мне так же, как я в нем. Этот красавчик, у которого, говорят, нет сердца.








