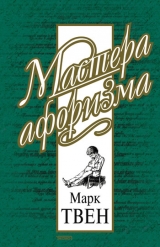
Текст книги "Марк Твен. Собрание сочинений в 12 томах. Том 1"
Автор книги: Марк Твен
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Я сразу узнал эту картину: в центре Спаситель, слегка наклонив голову, сидит за длинным, грубо сколоченным столом, на котором кое-где виднеются блюда и плоды, по каждую руку его шесть апостолов в длинных одеяниях беседуют между собой, – картину, с которой в течение трехсот лет было сделано столько копий и гравюр. Вероятно, нет на свете человека, который считал бы, что вечерю Господню можно написать иначе. Весь мир, кажется, давно проникся уверенностью, что человеческий гений не может превзойти этого творения да Винчи. Я думаю, что, пока оригинал не исчезнет совсем, художники будут продолжать его копировать. Перед картиной стоял десяток мольбертов, и столько же художников изображало великую картину на своих холстах. Я заметил также пятьдесят клише для гравюр и литографий. И как всегда, меня поразило, насколько копии превосходят оригинал, – то есть, я хочу сказать, на мой неискушенный взгляд. Где бы вы ни наткнулись на картину Рафаэля, Рубенса, Микеланджело, Караччи или да Винчи (а с нами это случается каждый Божий день), вы непременно наткнетесь также на художника, который делает с нее копию, и копия всегда красивей. Может быть, оригиналы были красивы, пока были новыми, но это время давно прошло.
Длина фрески составляет на глаз около тридцати футов, высота – десять или двенадцать, а фигуры во всяком случае не меньше натуральной величины. Это одна из самых больших картин в Европе.
Краски потускнели от времени, лица облупились, стерлись и утратили всякое выражение, волосы – только расплывчатое пятно на стене, а глаза совсем безжизненны. Отчетливо видны лишь позы.
Сюда со всех концов света съезжаются люди и прославляют этот шедевр. Они стоят как зачарованные, затаив дыхание, раскрыв рот, а если и говорят, то только отрывистыми фразами, преисполненными восторга:
– Ах, чудесно!
– Какая экспрессия!
– Какая красота композиции!
– Какое благородство!
– Какая безупречность рисунка!
– Какие несравненные краски!
– Какая глубина!
– Какая тонкость мазка!
– Какое величие замысла!
– Сверхъестественно! Сверхъестественно!
А я завидую этим людям; я завидую их чистосердечным восторгам – если они чистосердечны, их восхищению – если они испытывают восхищение. Я не питаю к ним вражды. Но тем не менее я никак не могу избавиться от одной мысли: как они видят то, чего не видно? Что бы вы подумали о человеке, который, посмотрев на какую-нибудь дряхлую, беззубую, подслеповатую, рябую Клеопатру, сказал бы: «Какая несравненная красота! Какая душа! Какое чувство!»? Что бы вы подумали о человеке, который, посмотрев на тусклый, туманный закат, сказал бы: «Какое величие! Какая глубина! Какое богатство красок!»? Что бы вы подумали о человеке, который, в экстазе уставившись на унылую вырубку, сказал бы: «Ах, какой чудесный лес!»?
Можно подумать, что у этих людей есть удивительная способность видеть то, чего давно уже нет. Вот о чем я думал, когда стоял перед «Тайной вечерей» и слышал, как мои соседи превозносили прелести, красоты и совершенства картины, выцветшие и исчезнувшие за добрую сотню лет до их рождения. Мы можем представить себе былую красоту состарившейся женщины, мы можем представить себе лес, глядя на пни, – но мы не можем видетьни этой красоты, ни этого леса, раз они более не существуют. Я готов поверить, что опытный художник, глядя на «Тайную вечерю», может мысленно оживить краски там, где от них остался лишь намек, восстановить стершийся оттенок, воссоздать исчезнувшее выражение лица, подправить, подкрасить и дополнить потускневшую картину так, что наконец фигуры на ней восстанут во всем блеске жизни, экспрессии, свежести, – короче говоря, во всей той благородной красоте, которой они были проникнуты, когда вышли из-под кисти своего создателя. Но я не умею творить подобные чудеса. Способны ли на это остальные, лишенные искры Божьей посетители или они только тешат себя этой мыслью?
Столько прочитав об этой картине, я готов согласиться, что «Тайная вечеря» была некогда настоящим чудом искусства. Но это было триста лет тому назад.
Меня злит эта бойкая болтовня о «глубине», «экспрессии», «тонах» и других легко приобретаемых и дешево стоящих терминах, которые придают такой шик разговорам о живописи. Не найдется ни одного человека на семь с половиной тысяч, который мог бы сказать, что именно должно выражать лицо на полотне. Не найдется ни одного человека на пятьсот, который может быть уверен, что, зайдя в зал суда, он не примет безобидного простака-присяжного за гнусного убийцу-обвиняемого. И однако эти люди рассуждают о «характерности» и берут на себя смелость истолковывать «экспрессию» картин. Существует старый анекдот о том, как актер Мэтьюс однажды принялся восхвалять способность человеческого лица выражать затаенные страсти и чувства. Лицо, сказал он, может яснее всяких слов открыть то, что творится в душе.
– Вот, – сказал он, – посмотрите на мое лицо – что оно выражает?
– Отчаяние!
– Что? Оно выражает спокойную покорность судьбе. Ну а теперь?
– Злобу!
– Чушь! Это – ужас! Теперь?
– Идиотизм!
– Дурак! Это сдерживаемая ярость! А теперь?
– Радость!
– Гром и молния! Всякий осел понял бы, что это безумие!
Выражение! Люди, хладнокровно претендующие на уменье его разгадывать, сочли бы самонадеянностью притязать на умение разбирать иероглифы обелисков Луксора [55]55
Луксор – город в Египте на месте развалин древних египетских Фив. Один из обелисков луксорского храма был в 1861 г. перевезен в Париж и установлен на площади Согласия.
[Закрыть], – а между тем они равно способны как на то, так и на другое. Мне довелось за последние несколько дней слышать мнение двух очень умных критиков о «Непорочном зачатии» Мурильо (находящемся ныне в музее в Севилье).
Один сказал:
– Ах, лицо пресвятой девы преисполнено экстатической радости, на земле не может быть большей!
Другой сказал:
– О, это удивительное лицо исполнено такого смирения, такой мольбы! Оно яснее всяких слов говорит: «Я страшусь, я трепещу, я недостойна! Но да свершится воля твоя; поддержи рабу твою!»
Читатель может увидеть эту картину в любой гостиной. Ее легко узнать: мадонна (по мнению некоторых – единственная молодая и по-настоящему красивая мадонна из всех, написанных старыми мастерами) стоит на серпе молодого месяца, окруженная множеством херувимов, к которым спешат присоединиться новые толпы их; ее руки сложены на груди, а на запрокинутое лицо падает отблеск райского сияния. Читатель при желании может развлечься, стараясь решить, который из вышеупомянутых джентльменов правильно истолковал «выражение» девы, а также удалось ли это хотя бы одному из них.
Всякий, знакомый с творениями старых мастеров, поймет, насколько испорчена «Тайная вечеря», если я скажу, что теперь уже нельзя разобрать, евреи ли апостолы, или итальянцы. Этим старым мастерам никак не удавалось денационализироваться. Художники итальянцы писали итальянских мадонн, голландцы – голландских, мадонны французских живописцев были француженками, – никто из них ни разу не вложил в лицо девы Марии того не поддающегося описанию «нечто», по которому можно узнать еврейку, где бы вы ее ни встретили – в Нью-Йорке, в Константинополе, в Париже, в Иерусалиме или в Марокко. В свое время я видел на Сандвичевых островах картину, написанную талантливым художником немцем по гравюре, которую он нашел в одной из иллюстрированных американских газет. Это была аллегория, представлявшая мистера Дэвиса [56]56
...аллегория, представлявшая мистера Дэвиса... – Дэвис Джефферсон (1808—1889), создатель Конфедерации южных рабовладельческих штатов, впоследствии их президент, объявил в 1861 г. об отпадении этих штатов от США. Это послужило сигналом к началу Гражданской войны.
[Закрыть]за подписанием Акта об отделении юных штатов или какого-то другого документа в том же роде. Над ним в предостерегающей позе парит дух Вашингтона, а на заднем плане отряд одетых в форму Континентальной армии призрачных солдат с босыми, обмотанными тряпьем ногами бредет сквозь метель. Это, конечно, намек на лагерь в Валли-Фордж. Копия, казалось, была выполнена точно, и все-таки что-то в ней было не так. Приглядевшись получше, я наконец понял, в чем дело: призрачные солдаты все были немцы! Джэфф Дэвис был немец! Даже парящий дух был немецким духом! Художник бессознательно наложил на картину отпечаток своей национальности. Откровенно говоря, меня несколько сбили с толку портреты Иоанна Крестителя. Во Франции я в конце концов примирился с тем, что он француз; здесь он – вне всяких сомнений итальянец. Что же будет дальше? Неужели в Мадриде художники делают Иоанна Крестителя испанцем, а в Дублине – ирландцем?
Мы наняли открытую коляску и отправились за две мили от Милана «смотреть экко», как выразился гид. Мы ехали по ровной, обсаженной деревьями дороге, мимо полей и зеленых лугов, а мягкий воздух был напоен нежными ароматами. Крестьянские девушки, живописными толпами возвращавшиеся с полевых работ, взвизгивали, что-то нам кричали, всячески потешались над нами и привели меня в неописуемый восторг. Подтвердилось мнение, которое я давно вынашивал. Я всегда был уверен, что те нечесаные, неумытые романтические дикарки, о которых я прочел столько стихов, – бесстыдная подделка.
Прогулка доставила нам много радости. Мы упивались ею, отдыхая от непрерывного осмотра достопримечательностей.
Мы не возлагали больших надежд на изумительное эхо, которое так превозносил наш гид. Мы уже привыкли выслушивать панегирики чудесам, в которых на поверку не оказывалось ничего чудесного. Тем приятнее было разочарование, когда в дальнейшем оказалось, что гид даже не сумел воздать должное этому эхо.
Мы подъехали к полуразвалившейся голубятне, носящей название «Палаццо Симонетти»; она сложена из тяжелого тесаного камня, и в ней обитает семейство оборванных итальянцев. Красивая девушка провела нас на второй этаж, к окну, выходившему во дворик, с трех сторон окруженный высокими зданиями. Она высунула голову наружу и крикнула. Мы не успели сосчитать, сколько раз откликнулось эхо. Она взяла рупор и отрывисто и четко крикнула в него одно-единственное «ха!»
– Ха! – ответило эхо. – Ха! Ха! Ха!.... ха! Ха! Ха! Ха-ха-ха-ха-ха! – и наконец раскатилось в припадке невообразимо веселого смеха!..
Этот смех был так весел, так продолжителен, так сердечен и добродушен, что мы невольно присоединились к нему. Удержаться было невозможно.
Затем девушка взяла ружье и выстрелила. Мы приготовились считать удивительный треск частых отголосков. Мы не успели бы произнести «раз, два, три», но зато мы могли с достаточной быстротой ставить карандашами точки в своих записных книжках, чтобы получить что-то вроде стенографической записи результатов. Я не сумел угнаться за эхо, хотя и сделал все, что было в моих силах.
Я отметил пятьдесят два четких повторения, но тут эхо меня обогнало. Доктор отметил шестьдесят четыре, после чего тоже отстал. В конце концов отдельные отголоски слились в беспорядочный непрерывный треск, напоминающий стук колотушки ночного сторожа. Очень возможно, что это самое замечательное эхо в мире.
Доктор в шутку пожелал поцеловать нашу проводницу и несколько растерялся, когда она согласилась – если он заплатит франк. Галантность не позволила ему отказаться от своего предложения, так что он заплатил франк и получил поцелуй. Красавица была философом. Она сказала, что франк всегда пригодится, а одного пустячного поцелуя ей не жалко – ведь у нее их остается еще миллион! Тогда наш друг, делец до мозга костей, никогда не упускающий выгодную сделку, предложил забрать весь запас в течение месяца, но из этой небольшой финансовой операции ничего не вышло.
Глава XX. Сельская Италия из окна вагона. – Окурены согласно закону. – Знаменитое озеро Комо. – Окружающий его ландшафт. – Комо в сравнении с Тахо. – Приятная встреча.
Мы уехали из Милана по железной дороге. Собор в шести-семи милях позади; огромные дремлющие, одетые голубоватыми снегами горы в двадцати милях впереди – таковы были наиболее примечательные черты окружающего нас ландшафта. В непосредственной близости к нам он состоял из полей и крестьянских усадеб снаружи вагона и большеголового карлика и бородатой женщины – внутри. Последние двое не были экспонатами ярмарочного балагана. К сожалению, уродства и женские бороды встречаются в Италии так часто, что не привлекают ничьего внимания.
Мы миновали хребет диких живописных гор, обрывистых, лесистых, с остроконечными вершинами; там и сям виднелись суровые утесы, а вверху под плывущими облаками ютились хижины и развалины замков. Мы закусили в старинном городке Комо, на берегу озера того же названия, а затем на маленьком пароходишке совершили приятную прогулку сюда – в Белладжо.
Когда мы сошли на берег, несколько полицейских (их треугольные шляпы и пышные мундиры посрамили бы самую красивую форму в американской армии) отвели нас в крохотную каменную камеру и заперли там. Все пассажиры пароходика составили нам компанию, но мы предпочли бы обойтись без них, потому что в этом помещении не было ни света, ни окон, ни вентиляции. В нем было душно и жарко. Нам было тесно. В малом масштабе повторялась Калькуттская «черная яма» [57]57
Калькуттская «черная яма» – тюрьма, где в 1757 г. погибло (задохнулось) много англичан, взятых в плен навабом Бенгалии, восставшим против английского владычества.
[Закрыть]. Вскоре из-под наших ног начали подниматься клубы дыма – дыма, пахнувшего, как вся падаль земного шара вместе взятая, как все гниение мира.
Мы пробыли там пять минут, и когда вышли, трудно было решить, кто из нас источает самый гнусный аромат.
Эти изверги заявили, что нас «окуривали», но такой термин слишком невыразителен. Они окуривали нас, чтобы предохранить себя от холеры, хотя в порту, из которого мы прибыли, ее не было. Холера все время оставалась далеко позади нас. С другой стороны, надо же им как-то спасаться от эпидемий, а окуривание обходится дешевле мыла. Им приходится либо мыться самим, либо окуривать всех остальных. Некоторые представители низших классов скорее умрут, чем станут мыться, а окуривание чужестранцев не вызывает у них никаких неприятных ощущений. Самим им окуриваться не нужно. Благодаря своим привычкам они вполне могут без этого обойтись. Их профилактика – в них самих; они потеют и окуриваются весь день напролет. Надеюсь, что я – смиренный и богобоязненный христианин. Я стараюсь жить праведно. Я знаю, что мой долг «молиться за обижающих меня», – и посему, как бы трудно это ни было, я все-таки попытаюсь молиться за этих шарманщиков, которые жрут макароны и окуривают приезжих.
Наш отель расположен на берегу озера – по крайней мере его сад, – и в сумерках мы гуляем среди кустов и курим; мы смотрим вдаль – на Швейцарию и Альпы, не испытывая ни малейшего желания рассмотреть их поближе; спускаемся по лесенке и купаемся в озере; садимся в красивую лодочку и плывем среди отраженных звезд; лежим на скамьях, прислушиваясь к отдаленному смеху, пению, звукам флейт и гитар, которые разносятся над тихой водой с нарядных барок; мы заканчиваем вечер приводящим в исступление бильярдом на одном из привычно отвратительных столов. Полночный ужин в нашей просторной спальне; последняя трубка на узкой веранде, откуда видны озеро, сады и горы; подведение итогов дня. Потом – постель, и в сонном мозгу проносится бешеный вихрь, в котором беспорядочно мешаются картины Франции, Италии, нашего корабля, океана, родных краев. Затем – знакомые лица, города, бушующие волны растворяются в великом забвении, в покое.
После чего – кошмар.
Утром – завтрак, а потом – озеро.
Вчера оно мне не понравилось. Я решил, что озеро Тахо [58]58
Тахо – озеро на границе штатов Калифорния и Невада, у подножья гор Сьерра-Невада.
[Закрыть]гораздо красивее. Теперь мне приходится признать, что я ошибся, хотя и ненамного. Я всегда думал, что Комо – такая же огромная водная чаша среди высоких гор, как и Тахо. Правда, вокруг Комо действительно высятся горы, но само оно не похоже на чашу. Оно извилисто, как ручей, и раза в полтора-два уже Миссисипи. По берегам его не найдется и ярда низины – от самого края воды круто поднимаются бесконечные цепи гор, достигая высоты от тысячи до двух тысяч футов. Густая растительность покрывает их обрывистые склоны, и повсюду из пышной зелени выглядывают белые пятнышки домов; они ютятся даже на живописных остроконечных пиках, в тысяче футов над головой.
Вдоль всего берега прекрасные виллы, окруженные садами и рощами, стоят буквально в воде, а иногда в нишах, выдолбленных природой в обвитых ползучими растениями обрывах, и добраться туда или выбраться оттуда можно только на лодке. Порой к озеру спускается широкая каменная лестница с тяжелой каменной балюстрадой, украшенной статуями, причудливо оплетенной диким виноградом и радующей глаз большими яркими цветами, – ни дать ни взять театральная декорация, и не хватает только великолепной гондолы, к которой сходили бы красавицы на высоких каблуках и в платьях с длинным корсажем и франты в шляпах с перьями и в коротких шелковых штанах.
Особое очарование Комо придают хорошенькие домики и сады, множество которых лепится по его берегам и соседним горным склонам. У них очень уютный и приветливый вид. В сумерках, когда все погружается в дремоту и музыка колоколов, созывающих к вечерне, медленно плывет над водой, начинает казаться, что такой рай светлого покоя можно найти только на озере Комо.
Из моего окна здесь, в Белладжо, открывается вид на противоположный берег, который красивей всякой картины. Изрезанная морщинами и трещинами гора уходит ввысь на тысячу восемьсот футов; на крохотном выступе, как раз посередине этой гигантской стены, прилепилась крохотная снежинка – церковь, на вид не больше скворечника; подножие утеса окаймляют десятки садов и померанцевых рощ, испещренных белыми крапинками, – это виднеются утонувшие в них виллы; у самого берега покачивается несколько лодок, а в отполированном зеркале озера так ясно и так ярко воссоздаются гора, часовенка, домики, рощи и лодки, что трудно понять, где кончается реальность и где начинается отражение.
Прекрасна и рама этой картины. Милей дальше в озеро врезается мыс, убранный плюмажем рощ, и в синих глубинах отражается белый дворец; на самой середине лодка разрезает сияющую гладь, оставляя позади длинный след, похожий на солнечный луч; горы за озером окутаны мечтательной лиловатой дымкой; а с другой стороны – далеко-далеко – его замыкает хаос куполообразных вершин, зеленых склонов и долин; поистине, расстояние здесь увеличивает прелесть ландшафта; на этом широком холсте солнце, облака и возможная только здесь неслыханная синева небес сливают воедино тысячи оттенков, а по его поверхности час за часом скользят туманные блики и тени, наделяя его красотой, которая кажется отражением рая. Бесспорно, такой роскоши нам еще не приходилось видеть.
Вчера вечером озеро было особенно живописно. Утесы, деревья и белоснежные здания на том берегу отражались в нем с удивительной ясностью, а от множества светящихся в вышине окон по тихой воде бежали сияющие дорожки. На нашем берегу, совсем рядом, величественные дворцы, ослепительно белые в заливавшем их лунном свете, резко выступали из черной гущи листвы, тонущей в тени нависшего над ней утеса; а внизу прибрежная вода до мельчайших подробностей повторяла это исполненное таинственности видение.
Сегодня мы бродили по чудесному саду герцогского поместья... Но, я полагаю, хватит описаний. Я подозреваю, что именно с помощью этого места сын садовника обманул Лионскую красавицу [59]59
...сын садовника обманул Лионскую красавицу... – Эпизод из упоминавшейся выше пьесы Бульвер-Литтона: сын садовника обманом женится на тщеславной Лионской красавице, выдав себя за иностранного принца.
[Закрыть], однако точно утверждать не берусь. Быть может, вам знаком этот отрывок:
...Глубокая долина
От мира грубого укрыта в Альпах;
Над озером прозрачным померанцы
Сплелись с душистым миртом;
По ясному безоблачному небу
Лишь розовая тень скользит порой,
И к вечным небесам дворец подъемлет мрамор стен
Из пышной зелени, звенящей птичьим пеньем.
Все это очень мило – за исключением строки, где говорится о «прозрачности» озера.
Оно несомненно прозрачнее очень многих озер, но какой мутной кажется его вода, если сравнить се с изумительной прозрачностью озера Тахо! Я говорю о северной части Тахо, где без труда можно сосчитать чешуйки форели, плывущей на глубине ста восьмидесяти футов. Я попытался сбыть здесь эти сведения по их номинальной стоимости, но ничего не получилось – пришлось предлагать их с пятидесятипроцентной скидкой. На этих условиях покупатели находятся; может быть, на них согласится и читатель: девяносто футов вместо ста восьмидесяти. Но помните, что эти условия навязаны мне силой, как цена, назначенная судебным исполнителем. Что касается меня лично, то я ни на йоту не уменьшу первоначальную цифру и повторю: в этих водах, обладающих странной увеличительной способностью, можно сосчитать чешуйки форели (крупной форели), плывущей на глубине в сто восемьдесят футов, можно разглядеть на дне каждый камешек, можно даже сосчитать булавки, наколотые на подушечку. Часто приходится слышать, как хвалят прозрачность бухты Акапулько в Мексике, но я по опыту знаю, что воды ее и в сравнение не идут с теми, о которых я рассказываю. Мне приходилось удить форель в Тахо, и на глубине (измеренной) в восемьдесят четыре фута я видел, как рыбы тянулись носами к приманке, и различал, как открываются и закрываются их жабры. А на таком же расстоянии в воздухе я и форели-то не разглядел бы.
Мысленно переносясь туда, вспоминая это благородное море, покоящееся среди снежных гор, в шести тысячах футов над океаном, я все более и более убеждаюсь, что в его августейшем присутствии Комо показалось бы лишь расфуфыренным царедворцем.
Да обрушатся на наших законодателей горести и беды за то, что из года в год они позволяют Тахо сохранять это немузыкальное прозвище! Тахо! Это название не вызывает представления ни о кристально-чистой воде, ни о живописных берегах – в нем нет ничего величественного. Тахо – для этого моря среди облаков, для моря, которое обладает собственным характером и проявляет его то торжественным спокойствием, то яростной бурей! Для моря, чье царственное уединение охраняют цепи гор-часовых, поднимающих ледяные лбы на девять тысяч футов над плоским миром равнин! Для моря, всегда поражающего, во всем прекрасного! Для моря, чье одинокое величие – символ божества!
«Тахо» значит «кузнечики». Другими словами – суп из кузнечиков. Слово это индейское и характерное для индейцев. Говорят, что оно из языка пайютов, а может быть – «копачей». Я чувствую, что название озеру дали «копачи» – эти тупые дикари, которые поджаривают своих умерших родственников, растирают человеческий жир и обуглившиеся кости с дегтем, густо обмазывают полученным месивом затылки, лбы и уши и задают на горах кошачьи концерты, называя все это оплакиванием покойника! И такие-то субъекты дали название озеру!
Говорят, что слово «Тахо» означает «Серебряное озеро», «Кристальная вода», «Осенний лист». Ерунда! Это слово означает «Суп из кузнечиков» – любимое блюдо племени «копачей», да и пайютов тоже. В наши практические времена пора бы оставить пустую болтовню о поэтичности индейцев – никогда они не были поэтичными, если не считать индейцев Фенимора Купера, но это ныне вымершее племя никогда не существовало. Я близко знаком с «благородным краснокожим». Я жил с индейцами, выходил с ними на тропу войны, охотился с ними – на кузнечиков, помогал им красть скот; я скитался с ними, скальпировал их, ел их за завтраком. Я с наслаждением съел бы всю эту породу, будь у меня такая возможность.
Но я опять отвлекся. Пора вернуться к сравнению озер.
Комо, пожалуй, немного глубже Тахо, если здешние жители не врут. Они утверждают, что в этом месте глубина озера достигает тысячи восьмисот футов; но мне кажется, что для этого его синева недостаточно густа. Глубина Тахо в середине, согласно измерениям государственной геологической службы, равна тысяче пятистам двадцати пяти футам. Говорят, что большой пик напротив Белладжо имеет пять тысяч футов высоты, по я убежден, что, когда производились измерения, рейка соскользнула. Озеро в этом месте шириною в милю и сохраняет эту ширину отсюда до своего северного конца, то есть на шестнадцать миль; а отсюда до южного конца – миль пятнадцать, – его ширина, по моему мнению, нигде не превышает полумили. Окружающие его снеговые вершины, о которых столько приходится слышать, бывают видны очень редко, да и то в отдалении, – это Альпы. Ширина Тахо колеблется от десяти до восемнадцати миль, а горы смыкаются вокруг него, как стена. Их вершины круглый год покрыты снегом. Оно обладает одной очень странной особенностью: на его поверхности не появляется даже корочки льда, хотя другие озера в тех же горах, расположенные ниже, в более теплых зонах, зимой замерзают.
В такой глуши всегда приятно встретить знакомого и обменяться с ним впечатлениями. Мы наткнулись здесь на одного из наших товарищей по плаванию – старого ветерана, который ищет в этой солнечной стране мирных приключений и отдыха от своих походов [60]60
Полковник Д. Г. Фостер – издатель одной из питсбургских газет и весьма достойный человек. Когда эта книга готовилась к печати, я с огорчением узнал, что он скончался вскоре после возвращения на родину. (Прим. автора).
[Закрыть].







