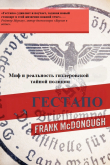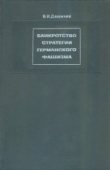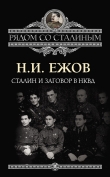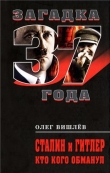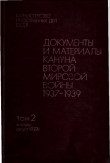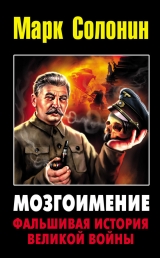
Текст книги "Фальшивая история Великой войны"
Автор книги: Марк Солонин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава 7
ГЛАВНЫЕ МАНЕВРЫ
Сталин ошибся. Катастрофа, беспримерная по своим масштабам и последствиям военная катастрофа состоялась.
Задача, поставленная перед вермахтом по плану «Барбаросса» («основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев...»), была фактически выполнена уже к середине июля 1941 г. Войска Прибалтийского и Западного военных округов (более 70 дивизий) были разгромлены, отброшены 4а 350—450 км к востоку от границы, рассеяны по лесам или взяты в плен. Чуть позднее то же самое произошло и с новыми 60 дивизиями, введенными в состав Северо-Западного и Западного фронтов в период с 22 июня до середины июля. Противник занял Литву, Латвию, почти всю Белоруссию, Западную Украину и Молдавию.
Неман немцы переехали по трем не взорванным мостам у Алитуса и Меркине, полноводную Западную Двину перееха-1И утром 26 июня по двум невзорванным мостам у Даугавпилса (300 км к западу от границы). 4 июля немцы практически без боя заняли г. Остров, захватив два невзорванных поста через р. Великая. 9 июля был занят Псков. Укрепления. Псковского, Островского и Себежского укрепрайонов немцы практически не заметили. В том же темпе, практически не обращая внимания на серые бетонные коробки ДОТов, немцы прошли через линию Брестского и Гродненского УРов. Только на северном фланге Минского укрепрайона разгорелись ожесточенные бои, и наступление противника было задержано на 2—3 дня. 28 июня, ровно через неделю после начала войны, был занят Минск (350 км к западу от Бреста или Белостока). В тот же день, 28 июня немцы форсировали р. Березина в районе Бобруйска силами передового отряда 3-й танковой дивизии в составе двух танковых взводов и одной мотопехотной роты.
В тот же день, 28 июня 1941 г. военный комендант г. Борисова писал в своем донесении:
«...Непосредственно против р. Березина крупных частей противника нет. Действуют по основным магистралям отдельные танковые отряды с охранением от них в виде отдельных дозоров (чаще танкеток) силою от отделения до взвода (т.е. от 10 до 50 человек. – М. С). <... > Гарнизон, которым я располагаю для обороны рубежа р. Березины и Борисова, имеет сколоченную боевую единицу только в составе бронетанкового училища (до 1400 человек). Остальной состав – сбор «сброда» из паникеров тыла, деморализованных отмеченной выше обстановкой, со значительным процентом приставших к ним агентов германской разведки и контрразведки (шпионов, диверсантов и пр.). Все это делает гарнизон г. Борисова небоеспособным.
Отсутствие 3-го отделения и трибунала, до организации их мною лично, значительно ослабляет боеспособность и без того малобоеспособных частей гарнизона. Кроме того (подчеркнуто мной. – М.С.) нет танков и противотанковых орудий...»
10– 11 июля Днепр был форсирован в 200-километровой полосе от Орши до Рогачева. 16 июля 29-я мотопехотная дивизия вермахта заняла Смоленск (700 км к востоку от границы). Две трети расстояния от Бреста до Москвы были пройдены менее чем за месяц.
К 6—9 июля (эти даты в советской историографии традиционно считаются временной границей так называемого «приграничного сражения») войска Северо-Западного, Западного и Юго-Западного фронтов потеряли 11,7 тыс. танков, 19 тыс. орудий и минометов, более 1 млн. единиц стрелкового оружия. Учтенные потери личного состава этих трех фронтов составили 749 тыс. человек. Вермахт на Восточном фронте потерял к 6 июля 64 тыс. человек. Таким образом, потери личного состава наступающего – причем очень успешно, по 30—50 км в день наступающего – вермахта и обороняющейся Красной Армии соотносились примерно как 1 к 12. К концу июля численность учтенных немецким командованием военнопленных составила 814 тыс. человек. Безвозвратные потери танковых дивизий вермахта к концу июля 1941 г. составили 503 танка. К этой цифре следует добавить потерю 21 «штурмового орудия». Можно приплюсовать и потерю 92 танкеток Pz-I. Даже и в этом случае соотношение безвозвратных потерь танков-сторон составляет 1 к 19.
Это есть «чудо», не укладывающееся ни в какие каноны военной науки. По здравой логике – и по всей практике войн и вооруженных конфликтов – потери наступающего должны быть больше потерь обороняющегося. Соотношение потерь 1 к 12 возможно разве что в том случае, когда белые колонизаторы, приплывшие в Африку с пушками и ружьями, наступают на аборигенов, обороняющихся копьями и мотыгами...
В годы зрелого застоя появился такой невеселый анекдот. Посреди Красной площади в Москве стоит мужик и разбрасывает листы чистой бумаги. Ну, его – ясное дело – под белы ручки и в милицию.
– Ты че делаешь?
– Листовки разбрасываю.
– Какие листовки? На них же ничего не написано!
– А что, кому-то еще непонятно?
Тем, кто видел чудовищный разгром лета 41-го своими собственными глазами, долгие объяснения его реальных причин были не нужны. Им и так все было понятно. Как по команде (а может быть – и вправду по команде) сложился негласный «заговор молчания», по условиям которого даже в секретных рапортах и докладах не следовало говорить о том главном, что и безо всяких рапортов знали командиры и подчиненные на всех ступенях военной лестницы. Вот, например, интересный документ (ЦАМО, ф. 221, оп. 5554, д. 4, лл. 34—39). 9 июля 1941 г. генерал-майор Тихонов пишет на имя Уполномоченного Ставки ГК генерал-полковника Городовикова доклад под названием «Выводы по наблюдениям за операциями на рижско-псковском и островско-псковском направлениях». Судя по названию, генерал Тихонов был послан в войска с задачей непредвзято разобраться в причинах разгрома и доложить свои выводы высшему командованию. С чего же начинает он свои «Выводы»? Со следующей, мягко говоря – странной фразы: «Не вдаваясь в первопричины (подчеркнуто мной. – М.С.) отхода войск Северо-Западного фронта, необходимо констатировать наличие в войсках на сегодня следующих недостатков...»
Впрочем, даже отказавшись обсуждать «первопричины», генерал Тихонов констатировал, что:
«...В обороне командиры и бойцы неустойчивы... Приходилось видеть много случаев, когда отход начинался без приказа начальника, без нажима пехоты, под давлением только танков или артиллерийского огня или огня минометов... Артиллерия проявляет неустойчивость, преждевременно отходит с огневых позиций, не использует всей мощности своего огня... Противотанковые орудия в обороне также неустойчивы, преждевременно оставляют свои позиции, в результате чего танки противника командуют на поле боя... Пехота – слабейшее место войск. Наступательный дух низок...
Часть командного состава, особенно в звене до командира батальона, не проявляет должного мужества в бою, отмечаются случаи оставления поля боя без приказа начальника одиночками и даже подразделениями. Более того, даже в звене высшего командного состава проявляются у некоторых растерянность и упадок духа... Тылы, начиная с полкового, плохо управляются, блуждают и являются первоисточниками панических слухов и потоков...»
К весьма примечательным выводам пришел военный историк, полковник Л.Н.Лопуховский. В сборнике «Великая Отечественная катастрофа-3» (М.: Яуза, 2008) опубликована его статья «В первые дни войны». Работа посвящена истории разгрома 120-го гаубичного полка РГК (4-я армия, Западный фронт). Интерес автора к истории именно этой части понятен – полком командовал его отец, полковник Н.И. Лопуховский (погиб в начале октября 41-го в «вяземском котле»). Работая в ЦАМО с уцелевшими документами Западного фронта, Л.Н. Лопуховский отметил следующее:
«...Лишь иногда можно встретить подробное донесение о причинах оставления на территории, захваченной противником, вооружения и боевой техники. Впечатление такое, что часть таких донесений просто изъяли из соответствующих дел, передав их на особое хранение (на эту мысль наводят исследователей многочисленные случаи изменения нумерации страниц в делах в меньшую сторону)… Странно, что в докладе командира 120-го гап ничего не сказано о причинах оставления в пунктах дислокации 12 гаубиц:Б-4. «Оставили» – и все...»
Для того чтобы вам стало понятнее, насколько это «странно», придется привести несколько цифр. 203-мм гаубица Б-4 на гусеничном лафете – это стальное чудовище весом (в походном положении) 19 т, способное забросить 100-кг снаряд на дальность 18 км. Отпускная цена гаубицы Б-4 в 1939 г. была установлена в размере (в зависимости от комплектации) 510—585 тыс. рублей. Это цена легкого танка. Или 90 легковых автомашин М-1 («эмка»). Такие мощные и дорогостоящие артсистемы «просто так» оставлять не положено...
Строго говоря, при наличии большого желания можно было выяснить «причины оставления» едва ли не каждого танка, каждой тяжелой гаубицы, каждого брошенного на аэродроме самолета. Оружие «просто так» не раздают. За сохранность каждой единицы вооружения персонально отвечали конкретные лица. Даже простая трехлинейная винтовка имела свой индивидуальный номер и выдавалась бойцу под роспись. После того, как ценой крови миллионов война закончилась не в Москве, а в Берлине, Сталин мог устроить большой «разбор полетов». Можно было взять десятки тысяч трофейных документов вермахта и скрупулезно сверить каждое донесение о «потерях противника» с потерями, учтенными в документах самого противника. Можно было конкретно выяснить, что стояло в действительности за донесениями о «многократно превосходящих силах противника», о пресловутых «немецких авиадесантах», о немецких танках, которые тысячами появлялись в самых неподходящих местах... Много чего можно было проверить, но товарищ Сталин проявил в этом деле великую мудрость.
Сталин не стал ничего проверять и выяснять. Да и зачем? Для установления «первопричин» военной катастрофы 41-го года? Сталин прекрасно понял эти «первопричины» уже в первые дни войны. Для наказания виновных? Главными виновными был он сам и преступная банда его сообщников. Что же касается «стрелочников», то они уже были примерно наказаны. 16 августа 1941 т. вышел знаменитый приказ № 270 «О случаях трусости и сдаче в плен и мерах по пресечению таких действий». Для вящей убедительности Сталин приказал подписаться под этим документом, едва ли имеющим аналог в военной истории цивилизованных стран, своим подельникам: Буденному, Ворошилову, Жукову, Молотову, Тимошенко и Шапошникову. Постановляющая часть приказа № 270 гласила:
«Приказываю:
Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров. Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава...
Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен – уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи...»
Очень важным для понимания образа мыслей товарища Сталина является тот факт, что в приказе № 270 он не счел нужным даже упомянуть о таких высоких мотивах, как «защита завоеваний Октября», «спасение человечества от фашистского варварства», не вспомнил ни про Дмитрия Донского, ни про Александра Невского. Просто и без обиняков военнослужащим Красной Армии напомнили о том, что их семьи являются заложниками их поведения на фронте. Современному читателю трудно, наверное, понять конкретный смысл фразы «лишить государственного пособия и помощи», но те, кто выслушал приказ № 270, стоя в строю, уже знали, что по взлетевшим до небес ценам «колхозного рынка» на среднюю зарплату рабочего можно было купить примерно 4 кг хлеба или два куска мыла. На выбор.
Приказ Сталина не остался пустым звуком. Всего за годы войны по приговорам военных трибуналов было расстреляно 158 тыс. человек (в докладе Комиссии по реабилитации была указана «точная» цифра – 157 593, но я сомневаюсь, что в кровавой круговерти войны возможен был столь точный учет). Десять дивизий поголовно расстреляно своими. Так что наказать «стрелочников» товарищ Сталин не забыл. Едва ли стоит напоминать и тот общеизвестный факт, что Советский Союз отказался от сотрудничества с Международным Красным Крестом, что сделало невозможным оказание помощи продовольствием и медикаментами находящимся в немецком плену красноармейцам.
И после великой Победы Сталин не стал транжирить ресурсы на то, чтобы накормить, одеть и обуть в целое и новое, предоставить нормальное жилье и дешевенький «фольксваген» каждому из выживших в организованной им всемирной бойне победителей. Он поступил гораздо умнее. Оп проявил великую щедрость и сделал один, но истинно царский подарок на всех: Сталин подарил своим подданным СКАЗКУ. Сказку про юную прекрасную страну, в которой среди бескрайних лесов, полей и рек дышалось так вольно и счастливо. Но однажды, солнечным летним утром, проклятая фашистская орда вероломно и внезапно напала на мирную страну. Благородная ярость мирных людей вскипела, как волна, и обрушилась на захватчиков. У защитников чудесной страны не было танков, не было самолетов, простых винтовок и то не хватало, но зато был беспримерный в истории массовый героизм и небывалое единство партии и народа. И бежали в страхе черные полчища, и весь мир в восхищении встречал армию-победительницу цветами и трофейными аккордеонами.
Взрослые люди слушали эту волшебную сказку и забывали все, что видели своими собственными глазами, а когда кровожадный и подлый сказочник умер (или был своевременно отравлен своими товарищами по Политбюро), миллионы очарованных взрослых детей рыдали и бились в истерике. А затем, в спокойной обстановке, на обильных номенклатурных харчах были сочинены горы книг о том, что «источником высоких моральных качеств советских воинов были: прочность и великие преимущества социалистического общественного и государственного строя, дружба народов СССР, советский патриотизм и пролетарский интернационализм, безраздельное руководство Коммунистической партии всеми сторонами жизни страны». Надеюсь, вы понимаете – я не ерничаю, я цитирую. Процитирую и то, что в конце 2007 г. написал в ленинградском журнале «Звезда» С. Гедройц:
«...Более полувека тысячи и тысячи специальных людей в специальных же институтах, академиях, управлениях, издательствах производили и воспроизводили специальное Военное Вранье. Документы – какие уничтожены, какие подделаны, какие засекречены, а главное – мозги обработаны так, чтобы пошевелить ими было невозможно. В мавзолее, построенном из циклопических глыб вранья, Великая Отечественная лежала мертвее Ленина...»
Разумеется, все шулерские уловки в рамках одной, главы рассмотреть невозможно, не удастся мне назвать и одной сотой имен, ибо описанные ниже приемы использовали практически все советские «историки», имя же им – легион. Не дерзая сформулировать полную и исчерпывающую классификацию методов «специального военного вранья», я начну этот краткий обзор со следующих четырех приемов:
– «маневр по фронту»;
– «маневр в глубину»;
– «игра ума» (подмена обсуждения фактов спором о «возможностях»);
– применение слезоточивого газа и шумовых гранат.
Военные действия разворачиваются во времени и в пространстве. Эта бесхитростная философия открывает умелому человечку поистине безграничные возможности для фальсификаций. Сейчас я вам наглядно покажу, как, применяя маневр по фронту и маневр в глубину, можно предъявить доверчивому читателю ЛЮБЫЕ соотношения численности войск противоборствующих сторон.
Начнем с самого простого, сугубо теоретического примера. Некая дивизия стала в оборону. По довоенному Полевому уставу (ПУ-39, п. 375) «стрелковая дивизия может успешно оборонять полосу шириной по фронту 8—12 км, стрелковый полк – участок по фронту 3—5 км, батальон – район по фронту 1,5—2км». Предположим, что именно так, как того требует Устав, и расположилась на местности дивизия обороняющихся. Противник имеет задачу силой одной дивизии прорвать оборону. Фактически имеет место полное численное равенство сил сторон (дивизия против дивизии). Однако же наступающая дивизия не пойдет в атаку, растянувшись «цепью» на 10 км. Для этого командиру наступающих не требуется быть величайшим военным гением всех времен – достаточно твердо усвоить Устав. А что там сказано? «Дивизия может атаковать в среднем на фронте до 3 км. Ударная группа дивизии образуется в составе не менее двух стрелковых полков. Она усиливается приданными дивизии танками и поддерживается основной массой дивизионной и приданной артиллерии» (ПУ-39, п. 260).
Даже если никаких приданных танков и артиллерии у атакующих не будет, удар двух полков, поддержанных огнем «основной массой дивизионной артиллерии», придется на участок обороны, занятый (в лучшем для обороняющихся случае) всего лишь одним полком. Таким образом, наступающие имеют двукратное превосходство в численности личного состава и огромное превосходство в артиллерии. Что значит «огромное»? Давайте посчитаем. В полку обороняющихся (здесь и далее берем штатное расписание стрелковой дивизии Красной Армии от апреля 1941 г.) всего 6 пушек калибра 76,2 мм. А у наступающих, кроме 12 пушек двух стрелковых полков, есть еще и «основная масса дивизионной артиллерии, т.е. 32 гаубицы калибра 122-мм и 12 гаубиц калибра 152 мм (16 дивизионных пушек калибра 76,2 мм я бы, на месте командира дивизии наступающих, оставил в резерве – на случай отражения возможного контрудара). По количеству стволов у наступающих 9-кратное превосходство; по совокупному «весу единичного залпа» (есть в военном деле такая характеристика) создается 32-кратное превосходство. И это, заметьте, – при исходном равенстве сил сторон!
Теперь с тактического уровня (полк, дивизия) перейдем на оперативный (армия, фронт). Возьмем на этот раз вполне конкретный пример. Большая часть сил Красной Армии развертывалась на юго-западном ТВД (в полосе от Припяти до Черного моря). В результате этого, несмотря на общее арифметическое превосходство советской стороны в численности войск, на северно-западном ТВД (от Балтики до болот Полесья) в первые дни войны сложилось примерное равенство сил (74 дивизии вермахта в составе групп армий «Север» и «Центр», 71 дивизия Красной Армии в составе Прибалтийского и Западного военных округов).
Однако немецкое командование, разумеется, не выстроило свои войска длинной равной цепочкой, а решительно массировало силы и средства на направлениях главного удара. В частности, с северо-запада на белостокский выступ наступала 9-я армия вермахта в составе трех (8-й, 20-й, 42-й) пехотных корпусов. Три дивизии 42-го корпуса, растянувшись «длинной ниткой» вдоль границы на фронте протяженностью в 110 км, имели задачу отвлечь внимание и сковать часть сил Красной Армии. Основной же удар у самого основания белостокского выступа наносили пять дивизий 8-го и 20-го корпусов. Фактически в полосе обороны одной (56-й) стрелковой дивизии Красной Армии был нанесен концентрированный удар силами четырех немецких дивизий. Многократное численное превосходство уже налицо. Но и это еще далеко не предел концентрации. К северу от 9-й армии вермахта, встык Западного и Северо-Западного фронтов наносила удар 3-я Танковая Группа вермахта. На этапе прорыва приграничных укреплений 3-й ТГр были оперативно подчинены еще и два пехотных корпуса (5-й и 6-й). В первый день войны, только в первом эшелоне наступления, против 128-й стрелковой дивизии Красной Армии наступали три танковые (20-я, 7-я, 12-я, всего 714 танков), две пехотные и одна моторизованная дивизии вермахта. Подавляющее численное превосходство – опять же при общем равенстве сил сторон на ТВД.
И на этом «маневр по фронту» еще не заканчивается. 3-я ТГр в первые дни войны наступала в полосе шириной в 40 – 50 км. Но это совсем не значит, что танки двигались на восток, растянувшись цепью от Вильнюса до Вороново. Ничего подобного – каждая из четырех танковых дивизий группы имела свою собственную «полосу наступления», но и в пределах этой полосы ударные группы танков и мотопехоты наступали на относительно узких участках прорыва.
По предвоенным взглядам советских военных специалистов, танковое соединение непосредственно на поле боя должно было иметь построение в 3 эшелона с интервалами между танками в 20—30 метров. При таком построении немецкая танковая дивизия (порядка 200 танков) наносила удар на фронте шириной в 2 км. Это (см. выше) – район обороны стрелкового батальона. Танковая дивизия против стрелкового батальона! Десятикратное превосходство в численности, абсолютное превосходство в огневой мощи. По штатному расписанию в стрелковом батальоне всего две противотанковые пушки – как они могут парировать удар двухсот танков? Вот оно, «многократное численное превосходство» противника, который, как пишет маршал Жуков, «в первый же день войны нанес сокрушительные рассекающие удары».
Впрочем, все это вы прекрасно знаете и без меня. На собственном, к счастью, почти бескровном опыте. Крохотный комарик весом менее одного грамма сокрушительным рассекающим ударом пробивает толстенную кожу чел о века. На микроскопическом участке острия комариного жала создается давление, которому ничто живое противостоять не может. Значит ли это, что в схватке между человеком и комаром человек обречен? Нет. У человека есть в запасе два способа спастись от атаки комара. Первый – создать заблаговременно подготовленную полосу укреплений (плотная брезентовая куртка, сетка-накомарник, отпугивающая комаров мазь). Второй – нанести сокрушительный контрудар во фланг и тыл противника, т.е. прихлопнуть комара легким движением руки. У обороняющейся армии есть еще и третий вариант действий – противопоставить концентрации сил наступающих на узком участке прорыва адекватную концентрацию сил обороняющихся (человек же – если только это не индийский йог – не может усилием воли уплотнить свою кожу так, чтобы она стала непробиваемой для комариного жала).
Чудес не бывает. При исходном равенстве сил сторон невозможно создать «многократное численное превосходство» на одном участке, не оголив при этом все остальные! Прорыв 3-й танковой группы от Сувалки на Вильнюс и далее на Минск стал возможным вовсе не потому, что немцы нашли «волшебную палочку», позволяющую превращать муху в слона. Просто мощнейший 6-й мехкорпус Красной Армии не смог (точнее говоря – даже не пытался) пробить тоненькую «нитку» боевого порядка 42-го пехотного корпуса вермахта и нанести удар во фланг и тыл 3-й танковой группы. Повторяя все те арифметические упражнения, которые были продемонстрированы выше, мы приходим к тому, что 6-й мехкорпус (1100 танков, более 28 тыс. человек личного состава) должен был обрушить свой «сокрушительный рассекающий удар» на один пехотный полк вермахта непросто «размазать его по стенке». Как комара....
Принцип концентрации сил на направлении главного удара был, есть и будет основой основ военного искусства, но это очень опасный, «обоюдоострый» прием. И совсем не случайно в русском языке существует это словосочетание: «военное искусство». Огромное искусство, т.е. опыт, знания, быстрота и гибкость в принятии решений, нужно для того, чтобы, сконцентрировав усилия на одном участке фронта, не получить сокрушительный контрудар на другом. Если бы это было не так, то все наступающие всегда бы только наступали. Малой кровью и на чужой земле.
Возвращаясь от кровавой военной науки к относительно безопасной военно-исторической пропаганде, отметим, что в советские времена «маневр по фронту» осуществлялся как бы в «два эшелона». На первом, в толстых книгах, претендующих на некую научную добросовестность, фразы о «многократном численном превосходстве вермахта» сопровождались все же стыдливой оговоркой – «на участке прорыва», «на направлении главного удара». Не всяк эти оговорки замечал, но мудрые профессора прикрывали таким образом свою... репутацию. На уровне лекций в «красном уголке» все эти ненужные, отвлекающие от главного уточнения отбрасывались и трудящимся прямо и без обиняков рассказывали про «четырех-пятикратное превосходство противника». Заметим, что цифры эти были взяты просто с потолка, точнее говоря – из райкомовской методички, которая была переписана с горкомовской, и так далее вплоть до отдела агитации и пропаганды ЦК. Именно там и решили, – каким быть «численному превосходству» вермахта. Думаю, что добросовестный подсчет соотношения сил на тех, очень узких участках (фактически – дорожных направлениях), на которых наступали немецкие танковые колонны, дал бы цифры порядка 10—15 к 1.
Всем хорош метод «маневра по фронту», одним только плох – рассчитан он на совершенно безграмотного в военном деле человека. Что, впрочем, вполне соответствовало базовому принципу коммунистической пропаганды: «дурак не заметит, умный – промолчит, смелого – посадим». И тем не менее еще в старые добрые времена «маневр по фронту» был дополнен гораздо более солидным «маневром в глубину» (в данном случае под «глубиной» я понимаю как пространство, так и время).
Суть метода «маневр в глубину» заключается в преднамеренном игнорировании разницы между мгновением и большим промежутком времени, между моментальной фотографией и киносъемкой длительного процесса. Проще говоря, численность войск и вооружений Красной Армии всегда указывалась по состоянию на утро 22 июня 1941 г., причем в географических пределах произвольно установленного «первого эшелона». А на стороне противника суммируется все, что появилось там в течение недели, месяца, года после начала боевых действий. Этот трюк открывает огромные возможности для «мозгоимения».
Если речь идет о «моментальной фотографии» 22 июня 1941 г., то в состав группировки войск противника должны быть включены три группы армий вермахта («Север», «Центр» и Юг»), а в состав группировки Красной Армии – войска четырех западных округов (Прибалтийского, Западного, Киевского, Одесского). Если говорить о «приграничном сражении» (22 июня – 9 июля), то на стороне противника добавляется румынская армия, начавшая 2 июля совместно с немцами наступление в Молдавии, а на стороне Красной Армии – некоторые соединения Ленинградского военного округа, переброшенные в район Остров – Псков, и некоторые соединения Второго стратегического эшелона, реально принявшие участия в боевых действиях в конце июня – начале июля 41 -го. Если мы говорим про лето 41-го, то на стороне противника появляется финская армия, начавшая наступление 10 июля, немногочисленные на тот момент соединения венгерской и словацкой армии, некоторые пехотные дивизии резерва Верховного командования вермахта. На советской стороне в сражение входит весь Ленинградский округ, весь Второй стратегический эшелон, многочисленные новые формирования. И так далее...
Уже из этого краткого обзора видно, что добросовестная оценка численности войск Красной Армии и противника требует определенных знаний и интеллектуальных усилий. Самое же главное – она неизбежно приведет совсем к другим выводам, нежели те, что записаны в райкомовской методичке. Поэтому решено было «не умничать». Вот так и появились те цифры, которые, надеюсь, наизусть известны каждому ветерану лекций в «красном уголке». А именно: к численности трех групп армий вермахта (84 пехотные, 17 танковых и 13 моторизованных, всего – 114 дивизий) приплюсовываются:
– 9 дивизий охраны тыла (укомплектованные военнослужащими старших возрастов полицейские формирования);
– 4 дивизии армии «Норвегия» (вступившие в боевые действия в начале июля);
– 24 пехотные, 2 танковые, 1 моторизованная дивизии резерва Верховного командования (появившиеся в таком количестве на Восточном фронте лишь к началу битвы за Москву);
– 36 финских, румынских, венгерских, словацких дивизий (воистину «не идущих ни в какое сравнение» с дивизиями вермахта по вооружению и уровню боевой подготовки и, за исключением 16 финских дивизий, пригодных только к грабежам на оккупированной территории).
Вот вам и искомые «190 немецких дивизий», которые на страницах советских учебников истории «на рассвете 22 июня» вторглись на территорию СССР. При этом разумеется, игнорировался тот факт, что численность группировки советских войск тоже возрастала – причем возрастала в несравненно большем масштабе и с большей скоростью, нежели группировки вермахта и его союзников.
22 июня в составе войск четырех приграничных округов было как минимум 149 «расчетных» дивизий (7 кавалерийских дивизий и 12 воздушно-десантных бригад учтены как 7 «расчетных дивизий»). В эту цифру не включены 10 противотанковых артиллерийских бригад и по меньшей мере 16 дивизий Второго стратегического эшелона, которые к 22 июня уже находились на территории западных округов, не учтены и части войск НКВД, численность которых (154 тыс. чел.) соответствовала десяти «расчетным дивизиям». Таким образом, даже к началу – крайне неудачному, незапланированному, преждевременному началу боевых действий – Красная Армия обладала небольшим численным превосходством над противником в общем числе дивизий (превосходство в авиации, в численности танков и танковых дивизий было при этом многократным).
В начале июля в бой вступили соединения Ленинградского округа: 15 стрелковых, 4 танковые и 2 моторизованные дивизии. К 5—10 июля была в основном завершена передислокация на ТВД войск Второго стратегического эшелона (16-я, 19-я, 20-я, 21-я, 22-я, 24-я и 28-я армии). В середине июля, даже несмотря на потери первых недель, в составе действующей армии было уже порядка 235 дивизий. К концу июля были сформированы 29-я, 30-я, 31-я, 32-я, 33-я, 43-я, 49-я армии. Всего в ходе двухмесячного смоленского сражения было введено в бой 104 дивизии и 33 бригады. В общей сложности до 1 декабря 1941 г. на западное стратегическое направление Ставка направила 150 дивизии и 44 стрелковые бригады, на ленинградское и киевское направления – еще 140 дивизий и 50 стрелковых, бригад. А ведь кроме стрелковых (пехотных) соединений формировались еще и кавалерийские, танковые, артиллерийские...
Причина, по которой Красная Армия могла наращивать свою численность в таком темпе, предельно проста. Те части и соединения, которые вермахт смог сосредоточить у границ Советского Союза, это тот максимум, который смогла достичь 80-миллионная Германия через два года после начала всеобщей мобилизации. Добавить к этому «максимуму» было почти что нечего. С другой стороны, те дивизии, которые Красная Армия развернула в западных округах к 22 июня 1941 г., представляли собой минимум, который 200-миллионный Советский Союз смог сформировать в условиях скрытой, тайной мобилизации и перебросить на Запад в рамках незавершенной передислокации войск.