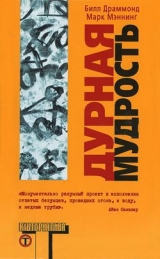
Текст книги "Дурная мудрость"
Автор книги: Марк Мэннинг
Соавторы: Билл Драммонд
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
– Как ты сумел вытерпеть эту боль? Твои друзья потеряли сознание, не выдержав и десятой доли того напряжения, которое выдержал ты.
– Детка, – я рассмеялся. Мой член затвердел, как базальт. – Я из Йоркшира. Не человек, а кремень.
Она рассмеялась и обхватила мой израненный причиндал своими влажными жадными губками. Она заглотила его чуть ли не целиком. У меня было такое чувство, будто мой член оказался в гнезде электрических угрей. Ее язык трепетал, словно нежная влажная бабочка. Запредельное ощущение. Потом она отпустила мой член и стала самозабвенно лизать мне яйца. Мне не хотелось кончать так вот сразу: хотелось продлить уникальный опыт нацистского секса, – так что я попытался расслабиться. Марлен оторвалась от моих яиц и встала раком, подставляя мне задницу. Словно тевтонская кошка в агонии похоти.
Я разумеется, не преминул этим воспользоваться и всадил ей по самые яйца – в задний проход. Она завизжала от боли и удовольствия. Она запрокинула голову и укусила себя за руку, за край ладони, где большой палец соединяется с указательным. Ей было больно. По-настоящему больно. Я слегка поумерил прыть и принялся обрабатывать ее восхитительный тесный тоннельчик чуть бережней. Она облегченно вздохнула, когда мои яростные толчки превратились в сдержанную пульсацию. Ее кожа покрылась испариной, от нее исходил аромат подслащенного молока и жимолости. Она шептала слова любви на своем родном языке, а я все толкал и толкал в нее свой окровавленный инструмент, раздирая ее изнутри и проникая до самых кишок. Когда я его вынул, он был весь в дерьме, а ее сладкая дырочка была вся раскурочена, и кровь текла по ее ногам. Я извинился за свой безудержный пыл. Она горько расплакалась, но потом все же простила меня и улыбнулась.
– Люби меня как женщину, – проворковала она. Я уложил ее на спину и выебал в традиционной позе. Как ее не ебали ни разу в жизни. Пока я не спустил, она кончила семьдесят три раза – я считал. Но все хорошее в жизни когда-то кончается.
– Ты самый лучший любовник из всех, которых я знала, – она чуть ли не задыхалась в посткоиталыюм восторге. Я рассмеялся. Она – не первая женщина, кто мне это говорит.
Я встал, кое-как вытер свой член, весь в марленских секрециях, крови и говне, и налил себе еще виски.
– Выпить не хочешь? – спросил я у своей изможденной любовницы.
– Да, милый. Налей мне побольше.
Я налил ей неслабую порцию в самый большой бокал, который только нашелся в баре, и вернулся к кровати. Проходя мимо камина, я погладил дрыхнувшего ротвейлера по голове. Марлен сидела в постели, набросив на плечи черный шелковый халат, расшитый свастикой, и курила тонкую длинную сигарету. Вся – в окружении голубоватого дыма. Она была очень красивой. В пляшущем свете пламени бисеринки пота на ее голой груди искрились, как крошечные эротические самоцветы.
– А теперь расскажи мне, детка, – сказал я, потягивая виски, – как ты, такая красивая и сексуальная, стала главой этой банды оголтелых кун-фушных нацисток с. явными психическими отклонениями?
– О, Марк, – она назвала меня моим настоящим именем, – все не так, как оно кажется. – Она смахнула слезу со своей нежной щечки. – Хочу тебе кое в чем признаться.
– Ты успокойся, малышка. Не плачь. Все хорошо. Так в чем ты хотела признаться? – я приобнял ее за плечи, желая утешить и приободрить.
Она говорила долго и сбивчиво: что-то про Четвертый рейх где-то в Южной Америке, где уцелевшие после войны нацисты создали новый оплот для дальнейших претензий на мировое господство. Они обнаружили наиболее верный способ воздействия на психику неприятеля: чтобы сломить волю врага и уничтожить его морально, надо, чтобы его пытали красивые – очень красивые – женщины. Они похитили бабку Марлен и держали ее в заложницах, чтобы Марлен согласилась на них работать. Ее настоящее имя – Хейди, и раньше она работала воспитательницей в интернате для умственно неполноценных детей, но нацисты силой забрали ее к себе и заставили делать всякие страшные вещи. И она согласилась, потому что они пригрозили убить ее бабушку. Это все так ужасно… Марлен разрыдалась, кусая пальцы. Я прижал ее к себе и принялся гладить по голове.
– Прости меня, Марк, прости, – всхлипывала она.
– Все хорошо, моя маленькая. Только не плачь. Я тебе верю. И я тебе помогу. Обязательно помогу. Больше тебе не придется работать на этих гадких нацистов.
Я ударил ее ножом и вспорол ей живот – от пупа до грудины. Дымящиеся кишки вывалились наружу.
– Ты, нацистская сука! Чтобы кто-то поджарил мне хуй, и это сошло ему с рук… да хрена лысого! – я запустил руку в кровавое месиво, нащупал под ребрами дрожащее легкое и выдрал его, что называется, с мясом. – Эй, малыш, – я бросил ротвейлеру угощение. Пес мгновенно проснулся и схрумкал легкое в три укуса. Потом запрыгнул на кровать и, виляя обрубком хвоста, жадно вгрызся в распластанный труп своей бывшей хозяйки. С кровати он слез, унося в зубах клубок теплых кишок. Я рассмеялся: это было похоже на извращенно-садистскую рекламу туалетной бумаги – ну, там, где песик носится по квартире с рулоном, и бумага разматывается, только здесь вместо бумаги были человеческие кишки.
Я тоже решил поучаствовать в этом расчленении трупа и принялся выковыривать глаза Хейди ножом. Самое удивительное: она была еще жива, и даже что-то такое булькала, – так что пришлось вонзить ей в рот длинный эсэсовский кинжал, чтобы она наконец умолкла. Кинжал прошел через шею и пригвоздил Хейди к подушке. Но Хейди никак не желала умирать: она все стонала и выла. «М-да, – помню, подумал я про себя, – что мне не нравится в бабах, так это то, что они никогда не умеют вовремя заткнуться». Я выдернул кинжал – теперь скользкий от крови и слизи, – и отрезал ей голову. Как говорится, чтобы уже наверняка. Перерезая последние сухожилия, я думал об Анне Болейн. Голову я бросил в огонь. Фидо смачно чавкал каким-то кровавым ошметком и вилял своим обрубленным хвостиком.
Я отхлебнул виски и еще раз полюбовался на свою работу. От моей нацистской кошечки почти ничего и не осталось – все отверстия для секса я тщательно расковырял ножом, а ее голова догорала в камине. Наверное, для человечества в целом это был шаг назад – к первобытному буйству и зверству. Но я себя чувствовал очень даже неплохо.
Глава восьмая
На землю нисходит любовь
«И взяв чашу, благодарив, подал им; и пили из нее все. И сказал им: сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая». От Марка 14:23-24
Смеркается. Едем. Держу на коленях карту. Кажется, мы проехали местечко под названием Сода-кила, но я не помню. Разговор заходит о России: что было бы здорово туда съездить. На дороге стоят указатели на Мурманск, и это звучит романтично. Черная вода, замерзшие верфи… неясные, смутные планы. Ивало, шестьдесят километров. Тишина.
Мой член был как метафора боли. Словно он провисел, распятый на маленьком, как раз по размеру, кресте, три дня и три ночи – пенис Христос на наждачной Голгофе. Билл и Гимпо страдальчески морщились и стонали всякий раз, когда машина подпрыгивала на ухабах. Да, им тоже пришлось несладко. Мы не спали двое суток.
Свет фар. Ивало, 34 км. Гимпо говорит:
– В Ивало и заночуем.
Мы с Z с ним согласны. Ивало: восемь километров. Снежинки кружатся в воздухе. Мысли разбредаются. Колонна снегоочистителей движется прямо на нас, и проходит мимо, и растворяется в сумерках позади.
Вот и Ивало: автозаправки, супермаркеты, большой отель, собор. Но самого города – места, где живут люди, – нет. Да, кстати, а где все люди? Еще минута – и мы выезжаем из Ивало, проехав его насквозь. Гимпо тормозит и смеется. В глазах – упоение чужим страхом. Назад к перекрестку. Надо что-то решать, и Гимпо решает: будем искать бюро информации для туристов.
Торговый центр: припорошенные снежком дети и угрюмые подростки, яркие лыжные костюмы всевозможных цветов, младенцы в колясках с полозьями, как на санках. Заходим внутрь. Сигаретные автоматы и афиши местных дискотек, оставшиеся еще с лета. Все ясно. Обратно в машину.
Едем обратно по той же дороге, по которой приехали. Отъезжаем от города километра на два. Машина скользит по льду. Темнота. Свежевыпавший снег. На берегу замерзшего озера – деревянные домики в ряд, симпатичные и нарядные, как коробки конфет. Коттеджный поселок.
Среди тьмы и метели Гимпо разглядел мотель. Свет от мигающей красной неоновой вывески едва пробивался сквозь бешеный вихрь снежинок, что кружились над автостоянкой под вой леденящего ветра. Желтый свет в окнах конторы был мутным и каким-то далеким – как будто за тысячу миль отсюда. Жутковатое зрелище, надо заметить. Но у меня уже не было сил – даже на то, чтобы должным образом испугаться. Мой истерзанный член разрывался от боли. Хотелось лишь одного: допить водку, что еще оставалась в бутылке с синим пятиугольником, и впасть в мертвую кому недели на три.
Выбираемся из машины и прямой наводкой – в контору. В руках – дзенские палки. Вид решительный и свирепый, типа «нас лучше не трогать, а то хуже будет». Открыто. Заходим. Никого нет. Смотрим открытки, выставленные у стойки. Да, летом здесь просто волшебно: синее небо, детишки играют, водные лыжи и полуночное солнце.
Гимпо с Биллом немедленно завалились спать. Прямо не раздеваясь – в куртках, ботинках и прочес. Уже секунд через тридцать комната сотрясалась от звуков привычной ночной симфонии – вдохновенные фанфары пердежа и храпа, стонов и скрипов яростного онанизма. Я добил свою водку и тоже отправился на боковую. И закружился вихрь снов.
Прелестная хромоножка старшего школьного возраста выходит из двери за стойкой и обращается к нам на безупречном английском. В голову лезут всякие подлые мысли с непристойным подтекстом.
– Вот, бля, достала меня эта хрень!
Облезлая деревянная дверь открылась с пронзительным скрипом. Дохнуло жаром. Запах разогретого жира ударил мне прямо в лицо, заиндевевшее на морозе. За стойкой стояли две девочки, две близняшки совершенно нездешнего вида: полярные феи из сказки – неземные создания с явной болезнью Дауна. Их раскосые азиатские глаза казались просто огромными за толстенными стеклами запотевших очков. В них все было пронизано нечеловеческой грацией и изяществом. Я обожаю монголов: они живут, словно в каком-то ненашенском мире, в мире, где вечное детство, и не надо взрослеть, и грузиться ответственностью, и соответствовать неким стандартам, определяющим степень твоей нормальности, значение которой в современном западном обществе, на мой скромный взгляд, сильно преувеличено.
Билл подошел к стойке и достал из своего докторского чемоданчика пачку кредитных карточек. Спросил у волшебных созданий, говорят ли они по-английски. Они кивнули и одарили нас ослепительными улыбками. Заговорили они в унисон: да, у них есть свободные коттеджи, только папа сейчас отошел, но как только вернется, он сразу нас зарегистрирует.
– Ага, – сказал я. Циклоп шевельнулся в штанах. Я заметил, что Гимпо жадно пожирает глазами великолепные груди наших ущербных полярных фей – явно великоватые для таких хрупких созданий. Да уж, эти умственно неполноценные чаровницы были исключительно сексапильны. И явно охочи до секса. Я слышал, что медперсонал в психиатрических клиниках получает прибавку к зарплате «за вредность», потому что им постоянно приходится растаскивать совокупляющихся идиотов, что, понятное дело, неблаготворно влияет на психику и приводит к различного рода психическим травмам.
Ее отец сейчас вышел, но вернется через пару минут. Все вопросы насчет заселения решает он. Но свободных коттеджей полно, так что проблем никаких не будет. А пока что она помогает нам выбрать самые лучшие из кусочков оленьих рогов на кожаных шнурках. Мы берем сразу три, чтобы каждому – по одному. Шутки, смех. Туристические амулеты. На счастье. Надеваем кулоны на шею.
А вот и папа пришел. Папа Придурь. Стоит, отряхивает от снега свой лыжный костюм. Глаза у него расположены слишком близко друг к другу, и он тоже похож на безвинную жертву не одного поколения родственных браков. Девочки грациозно выскальзывают из-за стойки.
В этом плавном изяществе есть что-то странное и тревожное. Их движения напоминают движения фигуристок на льду. Мама родная! Да это ж сиамские близнецы. Сиамские близнецы, сросшиеся бедрами. Сиамские близнецы-монголки. Сиамские близнецы-монголки с большими сиськами и гипертрофированным либидо. Мне уже представляется столько возможностей… ну, в эротическом плане… Мой тестостеронный компьютер зависает, не справившись с перегрузкой. В трусах все звенит и мигает огнями – прямо пинбол в исподнем. Гимпо какой-то испуганный. Судя по нехорошему запаху, он только что наложил в штаны. Папа Придурь записывает наши имена в свой журнал, и очаровательные уродцы провожают нас в номер. Мой красноглавый змей истекает глицерином. Билл весь горит возбуждением: морда красная, уши дымятся. Он запирается в ванной. Слабое эхо задушенных стонов, доносящееся из-за двери, напоминает предсмертные жалобы маленьких млекопитающих.
Подлые мысли с неприличным подтекстом как-то сами собой увядают, когда появляется ее папочка. Спутанная, всклокоченная борода; весь – воплощенное дружелюбие и любезность. Как всегда, переговоры ведет Гимпо, пока мы скромно стоим в сторонке. Ага, все нормально.
Коттедж: одна комната, две раскладных койки, кровать, печка, ванная, душ, батарея, горячая вода – все очень уютно, мило и симпатично, идеальное место для семейного отдыха при стесненном бюджете, так что когда мы потом будем об этом рассказывать, придется немного приврать. А то даже как-то неловко: такие отвязанные ребята, и поселились в таком славном домике. Дом деревянный, из скандинавской сосны. Все очень чисто и аккуратно. Все – по-домашнему. Никаких списков с чего нельзя, а чего можно, отпечатанных на дешевой бумаге, обернутых в целлофан и пришпиленных к стенам. Никаких «Прежде чем выехать, вынесите за собой весь мусор».
Тьма снаружи притихла, молчит. Фонари кое-как разгоняют сумрак, в пятнах желтого света беззвучно кружатся снежинки. Детские качели во дворике перед домом замерли неподвижно, на сиденье – слой девственно белого снега толщиной дюймов в шесть. Горки и лазилки безропотно пережидают зиму: ждут свою малышню, смешливых девчонок и реактивных мальчишек.
Войдя в дом, мы решаем, что сейчас самое время впасть в психоз, вызванный долговременным пребыванием в четырех стенах. Сказано – сделано. Впадаем по полной программе. Буйство умеренной степени. Мы тут кукуем уже полгода, отрезанные от внешнего мира; голодные белые медведи воют под окнами, и мы сами скоро завоем, потому что питаемся исключительно мороженым мясом скунса и сушеными горькими листьями. Шанс пережить эту зиму неумолимо стремится к нулю. Так что мы загружаемся в наш «Эскорт» и мчимся обратно в Ивало. За провизией – в супермаркет.
В супермаркете, понятное дело, есть всё, но нам нужны только яйца, фасоль, бекон, хлеб, масло и кровяная колбаса. Находим, что нужно, а потом долго стоим перед большой морозилкой, втыкаем на что-то похожее на горелую рыбу и благодарим Господа Бога, что мы не какие-то там иностранцы. Англичане за границей – это вообще разговор отдельный. Народ начинает коситься на нас с подозрением – и его можно понять, – когда мы берем с полок всякие штуки, тычем в них пальцем и громко смеемся. Хэви-металлические журналы на финском: сплошные прически с укладкой феном и японские электрогитары. Как, интересно, эти америкосы умудряются отращивать такой хаер, и где они учатся так играть на гитаре – так блестяще и мастерски, и так зубодробительно скучно? И при этом у них такой вид, будто они до сих пор верят в то, чем они занимаются.
Так, а есть тут ебабельные кассирши? Ну, хотя бы одна? Ни одной.
Мы с Z зависаем у прилавка с охотничьими ножами. Строим из себя крутых знатоков: подробно расспрашиваем продавца про качество изделий и репутацию компаний-производителей. Понятно, что мы в этом деле ни в зуб ногой, мы уже видим себя героями старых комиксов про коммандос: бравые английские парни режут глотки япошкам в бирманских джунглях и расправляются в одиночку с десятком фрицев, не потратив на это ни одного патрона, потому что верный армейский нож никогда не подводит, и все такое. Фантазии постепенно приобретают совсем уже мрачный и злобный оттенок, так что, пожалуй, я лучше не буду вдаваться в подробности. В каждом мужчине живет мальчишка, завороженный остро отточенной сталью, что убивает мгновенно. Одним ударом. Это – любовь на всю жизнь. Мы с Z рассматриваем недорогие модели с красной пластмассовой рукояткой и лезвием из нержавеющей стали.
– Испробуй его. Ну, давай, полосни себя по руке. – Голос.
Я едва поборол искушение пустить себе кровь. Нож – в скромных пластмассовых ножнах. Все очень функционально. Ножик сделает свое дело, сработает чисто, без дураков, и заржавеет уже через пару дней. Кладу на место, беру другой. Реальность, реальность, гребаная реальность. Гимпо ждет нас с тележкой в очереди у кассы.
От неумолимого, яркого света торгового зала – обратно в ночь, в темноту и холод. Студеный ветер швыряет в лицо пригоршни колючего снега. Сваливаем все покупки в багажник. Там, на той стороне дороги, вроде бы бар. Идем туда. Ну да, бар. Все тот же убогий постмодерн с претензией: снаружи – унылый бетон, внутри – псевдоэтническая избушка. Все тот же дерьмовый лагер по двадцать фунтов за кружку. Но там хотя бы тепло.
– Ну, двадцать фунтов – это ты гонишь.
Потом мы еще посетили местный стрип-бар. Страшные тетки – хоббиты женского пола – в национальных костюмах изобразили молниеносное раздевание под рваные ритмы финского панк-рока и устроили показательную мастурбацию посредством оленьих рогов. В общем, даже неплохо. Во всяком случае, оригинально. Но бывает и лучше. Местные завсегдатаи потихонечку дули пиво, дрочили, не стесняясь присутствия посторонних, и ширялись у всех на глазах. Помню, я еще подумал, что все это напоминает Килбурн. Но, несмотря на все прелести жизни: изобретательное порно-шоу, занимательное представление с ножами и т. д., и т. п., – я все думал об этих странных волшебных созданиях из отеля, двойниках Клаудии Шифер, сиамских близняшках-монголках с огромными сиськами, об этих нордических порно-фейри из некоей параллельной вселенной сплошного безудержного эротизма. Гимпо громко смеялся над местными прелестницами, дул крепкий лапландский лагер и смачно пердел. Билл сидел, погруженный в свой собственный мир: рассеянно поглаживал споран, курил свою трубку и разговаривал сам с собой. Я заметил, что он любовно ласкает пальцем лезвие крошечного ножа с пурпурной рукояткой.
Сидим, значит, в баре. Угрюмые чужаки, что приехали в город в поисках приключений на задницу, развлекухи и большого сатори. Вестерны мы смотрим, мы знаем, как это бывает – как это должно быть. Но ничего не происходит. Даже как-то обидно. Играет легкая музыка, несколько пожилых пар ублаготворенного вида с искренним недоумением поглядывают на нас, типа, а это еще что за чуды в перьях? Где угроза? Где риск? Где опасность? Где шлюхи с золотым сердцем, которых мы могли бы спасти от их постыдной, убогой участи, увести прочь отсюда и бросить через неделю? Я представляю себе, что сижу в баре в «Золоте Калифорнии» вместе с Клинтом Иствудом и Ли Марвином.[10]10
[x] «Золото Калифорнии» – это в русском прокате, а вообще фильм называется «Paint Your Wagon».
[Закрыть]
– О чем задумался, Билл? О том же, о чем и я? – спросил я, недружелюбно насупившись. Он усмехнулся, показав заостренные зубы.
Кстати, музыка тут играет вполне приличная. «Wandering Star», например. Бродячая звезда. Я тихонечко подпеваю.
Берем еще по пиву, но без особой охоты. Вся стена за барной стойкой обклеена банкнотами разных стран. Ненавижу. Пытаюсь вдохнуть новую жизнь в мою увядающую фантазию на тему «Золота Калифорнии» и «Бродячей звезды», но фантазия упорно вянет. Возвращаюсь к унылой реальности, где, как выясняется, мы грохнули 120 фунтов на утоление жажды, которой, собственно, и не испытывали.
– Опять гонишь. Уж никак не сто двадцать.
Скучно. Пишу заметки.
Мы вернулись обратно в отель с полным багажником водки. Навозные мухи вновь разжужжались – страшное дело. Папа Придурь надрался достаточно быстро, но все же не раньше чем опустошил две бутылки. Причем водку он пил стаканами, и не разбавляя. Дочурки, надо сказать, тоже пили, как кони.
– Всё, бля, достало! Да еще доченьки уродились… вот жизнь, сука драная, – объявил папа Придурь. Билла вдруг переклинило, он вынул свой ножик с пурпурной рукояткой и разрезал близняшек посередине. Он был ужратый в корягу и, наверное, искренне полагал, что делает им одолжение. Папа Придурь завыл белугой, схватил своих свежеразделенных дочек и принялся прилеплять их обратно друг к другу. А те только невразумительно булькали и хрипели. Такие уроды – это уже извращение природы. Они не имеют права на существование. И потом, я ненавижу сентиментальность. Так что пришлось прибить безутешного папеньку смертельным ударом сверхзвукового каратэ «кролик метит в висок». Его глаза вылетели из глазниц, шмякнулись о противоположную стену и растеклись там двумя подрагивающими глазуньями. Он наделал в штаны – судя по характерному запаху. Мы очистили кассу и быстренько смылись.
Возвращаемся в наш милый домик, готовим пиршество. Психоз, конечно, присутствует – куда ж без психоза, – но теперь у нас есть, что покушать. Яичница с колбасой и беконом в количествах просто немереных, ведро чая, толстые ломти ржаного хлеба, благословен будь Шеф-Повар на небеси! Милый домик постепенно приобретает милый сердцу вид мусорной свалки: тяжкий дух сытого пердежа и разбросанные бычки. Вот она, жизнь! Разговор – идиотские шутки и громоздкая ложь. Снаружи по-прежнему воют белые медведи и ревут сибирские саблезубые тигры. Гимпо сидит за столом, сверяет квитанции и чеки, подсчитывает сегодняшние расходы. Мы с Z занимаемся путевыми журналами: перечитываем написанное за день, исправляем неточности, заполняем пробелы. Иногда достаем свои новые ножички – с лезвиями в пять дюймов длиной, – кидаем их в деревянный пол, так, чтобы втыкались, или сосредоточенно вырезаем узоры на наших дзен-палках. Несем всякий бред – как всегда, с умным видом. Гимпо уже завалился в койку и тихонько похрапывает. Да, у него был тяжелый день. С утра за рулем. И плюс – груз ответственности за двоих раздолбаев в нашем с Z лице.
Психоз на почве клаустрофобии. Страшная вещь.
В тот же вечер, чуть позже. Бар при коттеджном поселке: атмосфера модерновой школьной столовой. Сплошная сосна. Еще по лагеру – здесь он уже не такой дорогой. Отдыхающие семейства играют в карты. Все очень прилично и чинно: не какой-то сомнительный покер или, скажем, очко – только благопристойный вист. Тишина, приглушенный шепот, редкий сдавленный смех. Ощущения странные. Они есть, но я не возьмусь их описывать.
Мы с Z пытаемся разговаривать, но получается как-то натужно. Сидим, пишем заметки. После вчерашних событий в поезде (накал страстей, драматизм ситуаций) сегодня все как-то… вообще никак. Ничего выдающегося. Можно, конечно, дать волю фантазии и напридумывать всякого разного, но у Z это получится лучше. Гораздо лучше. Похоже, за эти два дня мы изрядно друг другу поднадоели. Разговор как-то не клеится. Сидим, тупо пялимся в телевизор: что-то типа конкурса красоты, только для мужиков. Мальчики – хоть сейчас на обложку печатных изданий в жанре жесткого порно для геев. Моя латентная гомофобия вмиг пробуждается и начинает вовсю гомофобствовать, но либерал во мне призывает к терпимости. И это – семейное развлечение? Странно. Телевизор работал без звука, но в колонках наигрывало что-то депрессивно финское народное – заунывное и трескучее. Настроения нет никакого. Настал тот самый унылый миг, когда ты сидишь в баре с друзьями и вдруг понимаешь, что это может быть любой бар в любой части света, и говорить больше не о чем, и ты в очередной раз проникаешься мыслью, что жизнь – это нудно и скучно, и вовсе не так увлекательно, как когда-то казалось. И тут входит сияющий Гимпо. Его улыбка буквально слепит.
Мы едем в город. Да, сейчас будний день, то есть вечер, и мы в глухой финской глубинке, но Гимпо – с его богатым армейским прошлым и неубывающим оптимизмом – всегда нароет как минимум парочку потайных злачных мест, где можно как следует оттянуться, в любых ебенях, на любой, даже самой дремучей окраине, на немодном курорте в мертвый сезон, в гарнизонном поселке. Вот и сейчас, в конце длинного ряда закрытых магазинов Гимпо высмотрел крошечную неоновую стрелку, что указывает во двор и вниз. Надо думать, в подвал. «Ночной диско-клуб». Звучит заманчиво. То есть заманчиво для заграничной поездки, когда надо как-то убить тухлый вечер. Как выясняется, полный отстой. Одиннадцать фунтов за вход. Народу нет ни души. Плохая рок-группа на сцене пытается изобразить что-то из «Bachman-Turner Overdrive». Быстренько съебываем, пока нас не заставили заплатить за вход.
Через двадцать минут. Вот, это уже лучше! Средних лет пары выплясывают фокстрот, кабаре-банд в количестве трех музыкантов зажигает по полной, а мы усаживаемся на высокие табуреты у стойки и упиваемся музыкой. Мы ужасно довольны собой: мы нашли Что-то Стоящее и поймали Драйв, в этом большом, но пустом по зиме отеле, по дороге на север, за городом. Смех, улыбки, приподнятое настроение, счастливые пары грациозно скользят по натертому полу. Да, с бальными танцами здесь, в Финляндии, всё хорошо, равно как и с сибирскими саблезубыми тиграми, горелой мороженой рыбой и слабо алкогольным лагером. Хорошо – в смысле много.
Мягкий, приглушенный свет, дружелюбный бармен смешивает какие-то причудливые коктейли. Зал большой, распланирован очень удобно. Если случайно встречаешься с кем-то взглядом, этот кто-то радушно тебе улыбается. Народ здесь серьезный, солидный, одеты все хорошо – усердные и работящие члены сообщества, пользующиеся заслуженным уважением среди своих коллег и знакомых. И что самое главное, здесь мы не чувствуем себя изгоями, отбросами общества и опасными асоциальными элементами. Дальняя стена – сплошь зеркальное стекло. Снаружи – горькая ночь, черный лес, что окружает вершину мира, растянулся на тысячи миль, отсюда до Берингова пролива. Прикольно, как настроение может разительно перемениться буквально за долю секунды.
Сон перестроился на другую волну: Богоявление номер два. Ангельски белый свет и заряженные электричеством подсолнухи осыпаются, словно цветы отцветающей вишни в замедленной съемке; теплый ток понимания всего на свете мчится по венам, точно морфиновый паровоз; гудящий генератор запредельной нирваны просветляет все нервные окончания. Я – сверкающая галактика из крошечных оптоволоконных звезд, звездная пыль, рассыпанная в сновидении, голос Вселенной поет в моем теле благословенным божественным упоением, да святится имя мое.
Я вижу слепых рыбаков, что плывут сквозь пространство. Теперь у них выросли крылья, их улыбки – блаженны. Их татуировки сияют нездешним светом – взвихренные цвета. Над головами их – нимбы. Они запевают «Люби меня нежно», «Love Me Tender», безумно красивыми ангельскими сопрано в телепатической коммуникации.
«Песни свингующих дзен-мастеров», композиция первая: «Чужестранцы в ночи». Очень стараюсь сдержаться и не выдать красивую ложь о… или, скажем, о том, что Фрэнк Синатра по происхождению никакой не итальянец. Он – чистокровный финн. А откуда, вы думаете, у него эти пронзительные голубые глаза и светлые волосы? А вся эта биографическая итальянщина – это происки мафии, с которой ему в свое время пришлось заключить соглашение. Вы же видели «Крестного отца»? По счастливой случайности Фрэнк сейчас в Ивало – это его родной город, – приехал сюда ненадолго, на пару дней, повидаться с семьей и друзьями и спеть «Dooby dooby do, Do Do Do Do, Doooo», в порядке родственного одолжения, на торжествах по случаю золотой свадьбы своего кузена Ульриха.
Этот божественный свет пропитал все мое существо, и я понял, что Бог воистину есть любовь, что он любит меня, как сына, и что рыбаки – наши ангелы-хранители в этом опаснейшем из путешествий. Тысячи слепых ангелов-рыбаков окружали меня. Они улыбались и излучали тепло и любовь. Там, во сне, я смахнул слезу и упал на колени, беспомощный перед лицом столь величественного Добра.
На самом деле, ничего, в общем-то, не происходит. На душе хорошо и светло. Гимпо сидит – улыбается, Z с блаженным и радостным видом строчит свою Ложь и Поэзию, а я принимаю ненавязчивые знаки внимания от некоей леди неопределенного возраста, которая ущипнула меня за задницу и теперь строит мне глазки, что жутко радует Z и Гимпо. Волшебная сила килта, вот что я вам скажу. Толстый, но дружелюбный финский бизнесмен подходит к нам и желает общаться. Он занимается горным делом, и здесь у него рудники. Он ставит нам выпивку: странный коктейль на базе водки и свежего снега. На вкус – страшная гадость, но мы пьем и нахваливаем. Зажигательный джиттербаг сменяется медленным вальсом. Есть мелодии знакомые, есть совсем неизвестные. «Мы с тобой улетим на луну, мы будем плыть среди звезд…»
Я проснулся в слезах. Это были хорошие слезы – слезы радости и благодарности. Билл жарил яичницу в кухонном закутке; его извечно серьезная рожа утратила свое обычное выражение угрюмо-суровой героической решимости и осветилась любовью и счастьем. Гимпо танцевал, распевая гимны.
Я как будто проснулся совсем в другом мире, в мире, где не было паранойи, что вечно маячила у меня за плечом и норовила вцепиться в шею, как голодный вампир. В мире, где я не испытывал этого мерзкого чувства горького отвращения к себе – отвращения питавшего желчную мизантропию, которую я носил в себе, как болезнь, почти всю свою сознательную жизнь. Оно исчезло: исчезло, как паутина, унесенная свежим морским ветром. Я уже не боялся женщин, которых боялся всегда и которых втайне ненавидел; меня уже не тянуло ни к героину, ни к педерастии. Я словно переродился. Стал другим человеком, который был лучше и чище меня того, прежнего. Я стоял у окна, глядя на эту сверкающую нетронутую красоту, и плакал. Плакал в первый раз в жизни.
Где-то в мире идет война. Где-то молоденькие ребята решают объединиться в банду, а тринадцатилетняя девочка переключает телик на другую программу – посмотреть, не началось ли уже «Дома и на куличках». Но здесь и сейчас мы решаем, что пора домой спать: завтра нам рано вставать. Усевшись в машину, мы настоятельно просим Гимпо больше не применять ручной тормоз на крутых поворотах.
Возвращаемся в наш милый домик, к психозу на замкнутые пространства.
Билл так широко улыбался, что я испугался, как бы его голова не переломилась пополам. В глазах у него дрожали слезы. Слезы священной радости. Я подошел к нему и обнял за плечи, как христианин брата-христианина.








