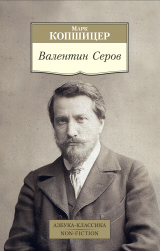
Текст книги "Валентин Серов"
Автор книги: Марк Копшицер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
После этой картины Чистяков занялся преподаванием и настолько перегрузился теорией, что второй своей картины, «Смерть Мессалины, жены римского императора», так и не мог закончить.
Репин предупредил Серова, что Чистяков, что называется, чудак. Правда, все его чудачества имеют смысл, но иногда доводят учеников чуть не до слез. Все это надо перенести, как бы оно ни казалось глупым и ненужным на первый взгляд.
Второе письмо, которым снабдил Серова Репин, было к конференц-секретарю Академии Исееву. Репин просил допустить Серова к экзаменам в обход правил, по которым для этого нужно было иметь полных шестнадцать лет.
Это были, кажется, единственные рекомендательные письма, с которыми в своей жизни имел дело Серов. Он не выносил никаких писем и записок, имеющих целью обойти общие для всех правила.
Так окончилось детство Серова, человека и художника.
Глава II
Поздней осенью 1880 года Серов приехал в Петербург.
Он остановился в доме своей тетки Аделаиды Семеновны Симонович, сестры Валентины Семеновны, и немедленно отправился в Академию.
Петербург в это время года являет собой унылую картину. Мелкий косой дождь пеленой застилает мир: дома, прохожих, лошадей; низкое серое небо давит, и кажется, что нигде в мире нет и не может быть солнца.
Много лет спустя, в долгие вечера, беседуя с Грабарем, писавшим его биографию, Серов вспоминал события этих дней: свой первый визит к Чистякову, экзамены в Академии. Он долго не мог решиться постучать в дверь этого почти легендарного учителя. Он трусил – так напугал его Репин. Но когда наконец увидел старика, весь страх улетучился мгновенно. Чистяков оказался радушнейшим хозяином, гостеприимным и предупредительным. В доме царил покой, немного старомодный и приятный. У Чистякова было очень умное милое лицо. Стариковские глаза светились мягким ласковым светом. Огромный лоб делал его действительно похожим на мудреца. И весь он был так обаятелен, что Серову очень скоро стало казаться, будто он давно уже знаком и с ним самим, с его манерой говорить «по-простому», с его прибаутками и даже с его тверским выговором.
Лишь несколько дней спустя понял Серов, что Чистяков-учитель – это совсем не то, что Чистяков-человек.
Репин рассказывал ему, как Чистяков испытывает «новобранцев». Перед молодым человеком, думающим, что он уже порядочный художник, Чистяков кладет карандашик и предлагает этот карандашик нарисовать.
Карандашик был таким же легендарным, как и сам Чистяков. Через него должен был пройти всякий. Но молодой человек не знает этого. Он обижается: ему уже позировали знакомые, он писал портреты, и вдруг – карандашик… Однако вскоре оказывается, что карандашик – слишком сложная натура. Чистяков с огорчением отмечает это:
– Да вы, батенька, еще не умеете рисовать карандашик, вот пожалуйте – кубик.
Таким образом, Серов был подготовлен к чудачествам учителя и ждал традиционного карандашика.
Но Чистяков вспоминает письмо Репина.
– Ах, он талантлив, даже очень… Гм… очевидно, он также очень самоуверен, этот юноша, впрочем, как и все они. Ну что ж…
Чистяков взял лист бумаги, скомкал его и бросил перед Серовым на пол. Бумажный комочек покатился, зашуршал, как бы посмеиваясь, и остановился.
– Вот, – сказал Чистяков, – нарисуйте.
Это уж было слишком! Комочек показался Серову издевательством, но, помня наставления Репина, он проглотил обиду и принялся за работу. А Чистяков между тем и не думал издеваться над ним, во всяком случае, не думал издеваться больше, чем над другими, если только этот пункт его знаменитой педагогической системы (пункт, именовавшийся «сбить спесь») можно назвать издевательством. Просто он считал, что скомканный листок бумаги не менее сложная натура, чем карандашик или кубик. И Серову пришлось очень скоро убедиться в этом. Он не сумел нарисовать так, чтобы удовлетворить требованиям Чистякова, и окончательно смирил себя, попал под обаяние учителя. Чистяков же, несмотря на то что Серов не справился с задачей, оценил и его талант, и упорство, и готовность подчиниться наставлениям. Официальные академические экзамены прошли благополучно. Уроки Репина не пропали даром. Серов был принят в Академию художеств.
Наиболее влиятельными преподавателями Академии были В. П. Верещагин, В. И. Якоби, М. К. Клодт, Б. П. Виллевальде. Чистяков был в опале. То ли из несогласия с ним, то ли из зависти к его успеху среди студентов профессора сторонились Чистякова. Он отвечал им тем же. В начале его карьеры, после успеха картины «Римский нищий» на Всемирной Лондонской выставке, Чистяков временно был в фаворе у академического начальства. За эту картину и за другую – «Голова чочары» – ему присвоили звание академика и выдвинули кандидатом в профессора. Но он очень скоро успел вызвать недовольство того же начальства, откровенно излагая свои взгляды на искусство и методы преподавания, и утверждение его профессором не состоялось. В ноябре 1872 года ему присвоили звание адъюнкт-профессора, что фактически низводило его до положения простого преподавателя, ибо адъюнкт-профессор был лишен всяких прав при решении дел в Академии. В этой должности он состоял и в пору пребывания в Академии Серова, и так продолжалось до 1892 года, то есть целых двадцать лет.
В конце концов его даже перестали приглашать на просмотр ученических работ учеников его же мастерской, всячески третировали, хотя знали, что именно из его мастерской выходят лучшие художники.
Но чем выше вырастала стена между Чистяковым и остальными профессорами, тем ближе становился Чистяков к студентам. Студенты преклонялись перед ним.
Когда шел класс Чистякова, аудитория была полна; во время перерыва никто не бежал в курилку, все с напряженным вниманием прислушивались к каждому слову Павла Петровича, смотрели на него преданными, влюбленными глазами, брали на заметку, записывали каждое его слово. И было что записывать! Принципы его системы были настолько скристаллизованы в его мозгу, что он невольно говорил афоризмами. Десятки их сохранились в записках его учеников.
– Когда рисуешь глаз, смотри на ухо.
– Когда рисуете, надо смотреть не на кончик карандаша, не на часть линии, которую в данный момент рисуете.
– Верно, но скверно.
– Так натурально, что даже противно.
– Не нужно стараться написать все точь-в-точь, а всегда около того, чтобы впечатление было то самое, как в природе.
– Закон – мера, а не трафарет.
– Чтобы найти себя, будьте искренни.
– Вы любите русское в искусстве, а надо научиться любить правду.
– Всех выслушивать, а себе верить.
– Простота дается не просто.
– Простота – высота.
– Избитых сюжетов для умного и смелого художника на свете не существует, а во всем и везде существует великая задача – лишь бы работать.
– Искусство ревниво. Отойди от него на шаг, и оно отойдет от тебя на двадцать шагов.
– Пошляк и на солнце плюнет.
И подобно тому, как знаменитый Козьма Прутков много раз записывает в своих афоризмах: «Никто не обнимет необъятного», Чистяков не устает повторять своим питомцам: «Вполсилы в искусстве не поднять».
Изречения его можно продолжать на многих страницах, и каждое из них – плод долгих размышлений, каждое – свидетельство любви к своему делу. Поэтому ученики так льнули к Павлу Петровичу.
Избранным он рассказывал, как много лет назад явился сюда простым тверским пареньком с твердым намерением стать художником. Он учился прилежно и со рвением, ничем, кроме учения, не занимался, только регулярно писал своим родителям письма, исполненные любви и старомодного провинциального почтения.
Он перегнал многих своих сверстников и за картину «Софья Витовтовна» поехал пенсионером Академии в Италию. Он прожил там несколько лет и так привык к Риму, что совершенно разучился ходить по русским булыжным мостовым и по возвращении на родину то и дело спотыкался, вызывая смех прохожих и попутчиков.
Приехав из Италии, он продолжал писать начатую картину «Смерть Мессалины, жены римского императора» и одновременно начал преподавать. Картину эту он так и не окончил, а преподавателем стал замечательным. Он сам был в этом глубоко убежден.
«Поленов, Репин по окончании курса в Академии брали у меня в квартире Левицкого уроки рисования, то есть учились рисовать ухо гипсовое и голову Аполлона. Стало быть, учитель я неплохой, если с золотыми медалями ученики берут уроки рисования с уха и головы, и надо же было сказать новое в азбуке людям, так развитым уже во всем».
Чистяков гордился своими учениками. Как-то он писал: «Выйдут в двадцать лет три хороших ученика, и ладно. Здесь мерка своя, не на аршин». Но он был счастливее, чем даже сам того желал. Его учениками были Суриков, Репин, Поленов, Серов, Врубель – крупнейшие в то время русские художники. К этому списку надо причислить также Савицкого, Остроухова, Борисова-Мусатова, Грабаря, Кардовского, Рябушкина, Головина.
Чистяков причислял к своим ученикам также Мариано Фортуни. Действительно, когда оба они жили в Риме, романтичный испанец брал уроки академического рисунка у Чистякова и, надо сказать, преуспел в этом. Чистяков был влюблен в картины Фортуни. «От них сияние идет», – говорил он своим ученикам, культивируя в них любовь к этому художнику. Фортуни был, кажется, единственным художником из «новых», у которого призывал учиться Чистяков.
По-настоящему же он почитал только «стариков» – художников Возрождения и XVII века. Он частенько отправлялся со своими учениками в Эрмитаж и, стоя перед какой-нибудь картиной, объяснял:
– Посмотрите, у Рубенса коленка сделана, а бедро размазано – нога живая. Правдиво. – И, обернувшись к ученикам, продолжал наставительно: – Природа – ваша мать, но вы не рабы ее.
И отходил с довольным видом, словно говорил: «Теперь вы видите, как я был прав, когда втолковывал вам все это в мастерской».
Пройдут годы, и Чистяков будет водить новых своих учеников учиться на картинах Серова.
В своих воспоминаниях Головин пишет: «Чистяков справедливо говорил о работах Серова: „У него совершенно невероятное сочетание рисунка с живописью“. „Ему все возможно“. Помню также признание П. П. Чистякова, что он не знает другого художника, которому было бы столько отпущено, как Серову. Бывало, расхаживая по выставке в сопровождении своих учеников, Чистяков останавливался перед каким-нибудь портретом работы Серова и после некоторого молчания оборачивался к ученикам и убежденно произносил:
„Глядит!“
„Глядит“ – было высшей похвалой портретному искусству в устах Чистякова. Этим словом он определял ценность и выразительность портрета».
Годы учения Серова в Академии отнюдь не были годами триумфа. Он шел, выражаясь официальным языком этого учреждения, «на средних номерах». Он не стремился быть первым, ему нужно было не числиться художником, а быть им. Поэтому свою энергию он использовал не столько на занятиях в официальных академических классах, сколько у Чистякова.
Академические профессора даже не замечали, что представлял собой Серов. Однажды один из них спорил с Чистяковым о способностях Серова как колориста. Спор был решен следующим образом: Серову предложили составить краску, соответствующую какой-то точке на теле натурщика. Серов справился с задачей настолько блестяще, что спорщик тут же признал себя побежденным.
А Чистяков, обрадовавшись победе своего ученика, вздохнул удовлетворенно и, наставительно подняв палец, сказал смутившемуся профессору, как если бы тот был учеником его мастерской: «Живопись – вещь простая: нужно взять должный цвет и положить на должное место».
Серов это изречение слышал уже не раз.
Так как Серов был прирожденным колористом, Чистяков и не пытался развивать эту сторону его дарования, уделяя все внимание только рисунку. Рисунок он считал основой живописного искусства и сумел убедить в этом своих учеников. Серов же был в то время одним из фанатичнейших приверженцев всех чистяковских принципов.
Классы Чистякова по академической программе были немногочисленны, во всяком случае, недостаточны для полного усвоения его системы. Именно это и побудило Павла Петровича заниматься с лучшими учениками по вечерам.
Он делал это совершенно безвозмездно, единственно из любви к искусству, к своим ученикам, к преподавательскому труду. Ученики собирали деньги, пытались передать ему, но он неизменно отказывался. «Вы ведь ученики Академии», – говорил он. Он даже завел «заочников» – неимущих учеников, главным образом крестьян, переписывался с ними долгие годы, получал их рисунки и посылал им свои замечания и указания.
Собирались или у него в мастерской, выходившей окнами в Соловьевский сад, или у кого-нибудь из учеников.
С 1879 года (то есть за год до поступления Серова в Академию) начали собираться у Осипова, очень талантливого, рано умершего художника. Серов был самым прилежным посетителем этого кружка.
Вскоре после поступления в Академию он заявил матери, что, во-первых, будет жить в отдельной квартире, во-вторых, на свой счет и всякое вмешательство в дела его учения заранее отвергает.
Тотчас же он находит себе заработок, делает рисунки для какой-то книжки по ботанике. А Валентина Семеновна отправляется в деревню Сябринцы, под Новгородом, осуществлять свою давнишнюю мечту – нести музыку в народ.
Только по субботам он ходит на Кирочную к своей тетке Аделаиде Семеновне Симонович, куда раз в две недели приезжает его мать.
В кружке чистяковцев царил тот высокий дух любви к искусству, преданности ему, которые единственно и могут сделать из талантливого человека большого художника.
Несмотря на шутки, которыми перемежал свою речь Чистяков, обстановка была самой деловой. «Всякий час должен быть серьезен (разумею рабочий час)», – говаривал Чистяков.
Из учеников нужно было выбить дух дилетантства, этого злейшего врага настоящего мастерства. Чистяков был уверен в этом и к отрицавшим строгую школу был непримирим. Экзамен с карандашиком, кубиком и комочком бумаги был лишь первым шагом, хотя и ответственным. После этого шли кропотливые, упорные занятия.
– Кисть руки, – говорил Чистяков, – состоит из костей, сухожилий, мускулов, покрыта кожей и прочее. Чтобы исполнить ее как следует, надо изучить кости, построить их в соответствии в данный момент, написать вид тельно. Одним словом, техника простая – это то, что каждая линия, обрисовывающая форму, сознательна для художника и выражает часть кости, мускула и прочее.
Он звал учиться этому у античных мастеров:
– Вы подходите к статуе Гермеса; какая статуя, как широко вылеплена, как просто! Эта полная силы и молодости рука… А возьмите свечку, осветите руку сбоку, и на этой дивной, по-вашему, широко исполненной руке в запястье увидите все косточки, на тыльной части кости увидите сухожилия и между ними едва намеченную и точной формы жилку.
В кружке главным образом рисовали, кто с гипсов, кто с живой натуры, а Чистяков расхаживал между столами и мольбертами и бросал короткие характерные замечания. В ходу было слово «чемодан», от которого Павел Петрович образовал слово «чемоданисто». Этим выражением он пользовался часто. Оно означало, что рисунок плох, форма неуклюжа, живопись безвкусна.
Он останавливался за спиной ученика, посапывая, долго внимательно смотрел.
– Не попал! – говорил он в заключение. – Как не попал? Смотреть, братец, не умеешь. Смотри получше – это главное. Смотреть надо мимо. Не понимаешь? Когда рисуешь ухо, смотри на пятку. Все сразу надо видеть. Всю натуру. И чтобы, когда рисуешь нос, представлял себе затылок. И чтобы зритель его видел, этот отсутствующий затылок.
Еще стоял некоторое время, уходил к другим, потом возвращался и, уже мельком взглянув на рисунок, радостно говорил:
– А вот теперь попал! Смотреть, смотреть надо уметь. Так-то.
Чистяков называл себя «посредником между учеником и натурой». Пренебрежение к натуре он считал величайшим грехом.
Чистяков не раз говорил: «Ученики что котята, брошенные в воду: кто потонет, а кто и выплывет. Выплывают немногие, но уж если выплывут, живучи будут».
Его систему можно было назвать даже жестокой, ибо для некоторых такая муштра кончалась трагически.
Грабарь пишет, что «в его мастерской было несколько случаев душевных заболеваний, которые он не без гордости приписывал своей системе. Однажды ученица Чеховская уже с неделю не ходила в мастерскую. Пришла мать ее и со слезами на глазах сообщила Чистякову, что дочь сошла с ума.
– Неужто сошла? – спросил тот, и в глазах его загорелся плохо замаскированный сочувствием огонек радости. – Ну я так и думал, так и думал: не выдержала моей системы. Не одна она у меня сошла».
Ольге Форш уже значительно позже Чистяков говорил:
– Да, система-то моя трудновата, немногие поняли ее: Серов, Савицкий да племянница Варвара Баруздина всего.
После занятий морозным вечером всей гурьбой шли провожать Чистякова домой. Он шел впереди в огромной бараньей шубе, в рукавицах, часто останавливался, чтобы подчеркнуть особенно значительную истину, которую собирался изречь, или обратить внимание на понравившуюся ему деталь петербургской перспективы.
А иногда собирались в мастерской Чистякова в здании Академии художеств, где на мольберте стояла картина Чистякова, которой так и не суждено было стать законченным произведением.
В этих случаях после занятий поднимались наверх в квартиру Чистякова. Там играли на рояле, пели, причем Чистяков сам любил петь народные песни «с вывертами», как он говорил, то есть как поют в народе, как он слышал их в своей родной Твери.
Так день за днем шли годы учения.
В один год с Серовым поступил в Академию Михаил Врубель. Рассматривая экзаменационные работы кандидатов, Серов почувствовал в рисунке Врубеля несомненный талант и мастерство. Это был единственный человек, который мог с ним конкурировать. Серов познакомился с Врубелем, и они стали друзьями, несмотря на разницу характеров, возрастов, образования. Врубель был старше Серова почти на десять лет. Он не менее Серова любил искусство, не менее его был фанатиком этой любви, но при всем том Врубель отличался обидной нерешительностью.
Он не шел к своей цели напролом. Окончил гимназию, окончил университет, даже отбыл воинскую повинность и лишь после этого решил, пославши все к чертям, заняться исключительно искусством и поступил в Академию художеств. Но зато он выгодно отличался от Серова своей образованностью и эрудированностью в истории и литературе. Латинский язык, предмет ненависти Серова, Врубель знал в совершенстве. Говорил он много и охотно, всегда красноречиво и с вдохновением. И талантлив был Врубель необыкновенно. Но при всем этом лишь спустя два года он был оценен Чистяковым и приглашен в частную мастерскую, где тотчас же выдвинулся на первое место. «Врубель меня радует, – писал Чистяков в одном из своих писем. – Что-то тонкое и строгое в то же время начинает проявляться в его работах. Серов и Бах тоже обещают много хорошего».
Оценил Врубеля также и Репин[5]5
Из письма Репина Поленову от 5 октября 1882 года: «Какой молодец Антон! Как он рисует! Талант, да и выдержка, чертовские! По воскресеньям утром у меня собираются человек шесть молодежи – акварелью.
Антон да еще Врубель – вот тоже таланты. Сколько любви и чувства изящного! Чистяков хорошие семена посеял, да и молодежь это золотая!!! Я у них учусь…»
[Закрыть], и в первое время их знакомства Врубель внимательно прислушивался к советам и наставлениям Репина. В письме к сестре (январь 1883 года) он пишет: «…под впечатлением нахожусь беседы с Репиным, который только что был у меня. Сильное он имеет на меня влияние: так просты и ясны его взгляды на задачу художника и на способы подготовки к ней – так искренни, так мало похожи на чесание языка (чем вообще мы так много занимаемся и что так портит нас и нашу жизнь). Обещал он по субботам устраивать рисовальные собрания. Искренне радуюсь этому».
По совету Репина Врубель решил, помимо академических классов и занятий у Чистякова, заняться самостоятельной работой. К нему присоединились Серов и новый его друг Владимир фон Дервиз, студент пейзажного класса. Фон Дервиз поступил в Академию годом позже Серова и Врубеля. Это был довольно состоятельный человек, но простой и скромный, с добрыми глазами и широким лицом; впрочем, может быть, лицо его только казалось широким из-за окладистой бороды, которую он отрастил, хотя был еще очень молод. Он был русским, несмотря на свою фамилию, унаследованную, видимо, от какого-то далекого предка, как чеховские герои Тузенбах и фон Дидериц.
Наняли мастерскую, пригласили натурщицу, Дервиз привез от какого-то своего родственника богатую старинную мебель и ткани. Было решено написать акварелью обнаженную натурщицу в обстановке Ренессанса.
Не очень гармонировало простое широкое лицо натурщицы, ее грубые руки и ноги, тяжелая, уже немолодая грудь с роскошным старинным креслом, пышными покрывалами и коврами, которыми ее окружили. Но друзьям было все равно, лишь бы работать, лишь бы ни один час не пропал даром. Писали долго, переделывали по многу раз одно и то же место, подхлестываемые соревнованием друг с другом, пока не остались довольны своими работами. К ним захаживали Репин и Чистяков, давали советы, но это было совсем не то, что в Академии, здесь они были хозяевами, могли писать сколько угодно, и указания и советы, принимаемые с благодарностью, оставались все же только указаниями и советами.
Лучшей получилась акварель Врубеля. Для него она была как бы этапной работой. Теперь его в полную меру оценил Чистяков. Но главное – он сам почувствовал свою силу, определил свой взгляд на искусство, как-то резко выдвинулся и стал впереди всех. Значительно возросло его влияние на друзей.
Еще несколько месяцев назад Врубель восторгался Репиным, сейчас же он, а под его влиянием и Серов резко отходят от Репина. Взрыв произошел в апреле того же 1883 года, когда на XI передвижной выставке была показана оконченная наконец картина Репина «Крестный ход в Курской губернии». «Разумеется, Репин должен был заинтересоваться нашим отношением к его „Крестному ходу в Курской губернии“, самому капитальному по талантливости и размерам произведению на выставке, – пишет Врубель. – Пошли мы на выставку целой компанией; но занятые с утра до вечера изучением натуры, как формы, жадно вглядывающиеся в ее бесконечные изгибы и все-таки зачастую сидящие с тоскливо опущенной рукой перед своим холстом, на котором все-таки видишь еще лоскутки, а там – целый мир бесконечно гармонирующих чудных деталей, и дорожащие этими минутами, как отправлением связующего нас культа глубокой натуры, – мы, войдя на выставку, не могли вырвать всего этого из сердец, а между тем перед нами проходили вереницы холстов, которые смеялись над нашей любовью, муками, трудом: форма, главнейшее содержание пластики, в загоне – несколько смелых талантливых черт, и далее художник не вел любовных бесед с натурой, весь занятый мыслью поглубже напечатлеть свою тенденцию в зрителе. Публика чужда специальных тонкостей, но она вправе от нас требовать впечатлений, и мы с тонкостями походили бы на предлагающих голодному изящное гастрономическое блюдо; а мы ему даем каши: хоть и грубого приготовления, но вещи, затрагивающие интересы дня. Почти так рассуждают передвижники. Бесконечно правы они, что художники без признания их публикой не имеют права на существование. Но признанный, он не становится рабом: он имеет свое самостоятельное, специальное дело, в котором он лучший судья, дело, которое он должен уважать, а не уничтожать его значения до орудия публицистики. Это значит надувать публику… Пользуясь ее невежеством, красть у нее то специальное наслаждение, которое отличает душевное состояние перед произведением искусства от состояния перед развернутым печатным листом. Наконец, это может повести к совершенному даже атрофированию потребности в такого рода наслаждении. Ведь это лучшую частицу жизни у человека украсть! Вот на что приблизительно вызывает и картина Репина. Случилось так, что в тот же день вечером я был у Репина на акварельном сеансе. За чаем зашла беседа о впечатлениях выставки, и мне, разумеется, оставалось пройти молчанием свои перед его картиной. Это он понял и был чрезвычайно сух и даже в некоторые минуты желчен. Разумеется, это не было оскорбленное самолюбие, но негодование на отсталость и школьность наших эстетических взглядов. Я все собирался как-нибудь вступить с ним в открытое взаимообъяснение взглядов на искусство, но тут подошли усиленные занятия; так дело и кончилось тем, что мы с тех пор и не виделись».
Для Серова это было особенно тяжело, он был очень привязан к Илье Ефимовичу, всю жизнь питал к своему учителю самые горячие, почти родственные чувства, но пути их как художников начали расходиться. О «трезвенности» в оценке Репина, проявившейся у Серова, говорит и Валентина Семеновна. И Грабарь, писавший первые главы своей монографии при жизни Серова и почти по его воспоминаниям, отмечает, что Серов во время каникул в Академии хоть и езживал к Репину в Хотьково и рисовал по старой памяти с ним рядом, но гипноз уже не действовал. Из года в год все больше чувствовалось, что они – разные.
Но, конечно же, репинское влияние не прошло бесследно, оно будет ощущаться в искусстве Серова в течение всей его жизни, удивляя подчас и друзей, и критиков. Впрочем, он никогда не забудет ни одного из уроков, которыми будет пользоваться в течение всей жизни. И учиться он будет всю жизнь, охотно заимствуя что-то даже у тех художников, выше которых он был намного. Но заимствовал Серов лишь то, что соответствовало его художественной натуре, так что заимствованное делалось какой-то органической частью его искусства.
С Репиным у него было общим критическое отношение к окружающему и реализм, причем первое у Серова проявилось даже в большей мере, чем у Репина.
Однажды в субботу, когда занятия в Академии закончились раньше обычного, Серов повел Врубеля и Дервиза на Кирочную к Симоновичам. Это было в период совместной работы трех друзей над акварелью.
Симоновичи приняли гостей радушно. Друзья нашли в их доме то, чего им недоставало: тепло большой дружной семьи. Яков Миронович Симонович был человеком передовым, хранителем традиций шестидесятников, человеком исключительной порядочности и добросовестности. Он был врачом, как в то время выражались, «бессребреником». Так же как и Валентина Семеновна, он почитал Шелгунова и Михайловского, Смайлса и Бокля, восторженно встречал все новое и только в одном «вопросе» был «консерватором». Этим «вопросом» была семья. Здесь он любил белоснежную скатерть на вечернем столе, уютно посвистывающий самовар, свою жену во главе этого стола и многочисленных своих детей вокруг. И Аделаида Семеновна охотно исполняла этот его необременительный и, право же, приятный каприз, хотя сама была тоже шестидесятницей и так же, как сестра, – сторонницей женской эмансипации, мечтала о бескорыстном служении народу. Она занималась педагогической деятельностью и считалась отличным специалистом этого дела, даже оставила после себя труды по педагогике. Она организовала первые в России детские сады. И это несмотря на то, что ей пришлось на своих плечах вынести множество семейных невзгод. Семья была материально необеспеченной, кроме того, Яков Миронович умер очень рано, когда ни один из семерых его детей не встал еще на ноги.
Серов любил свою тетку, к ней он приходил со своими невзгодами и сомнениями и всегда находил поддержку. В ее доме он в первый раз влюбился в воспитанницу Симоновичей Лелю Трубникову. Ее родители были пациентами Якова Мироновича. Но туберкулез был совершенно неизлечим в то время, особенно для людей не очень состоятельных, и, когда Леля осталась сиротой, Симоновичи взяли ее в свою семью. Она была ровесницей Маши, старшей дочери Симоновичей, и они всю жизнь оставались подругами.
Леля была очень славной девушкой, под стать всей семье Симонович, честной, трудолюбивой, глубоко порядочной, с очень мягким характером.
Серов не любил женщин «с нажимом», как он выражался. «Ему было все равно, – пишет Валентина Семеновна, – к какому столетию, десятилетию ни принадлежала эта женщина с крупной индивидуальностью, но если она представляла из себя элемент давящий, сознательно или стихийно, эта женщина была ему не по нутру; он мог отдавать должную дань ее заслугам, но сам невольно отдалялся от нее, и подобные женщины не вызывали в нем ни чувства дружбы, ни поклонения».
Влюбились и друзья, введенные Серовым в дом Симоновичей. Кузины Серова были очень хороши собой. Врубель влюбился в старшую, Машу, Дервиз – в Надю, почти еще девочку на вид, застенчивую и робкую. Маша привлекла Врубеля не только внешним обаянием, она была так же горячо предана искусству, как и он, очень серьезно занималась скульптурой, готовилась поехать учиться в Париж. Антокольский с одобрением отзывался о ее опытах. Надя же из всех искусств предпочитала музыку и пение, и Владимиру фон Дервизу волей-неволей пришлось стать ее партнером. К счастью, он обладал неплохим голосом и охотно пел, сам себе аккомпанируя, любимые Надей романсы Шуберта и Шумана.
В доме царила атмосфера молодости, энтузиазма, влюбленности. Друзья, что называется, чувствовали себя «в своей тарелке» в этой интересной дружной семье. И опять, как в пору «Зверинца 15-й линии», – споры отцов и детей.
Но теперь уже Валентина Семеновна и ее сестра выступали в роли «отцов». Валентина Семеновна считала это закономерным. Она вспоминала слова, сказанные в те времена Александром Николаевичем Серовым: «Интересно было бы собрать историю „грез и мечтаний“ в разные эпохи. О чем мы мечтали в нашей юности? Улететь… далеко от реального мира… Теперь мечтают спуститься до грубых работ. Потом опять появятся мечтания, уносящие за облака, и так без конца».
Вождем молодежи стал Врубель, страстный поклонник новых веяний в искусстве.
– Искусство есть искусство и должно быть таковым прежде всего, – к этой истине сводились его утверждения.
– Пусть будет красиво написано, – говорил он, – а что написано, нам не важно…
– Значит, и этот самовар, если будет красиво написан, имеет право называться художественным произведением? – возражали старики.
– О, несомненно, – нимало не задумываясь, отвечал Врубель.
Он пользовался непререкаемым авторитетом у молодежи. Его страстная, красивая речь, вдохновенно горящие глаза, его глубокая убежденность в своей правоте не могли не действовать.
Серов был покорен другом. Сам он по свойству характера больше помалкивал, только зарисовывал что-то в альбомчик, но иногда вставлял слово, отличавшееся если не блеском, то глубиной и определенностью, оно было плодом долгих размышлений и тоже значило немало в диспутах.
А иногда все слушали пение Дервиза и Нади или играли в шарады и живые картины – эти игры были очень распространены в то время.
И все это – любовь к Леле Трубниковой, домашние беседы с блестящим и умным Врубелем – как бы растормошило Серова, именно здесь произошел перелом от школяра к художнику и принципиальному, требовательному человеку.








