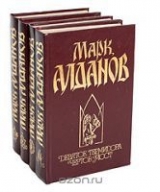
Текст книги "Сент-Эмилионская трагедия"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
В пору своего назначения на пост комиссара он еще об этом не мечтал. Прибыв в Бордо, он первым делом донес Робеспьеру, что Тальен и Изабо проявляют слишком большое снисхождение в отношении врагов свободы. Между тем «свобода должна иметь ложе из трупов» («des matelas de cadavres»): «К стыду народов, кровь есть молоко рождающейся свободы».
Успех был отличный. Робеспьер скоро отозвал и Изабо, и Тальена; Жюльен де Пари остался полным и единственным хозяином Жиронды. Жизнь сотен тысяч людей теперь зависела исключительно от его прихоти. «Молоко рождающейся свободы» полилось рекой. За один июль 1794 года Жюльеном было казнено 129 человек. Паника в Жиронде стала беспредельной. Местный поэт Депоз написал о Жюльене стихи:
Он играет в убийства, а отрубленные головы
Служат этому жестокому ребенку вместо кукол...
Жил он в Бордо, где имел некоторое подобие двора: имел фаворитку, имел советников, имел придворных. Кто-то из этих людей обратил его внимание на Сент-Эмилион: что, если Гаде скрывается в своем родном городе? Парижские жирондисты уже были казнены; поимка семи последних вождей разгромленной партии обещала славу и милость начальства. Вероятно, из Сент-Эмилиона уже стали поступать доносы и на Терезу Буке. Трактирщик Hадаль внес ценное предложение: не использовать ли полицейских собак для большой облавы в Сент-Эмилионе?
Тем временем над беглецами стряслась новая беда. Ее подробности в точности неизвестны, дошедшие до нас сведения несколько противоречивы. По-видимому, к Терезе Буке неожиданно приехал ее муж, проживавший в Фонтенбло. Разумеется, от него нельзя было скрыть, что в пещере сада живут опасные политические преступники. Робер Буке пришел в ужас: он нисколько не желал идти на эшафот без всякой вины и причины. Кажется, кто-то вдобавок грозил Терезе Буке доносом. Ей не оставалось ничего другого, как сообщить обо всем этом Гаде и его товарищам.
Разумеется, они не колебались ни минуты: нельзя было подводить женщину, которая столько для них сделала. Уйти было необходимо. Но куда же?
После недолгого совещания они решили разделиться. Луве сказал, что вернется в Париж. Маркиз Валади надеялся найти приют у какого-то своего родственника в Периге. Гаде и Саль отправились к Гаде – отцу, который, как помнит читатель, соглашался приютить у себя на чердаке двух беглецов из семи. И, наконец, трех последних, Петиона, Бюзо и Барбару, устроила опять-таки Тереза Буке: она уговорила сент-эмилионского парикмахера Трокара дать им приют – у него тоже было какое-то надежное убежище. Но, в отличие от госпожи Буке, Трокар это сделал за деньги, причем взял с нее обязательство, что снабжение укрывающихся у него людей пищей возьмет на себя она.
Они дошли до последнего предела несчастья, за которым могло наступить и предельное отчаяние. Однако по немногим дошедшим до нас документам видно, что эти замечательные люди сохранили спокойствие и душевную бодрость. Дошли до нас полусерьезные-полушутливые рецензии, написанные Бюзо, Петионом, Барбару о трагедии Саля; она, видимо, очень им не понравилась. Один из рецензентов с юмором замечает, что Саль напрасно «отравил» Эро де Сешеля: что, если трагедию со временем поставят в театре – зрители увидят на сцене трагическую кончину главного действующего лица, а в партере будет смотреть на это – и хохотать – живой Эро де Сешель. Петион нашел, что Саль в слишком выгодном свете изобразил Робеспьера и Дантона: так, у него Робеспьер говорит: «Я сумею умереть», – нет, где уж такому негодяю произносить столь благородные слова! Мы должны беспристрастно признать, что упрека в слишком бережном, рыцарском отношении к врагам автор трагедии никак не заслуживал.
Госпожа Буке посылала им в их тайники то цветы, то ставшие редкими блюда (во Франции уже начинался голод) – протокол процесса как-то отмечает баранину. Однажды они с истинно безумной смелостью вечером вышли из своих убежищ и явились к госпоже Буке в гости, на ужин; вероятно, ее муж отлучился...
Эти люди на что-то еще надеялись – Жюльен де Пари уже собирал собак для своей облавы.
IV
«Мудрее всех тот, кто ничего не предвидит», – говорит знаменитый баснописец. Из семи жирондистов, покинувших пещеру в саду госпожи Буке, один – Луве – принял решение, которое должно было казаться безумным его товарищам по несчастью: он решил вернуться в Париж! Вероятно, они долго его отговаривали: как ни ужасно было их положение в Сент-Эмилионе, хуже Парижа, с их точки зрения, не могло быть ничего. Между тем из них из всех спасся только Луве! Благополучно добравшись до столицы, беспрестанно меняя в ней убежища, он счастливо укрывался до 9 термидора, уцелел и прожил – очень нерадостно – еще года три. Этот столько видевший, столько переживший на своем недолгом веку человек умер, разочаровавшись во всех и всем. Такова была участь не одного из деятелей Французской революции. «Я пьян от людей», – сказал незадолго до смерти Дантон.
С уходом в Париж Луве отпадает и наиболее ценный источник наших сведений о сент-эмилионской трагедии: при ее финале он не присутствовал и писать финала как очевидец в своих воспоминаниях уже не мог. Настоящего, подробного рассказа о произведенной в городке облаве мы так и не имеем. До нас дошли только официальные документы – источник очень важный, но сухой и односторонний – да еще несколько свидетельских показаний, неполных и весьма кратких.
Сохранились также письма Жюльена де Пари к Робеспьеру. Они очень интересны, особенно для современного русского человека.
Франция переживала время, во многих отношениях близкое к тому, какое сейчас переживает Россия (с огромной, однако, разницей: тогда была война). Робеспьер рубил головы то одним, то другим деятелям революции; очень трудно было понять, чего, собственно, он хочет и чем руководится. Можно с большой вероятностью предположить, что он и сам этого хорошо не знал. «Подозрительность доводит до сумасшествия и людей со светлой головою», – сказал французский классический писатель; а у Робеспьера и голова была не из самых светлых. В 1794 году уже трудно было сказать, он ли руководит террором или им руководит террор, расстроивший вконец его душевные силы. Для подозрительности у него вдобавок были достаточные основания; но и нервы его не выдержали страшного напряжения. Заговоры против него были – он мог думать, что на заговорщиков ему доносят другие заговорщики, и казнил он людей почти наудачу, понемногу из каждого лагеря. Казни подвергались то люди чересчур умеренные, les tiedes, то люди крайние, les exagères (по нашей нынешней терминологии, «троцкисты»). Надо было напугать всех. Он всех смертельно и напугал, – в конечном счете на собственную гибель.
История повторяется далеко не во всем. Ветер не всегда возвращается на круги свои. Но скверный ветер на скверные круги возвращается очень часто. С жутким чувством мы читаем об обвинениях, возводившихся против подсудимых того времени, в частности против генералов, казненных в пору Французской революции. Обвинения неизменно одни и те же: сношения с внешним врагом. Для разнообразия имя главного врага иногда менялось: генерала Кюстина обвинили в сношениях с Пруссией, маршала Люкнера – в сношениях с Англией. Позднее была найдена общая формула: «Pitt et Kobourg» (т.е. Англия и Пруссия) или просто «l'оr de l'étranger» («иностранное золото»). За самыми редкими исключениями, обвинения были совершенно бессмысленны. Случаи подкупа неприятельских генералов в новейшей истории чрезвычайно редки. Если б так просто было подкупать командующих армиями, то войны стали бы невозможны: в пору великой войны союзники, вероятно, не пожалели бы никаких миллиардов, чтобы подкупить Гинденбурга или Людендорфа. Элементарные, рассчитанные на человеческую глупость обвинения, конечно, прикрывали более основательное подозрение: подозрение в «бонапартизме», который тогда – до Бонапарта – назывался «кромвелизмом» или «монкизмом». Впрочем, Кюстин, Люкнер, де Флер, многие другие казненные генералы и в этом не были повинны: чаще всего генералы становились в пору революции жертвой личных счетов, интриг и доносов со стороны своих же товарищей (весьма возможно, что такие явления наблюдались и в московском деле 11 июня){3}.
Несчастье же ловких людей того времени заключалось именно в том, что они никак не могли понять, так сказать, генеральную линию робеспьеровских казней. Это и в самом деле было нелегко. Иногда людей казнили за близость к священникам и роялистам; иногда за неуважение к вере и к национальному прошлому. Шометту, например, Робеспьер ставил в вину и то, что он называл церковные колокола «брелоками Господа Бога» – это была аморальность, – и то, что он из цинизма предлагал парижанам носить грубую крестьянскую обувь – это была чрезмерность. Если б все деятели революции знали точно, чего хочет Робеспьер (и если б сам он знал это), он, быть может, и не погиб бы. Но когда ни один видный деятель не может поручиться, что угадал генеральную линию и что за недогадливость ему не отрубят головы, для диктатора настает очень опасное время.

Максимилиан Робеспьер
Жюльен де Пари, юноша весьма неглупый и практичный, можно сказать, из кожи лез. Письма его (сколько таких писем найдут будущие историки в московских архивах!) в высшей степени поучительны во всем, начиная с мелочей. В письме надо поставить дату – во Франции введен революционный календарь, – но кто же знает, как неподкупный Робеспьер в душе относится к новому календарю, что, если это неуважение к прошлому? Жюльен пишет: 22 октября, – и на всякий случай осторожно добавляет: по прошлому времени. Несколько позднее окончательно переходит на мессидоры и прериали. В первых письмах он еще обращается к Робеспьеру на «вы». Затем, по мере роста братских чувств в заливавшейся кровью Франции, начинает писать на «ты» и даже заканчивает письма словами: «Обнимаю тебя!» Отношения были, казалось бы, самые что ни есть братские; однако в восторженных излияниях молодого Жюльена чувствуются и величайшая осторожность, и смертельный страх. Людей, заведомо неприятных Робеспьеру, он поносит как может или доносит на них. Но кого хвалить, Жюльен, видимо, совершенно не знает: вдруг вчерашний любимец уже перестал быть любимцем? В одном из писем он вскользь сообщает, что посадил в Жиронде дерево, посвященное памяти Марата, однако особенно об этом не распространяется – и очень хорошо делает: Робеспьер похвалы Марату уже принимал довольно кисло.
Большие колебания, по-видимому, Жюльен испытывал и в вопросе об общем тоне своих донесений: хороша ли в самом деле жизнь или нет? Лучше было перестраховаться на все стороны: кто же разберет, оптимист Робеспьер или пессимист? Порою его тон чрезвычайно жизнерадостен: Жюльен настроен бодро, Жюльен счастлив, весело служит революции. Он сообщает о революционном энтузиазме граждан Жиронды, о мерах, им принимаемых для увеличения этого энтузиазма: он старается «издавать добродетельные законы, касающиеся гражданских установлений, заключения браков», он «приобщает женщин к любви к родине»; он устраивает для своего доброго народа разумные революционные развлечения; он даже берется за перо художника и пишет для граждан и гражданок небольшую пьесу, заканчивающуюся «республиканским балетом» «Обязанности гражданок». Но порою характер его сообщений совершенно меняется: ах, граждане и гражданки ведут себя очень недостойно; везде измена, обман, контрреволюция! Если б не его бдительность, все кончилось бы очень плохо. «За исключением девяти или десяти определенных республиканцев, все от меня отворачиваются». И сам он уже больше не добрый отец области, развлекающий народ добродетельными зрелищами, – нет, он замученный, тяжело больной человек, он больше не в силах ни писать, ни говорить, ему надо бы уехать лечиться в Пиренеи, его дни сочтены.
Действия же его не менялись ни при оптимистическом, ни при пессимистическом отношении к жизни. Гильотина в Жиронде работает беспрерывно. В одном и том же письме он с одинаковой деловитостью, одинаковым тоном сообщает и о казнях, и о спектаклях. Надо ли добавлять, что никакой болезни у него не было. Он после того, слава Богу, прожил в добром здоровье еще 55 лет, и переутомление его от казней не мешало этому 18-летнему комиссару-балетоману жить в 1794 году довольно весело. Из некоторых документов видно, что бордоских женщин он приобщал не только к любви к родине.
К сожалению, доклад Жюльена об аресте сент-эмилионских жирондистов до нас не дошел. Конечно, такой доклад был – его не могло не быть. Но очень много разных людей по-разному были заинтересованы в исчезновении некоторых бумаг, оставшихся после Робеспьера. Комиссия же, производившая выемку документов в кабинете казненного диктатора, к Жюльену отнеслась с не совсем понятной снисходительностью...
Мы не знаем в точности, какие обстоятельства предшествовали облаве в Сент-Эмилионе. Облава эта была произведена с собаками, но, кажется, в собаках большой надобности не было. Человек весьма опытный в полицейском деле говорил мне когда-то, что 75 процентов успеха полицейской работы строится на доносах, в большинстве на доносах «любительских». Во всяком случае, протоколы сент-эмилионской облавы оставляют вполне определенное впечатление: полиция твердо знала, где именно надо искать жирондистов.
Двадцать девятого прериаля отряд из 600 человек солдат и полицейских, под начальством комиссаров Лэя и Оре-старшего и генерала Мерзье, прибыл из Бордо в Сент-Эмилион и прямо направился к дому Гаде – отца. Читатель помнит, что у старика скрывались его сын и поэт Саль. Их тайник (чердак в полтора метра высотой) был обнаружен очень скоро. Комиссары арестовали обоих жирондистов, а с ними и всю семью Гаде, за исключением маленького внука Жозефа. Сцена, по-видимому, была страшная. Лет через шестьдесят после этого о ней с ужасом вспоминал один из солдат, принимавших участие в обыске. Бывший председатель Конвента, выйдя из тайника, бросился к своему престарелому отцу с криком: «Отец мой, я ваш убийца!..» Он понимал, конечно, что и отец его будет казнен за укрывательство.
Из дома Гаде отряд отправился к дому госпожи Буке – это неопровержимо свидетельствует, что к властям поступили доносы: какие основания иначе могли быть для обыска в доме мирной обывательницы, не имевшей никогда никакого отношения к политике? У госпожи Буке никого найти не могли: Гаде и Саль давно перешли от нее к старику Гаде. Петион, Барбару и Бюзо прятались у парикмахера Трокара, а Луве и Валади покинули Сент-Эмилион. Пещера, в которой прежде укрывались семь бежавших жирондистов, была обнаружена в саду Буке лишь несколько позднее. В ней были найдены тюфяки, утварь, книги (в их числе «Дух законов» Монтескье). Это доказывало, что здесь укрывались люди. Но властям доказательства не понадобились и при первом обыске. Госпожа Буке была арестована, так же как ее 77-летний отец и ее служанка.
Все арестованные под конвоем были тотчас отправлены в Бордо к Жюльену. Шествие прошло по главной улице, на которой находилась парикмахерская Трокара. Таким образом, Петион, Барбару и Бюзо в своем тайнике, конечно, слышали (а может, и видели через какую-нибудь щель), как ведут на казнь их товарищей и людей, их приютивших.
V
Как это ни странно, под протоколом ареста Гаде и Саля значится русская фамилия, хотя и звучащая не вполне естественно: Россеев. Это имя мне никогда в трудах по истории Французской революции не попадалось. Маловероятно, чтобы участником революционного движения в Бордо мог в 1794 году оказаться русский. С другой стороны, зачем француз в те времена избрал бы для себя русский псевдоним? Не знаю, как разрешается эта небольшая историческая загадка. В дальнейшем подписи под допросами французские.
Все без исключения арестованные проявили величайшее достоинство. С ними никак не приходится сравнивать героев сенсационных политических процессов СССР. Гаде и Саль не отрицали фактов, дела свои ставили себе в заслугу и высказывали уверенность в том, что жирондистские идеи восторжествуют в истории. В выражениях они с комиссарами не церемонились; Гаде одного из них прямо назвал мерзавцем. На вопросы, которые могли бы навести власть на следы других жирондистов, арестованные категорически отказывались отвечать. «Допрашивающий гражданин слишком порядочный человек, чтобы думать, что я выдал бы ему местопребывание моих товарищей, если б оно и было мне известно», – с явной насмешкой отвечает Саль на один из таких вопросов. «Ты ошибаешься на мой счет», – смущенно отвечает допрашивающий гражданин. В большинстве случаев протокол просто отмечает, что допрашиваемый ответить отказался. Фамилия Саля в протоколе была написана с ошибкой, – он потребовал ее исправления: «Умереть за свободу – дело слишком прекрасное, и я не могу пойти на то, чтобы меня по ошибке смешали в истории с кем-либо другим». («В зале глубокое молчание», – говорит современник.) Протоколы ответов Саля и Гаде – это документы, которых человечеству стыдиться никак не приходится. Кончаются они словами: «Более не допрашивался».
В самом деле, разговаривать было не о чем: Саль и Гаде были в свое время объявлены Конвентом вне закона, следовательно, судить их не требовалось. Они были казнены 4 мессидора в Бордо, на площади Революции. Оба сохранили совершенное спокойствие. Если верить рассказу современника, гильотина в этот день почему-то работала неисправно – Саль за две минуты до смерти объяснял палачу, как надо исправить механизм.
Гаде пытался сказать слово на эшафоте. По приказу начальства тотчас загремели барабаны. Бывший председатель Конвента успел только прокричать: «Народ, вот единственное оружие тиранов: они заглушают голос свободных людей!..»
Отрывок из другого протокола:
«4 мессидора II года республики. Умерли: № 1516, Маргарит-Эли Гаде, 36 лет... № 1517, Жан Батист Саль, 34 лет...»
Номеров последовало еще много: до 9 термидора оставалось тридцать пять дней.
Раньше Гаде и Саля погиб их товарищ по сент-эмилионской пещере Валади. Как, быть может, помнит читатель, он ушел из Сент-Эмилиона одновременно с Луве, но не в Париж, а в Периге, где рассчитывал найти убежище. Там его опознали и арестовали, подробных сведений о его аресте я нигде не мог найти. Известно только, что он сослался на старый закон, согласно которому кадровые офицеры, в случае вынесения им смертного приговора, подлежали расстрелу. Как это ни странно, требование Валади было исполнено. Быть может, в этой глухой провинции революционным властям не было ясно, отменила ли революция декреты об офицерстве, изданные в XVI веке. Валади был расстрелян.
Это был замечательный человек, – один из наиболее привлекательных и наименее известных деятелей Французской революции. Писатель Обер де Витри, слышавший всех знаменитых ораторов революционной и последовавшей за революцией эпохи, говорит, что никого из них нельзя было и сравнивать по блеску красноречия (особенно при беседах в тесном кругу) с этим 27-летним маркизом, бывшим адъютантом Лафайета, примкнувшим к партии жирондистов. «Вот кто мог бы послужить Франции и делал бы ей честь своим талантом и своими высокими моральными качествами...»
Петион, Барбару и Бюзо, скрывавшиеся у парикмахера Трокара, в день сент-эмилионской облавы поняли, что им оставаться в городе больше нельзя. По-видимому, потребовал их немедленного ухода и смертельно напуганный парикмахер. Они покинули Сент-Эмилион в ту же ночь.
Об их намерениях мы ничего не знаем. Возможно, что они хотели покинуть родину. Испанская граница была не так далеко. В ту пору многих соблазняло «бегство из залитой кровью Франции в тихую, мирную, гостеприимную Испанию», – тема для философских размышлений о зигзаге истории. А может быть, Петион, Бюзо и Барбару уже сами не знали, куда идут, зачем и для чего. Страшные несчастья, так быстро на них обрушившиеся, могли несколько помрачить их рассудок.
Судьба, по принятому выражению, продолжала над ними подшучивать. Пробродив всю ночь, они вышли из леса и на опушке уселись под деревом, на некотором расстоянии от большой дороги. У них были съестные припасы. Но позавтракать им не удалось. По дороге случайно проходил какой-то отряд солдат. Другая случайность: отряд шел с барабанным боем. Измученному Барбару показалось, что к ним приближается высланная за ними погоня. Он выхватил пистолет и выстрелил себе в ухо. Бюзо и Петион, считая своего товарища мертвым, бросились в лес.
Услышав выстрелы, солдаты направились к дереву. Барбару перенесли в соседнее селение, были вызваны власти, крестьяне сбежались поглазеть на редкое зрелище.
Через несколько дней после этого в Париже стало известно, что на юге Франции арестован Барбару. Член Конвента Жэй получил об этом частное письмо из Жиронды и, по требованию собрания, огласил его с трибуны. Вот что писал корреспондент Жэя:
«Позавчера утром добровольцы, проходившие в полумиле от Кастильона, услышали пистолетный выстрел и увидели, что в чащу леса бросились два каких-то человека. Они направились на место происшествия, увидели человека в луже крови и перенесли его в Кастильон. Лагард (местный полицейский чиновник) тотчас туда отправился и, разобрав на белье раненого буквы Р.Б., спросил: «Вы – Бюзо?» Тот не мог говорить, так как пуля раздробила ему челюсть, но сделал отрицательный знак головой. Лагард спросил тогда, не Барбару ли он. Он ответил утвердительным знаком. Тотчас был отправлен нарочный к Жюльену...»

Шарль Барбару
Конвент в ту пору по степени порабощения и потери стыда уже не очень отличался от какого-нибудь ЦИКа: отчет в «Монитер» отмечает, что члены собрания покрыли рукоплесканиями прочитанное Жэем письмо об их бывшем товарище.
Другое свидетельство о деле дошло до нас от очевидца – через 73 года! Престарелый крестьянин, которому в 1794 году было 14 лет, рассказывал историку Вателю: «Одни говорили, что это какой-то парижский изменник; другие утверждали, что это Петион или Бюзо. Потом стало известно, что это Барбару. Помощи ему никакой не оказали, не дали ни воды, ни вина, ничего. Люди в те времена были так возбуждены! Рана у него, помню твердо, была повыше уха. Я сам ее потрогал...»
Умирающего отправили в Бордо; там возобновилось все то же: допрос, установление личности, формальности, предшествовавшие эшафоту. По-видимому, Барбару едва мог говорить и скоро впал в полусознательное состояние – протокол отмечает: «Из-за безумного состояния, в котором он находится, допрос прерван...» Но держал он себя до последней минуты точно так же, как Саль и Гаде: с совершенным достоинством и мужеством. Из документов видно, что местные власти были очень озабочены тем, как бы Барбару не умер до казни: он уже находился в состоянии, близком к агонии. Ему заботливо оказали медицинскую помощь – и затем отрубили голову.
Через неделю после ареста Барбару недалеко от того места, где он в себя выстрелил, были найдены два трупа, наполовину съеденные не то волками, не то собаками. Крестьяне из соседней фермы показали, что за семь дней до того ночью слышали два пистолетных выстрела, последовавшие почти одновременно. Тела совершенно разложились и были наполовину съедены. О вскрытии не было и речи. Но не могло быть никакого сомнения в том, кто эти люди. Нам остается лишь догадываться, что случилось с двумя последними героями сент-эмилионской трагедии. Быть может, Петион и Бюзо покончили с собой, увидев, что к ним приближаются волки? Быть может, они поняли, что им все равно не спастись, и предпочли самоубийство гильотине? Быть может, убили друг друга в отчаянии, в припадке исступления? Этого мы никогда не узнаем.

Франсуа Бюзо
Разложившиеся трупы были зарыты в землю тут же. Жюльен выражал желание, чтобы на месте их смерти была помещена «позорящая надпись», но, по-видимому, это не было приведено в исполнение, как не было приведено в исполнение другое его намерение: «срыть с лица земли дома в Сент-Эмилионе, в которых скрывались Гаде, Саль, Бюзо, Петион, Барбару». Об их смерти, о том, что они «освободили родину от своего зловредного существования», он сообщил Комитету общественного спасения и кратко Робеспьеру (подробного, откровенного письма его об этом, повторяю, в бумагах диктатора не оказалось).
Поле у опушки леса, где погибли Петион и Бюзо, очень долго называлось «эмигрантской могилой»: народ, очевидно, считал этих людей эмигрантами. Вероятно, Жюльен нарочно распускал слух, что они эмигранты: предполагалось, что народ эмигрантов ненавидит. В действительности народ просто о них не думал: думала иногда интеллигенция и очень часто люди, скупившие эмигрантское имущество.
Нет, думаю, надобности в выводах, обобщениях, характеристиках. Жертвами сент-эмилионской трагедии стали люди замечательные, воплощавшие лучшее начало Французской революции. Партия жирондистов бесспорно самая трагическая партия в истории. Из ее вождей не спасся почти никто. Большая часть их погибла на эшафоте. Другие покончили с собой. Эти занимают виднейшие места в ряду самоубийц Французской революции. Ряд довольно длинный; но российский, большевистский, начинает понемногу с ним выравниваться...
Для Жюльена и его сотрудников юридическое положение жирондистских членов Конвента было очень удобным: никакого суда не требовалось. Но лиц, виновных лишь в укрывательстве, пришлось судить: они ведь не были объявлены вне закона. Правда, по тем временам суд был несложный. Все же формальности заняли целый месяц. Само собой разумеется, суд приговорил к смертной казни госпожу Буке, которая по собственной инициативе так долго укрывала государственных преступников в пещере своего сада. С ней был приговорен к казни ее 77-летний отец. Укрывателем оказался и ее муж – в действительности, он, приехав в Сент-Эмилион, потребовал, чтобы жирондисты тотчас покинули его дом. На смерть были осуждены и члены семьи Гаде. Отцу бывшего председателя Конвента председатель суда невозмутимо заявил, что он не должен был считать жирондиста сыном: вот ведь Брут казнил своих детей...
Приговор в отношении всех осужденных был немедленно приведен в исполнение. До 9 термидора оставалась неделя!
VI
Прошло много, очень много лет – и каких лет! Революция давно кончилась, пронеслась бурей наполеоновская империя, на престол снова взошли Бурбоны. Явление, заслуживающее внимания: интерес к революционному времени долго был невелик. Это отчасти объяснялось тем, что Наполеон, по своим соображениям, запрещал печатание каких бы то ни было исследований или воспоминаний, относившихся к этому времени. Тьер, писавший свой знаменитый труд по истории Французской революции в 20-х годах, с некоторой видимостью основания, хоть, конечно, преувеличивая, говорил: «Я прихожу первый: до меня ничего не было...»
Все же, думаю, дело сводилось не только к цензуре. Могли быть и причины чисто психологические: о революции тяжело было вспоминать и не очень хотелось. Все ведь «кончилось» возвращением Бурбонов, следовательно, и с либеральной, и с консервативной точек зрения должно было казаться кровавым, бессмысленным кошмаром. К тому же ни безупречных героев, ни совершенных злодеев (как требовала мода в литературе и в истории) нельзя было сделать из главных деятелей революции: слишком многие из живых еще людей очень хорошо их знали. Старшее поколение, имевшее, как и наше, право быть усталым, не проявляло желания возвращаться мысленно к революционной эпохе. А молодежь в пору Реставрации, вероятно, знала о жирондистах и монтаньярах меньше, чем о каролингах и меровингах: в школе о революции не сообщалось ничего.
Маленький внук старика Гаде, погибшего со всей семьей в Бордо, давно был взрослым человеком. Он получил хорошее образование. По-видимому, большими дарованиями Жозеф Гаде не отличался (его исторические труды довольно бесцветны), но был работником трудолюбивым и добросовестным. Он стал впоследствии, если не ошибаюсь, директором училища слепых. Жил он в Париже, состояния не имел и занимался научно-литературной работой. Однажды в поисках заработка он принес статью о каком-то географическом труде в редакцию журнала «Revue Encyclopédique».
Это был очень почтенный научно-популярный ежемесячный журнал, ставивший себе целью систематические обзоры успехов науки и литературы во всех культурных странах. Редактировался он прекрасно, с большим знанием дела. Его сообщения о России и теперь могли бы пригодиться русским исследователям. Факты в них сообщались точно, и даже имена не перевирались. Помещались подробные отзывы о всех сколько-нибудь интересных книгах, выходивших в Петербурге, в Москве, в Киеве (есть несколько благожелательных и поощрительных рецензий о стихах молодого Пушкина). Русских политических дел журнал не касался: я не нашел в нем, например, статей о деле декабристов, но в 32-й книге (1826 год) выражено сожаление по случаю прекращения издания «Полярной Звезды»: «Этот журнал, который издавали со все растущим успехом гг. Бестужев и Рылеев, не мог появиться в нынешнем году».
Сотрудники были в большинстве люди почтенные и известные. Очень почтенный человек был и сам редактор, человек разностороннего образования, писавший много и по разным вопросам. Направления он был не очень консервативного, но и не очень либерального. В одной из своих работ с длинным заглавием «Мысли о том, чем должны вдохновляться политические писатели, верные родине и королю» он говорит о Бурбонах в тоне самом верноподданическом и гневно обличает «революционный дух, разрушающий всякую мораль». Редактор пользовался большим расположением высокопоставленных людей как во Франции, так и в других странах. В числе его личных друзей были короли прусский, баварский, вюртембергский. Император Александр I подарил ему, при лестном письме, бриллиантовое кольцо в благодарность за две записки, которые он составил для русского правительства. Одна из этих записок (вероятно, и теперь хранящихся в каком-либо петербургском архиве) касалась устройства министерств в России, а другая – русских военно-учебных заведений: воспитание молодежи было любимым предметом редактора «Revue Encyclopédique». Относились к нему с дружбой и доверием также люди передового лагеря. Он был близким другом Песталоцци; Костюшко рекомендовал его князю Адаму Чарторийскому.
Редактор принял Жозефа Гаде очень любезно, тотчас согласился напечатать его статью и, узнав, что автор ищет работы, предложил ему постоянное занятие в своем журнале. Гаде был, вероятно, в восторге. Он стал чем-то вроде секретаря журнала и жил с редактором душа в душу. У них были общие научные интересы. Редактор проявлял большую осведомленность в вопросах новейшей французской истории. Ему, конечно, было известно, что вся семья Гаде погибла в 1794 году. Вероятно, больше удивляло Жозефа Гаде то, что редактор был очень хорошо осведомлен и о подробностях сент-эмилионской трагедии. Так, однажды – быть может, за бутылкой вина, – разговаривая об этом деле со своим помощником, он проявил осведомленность поистине чрезмерную... И вдруг страшная, потрясающая догадка озарила Жозефа Гаде – она оказалась совершенно верной: редактор «Revue Encyclopédique» был Жюльен де Пари!


