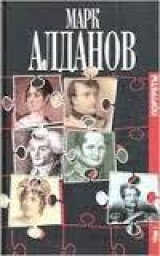
Текст книги "Жозефина Богарне и ее гадалка"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
«Вождя» во Франции после 9 термидора не оказалось. Прежде был всеми признанный, великий и гениальный вождь, неподкупный Робеспьер. И при нем, как при Сталине Ленин, не менее (или разве только чуточку менее) ярким, но загробным (и потому, в смысле конкуренции, безопасным) светом несравненного величия светился Марат. Теперь такого вождя не было. Представим себе, что после смерти Ленина в СССР не оказалось бы ни Сталина, ни Троцкого, а были бы только Зиновьевы с Рудзутаками. Может быть (и даже наверное), удалось бы сделать великим, гениальным, несравненным и Рудзутака. Но это было бы все-таки труднее. Таково было положение во Франции после Термидора. Робко пробовал выставить свою кандидатуру в несравненные Тальен, – не вышло. Пробовал Бар-рас, – как будто начало выходить, но не хватило времени: у меня определенное впечатление, что Баррас мог стать несравненным. Ему просто не повезло.
Говорят, что в пору революции всегда растет «сознательность народа». Уточним смысл понятий. Люди того времени, за редкими исключениями, проявляли действительно чрезвычайную сознательность: каждый из них вполне сознательно стремился к собственной выгоде. Не надо преувеличивать и степень их лживости: преуспевшие или надеявшиеся преуспеть были и в самом деле очень довольны; другие спасали, что можно было спасти, – порою свободу или жизнь, – да и не очень раздумывали над своими словами и поступками при отсутствии свободной критики, при полной моральной безответственности, при всеобщей круговой поруке из сомнительных или просто низких поступков и слов. Мюрат, будущий неаполитанский король, только наполовину мошенничал, когда просил о разрешении ему называться Маратом. Будущая императрица Жозефина только на три четверти врала, именуя себя «санкюлоткой-монтаньяркой». В революционный Комитет III года, который правил тогда Францией, входили, как известно, один будущий князь, тринадцать будущих графов и пять будущих баронов. Не все они были жуликами: многие из них довольно искренно восторгались в ту пору сознательностью революционного пахаря. И маленьким подозрительным пятнышком на повальной сознательности населения французской столицы был огромный, все росший, все расширявшийся успех мадемуазель Ленорман.
VII
Ее выпустили из тюрьмы почти одновременно с Жозефиной. Разумеется, гениальная рекламистка таких событий не упустила. В 1794 году существовал своеобразный высший «шик»: «сидел в тюрьме, с минуты на минуту ждал казни, да вот чудом спасло девятое термидора», – на чудесном спасении с герцогами в день девятого термидора сделал карьеру не один мошенник. Вдобавок мадемуазель Ленорман все предсказала: как же, она самому Робеспьеру предсказала смерть по пиковой девятке! Ведь за это ее посадили в тюрьму и должны были казнить по личному приказу чудовища, но она нисколько не волновалась, так как предсказала и девятое термидора! Именно в ту пору Ленорман стала по-настоящему загребать деньги (она оставила своему племяннику пятьсот тысяч франков). Кажется, тогда же она превратилась и в писательницу или, по ее выражению, «стала оставлять астролябию Урании ради пера Клио».
VIII
Нелегкая жизнь ждала Жозефину после выхода ее из Кармской тюрьмы. Вероятно, в первое время ей было не до дел: она была совершенно измучена. Но нужно было жить, нужно было устроить жизнь детей. Состояние ее казненного мужа в пору террора было объявлено конфискованным. Черта интересная и характерная. Властям было отлично известно, что генерал Богарне погиб безвинно; тех, кто отправил его на эшафот, теперь все громили и проклинали. Казалось бы, вопрос разрешался просто: следовало немедленно вернуть состояние вдове и детям генерала. Но революция отменила все, кроме канцелярий и канцелярской волокиты: это казнить человека можно было в двадцать четыре часа; отмена же конфискации его имущества могла затянуться и на годы. Какая-то бумажка, написанная каким-то писарем по приказу какого-то секретаря, сохраняла свою силу.
Под секвестром находилась и квартира самой Жозефины. С величайшим трудом, при поддержке влиятельных людей, ей удалось добиться не снятия секвестра, но разрешения взять на собственной квартире самые необходимые из собственных вещей. Платьев, белья у нее было в ту пору немного. Впоследствии Жозефина вполне себя за это вознаградила: за шесть лет своего царствования она на себя истратила – почти исключительно на вещи и на туалеты – около 25 миллионов франков. Наполеон только руками разводил, платя по счетам.
Но до царствования было еще очень далеко. В первое время после тюрьмы Жозефина жила почти исключительно в долг: какие-то оптимисты снабжали ее деньгами в надежде на то, что, в конце концов, снимут же конфискацию с имущества человека, которого все признавали ни в чем не повинной жертвой всеми проклинаемого террора. Помогали Жозефине и родные. Не надо думать, что она жила в нищете. Если бы Жозефина была настоящей француженкой, она, верно, поселилась бы в квартире из двух комнат. Но у этой беспомощной креолки были черты русской или польской барыни. Не имея за душой ни гроша, на по лученные в долг деньги она «необыкновенно дешево» сняла на улице Chantereine (Нынешняя гае de la Victoire. Дом этот давно снесен) барский особняк с садом, со службами, с конюшней, обзавелась лошадьми (и даже – о далекие времена! – коровой), наняла лакея, повара, кучера, горничных.
Еще сложнее были ее интимные дела. Из тюрьмы она вышла почти официальной любовницей генерала Гоша. Связь их продолжалась, однако, недолго: молодой генерал был влюблен в другую женщину. К тому же он был теперь в милости, получил назначение на высокий командный пост и должен был уехать в армию. По-видимому, расстались они друзьями. По крайней мере, Гош взял с собой на фронт 13-летнего сына Жозефины, – пусть приучается с ранних лет к военному делу.
Вероятно, именно в эту пору, после отъезда Гоша, Жозефина вспомнила о мадемуазель Ленорман. Достаточно ясно, что если бы и в самом деле Сибилла послала ей в свое время в тюрьму гороскоп, с молодым офицером, призванным к великому будущему, и с двенадцатью годами необычайного счастья, то у Жозефины еще не было оснований восторгаться ее пророческим даром: никакого молодого офицера она не знала, и на необычайное счастье было пока непохоже. Но, вероятно, у Жозефины оставалось о гороскопе неопределенное, отчасти и радостное воспоминание: горе уже прошло, а что-то эта Сибилла тогда предсказывала и приятное, – надо бы погадать опять.
К одной из книг, которые издала в начале прошлого века Ленорман, приложена гравюра, изображающая ее кабинет. На столе лежат карты, стоят какие-то таинственные сосуды. На шкафу стоит глобус. Хозяйка сидит за столом, у ее ног лежит собачка. Вся картина дышит спокойствием, мудростью, величием науки. В этом кабинете как-то и появилась вдова Богарне в сопровождении одной приятельницы. Сибилла встретила их гробовыми стихами Делиля: «Не говорите больше о друзьях, о долге, о связях. Нет больше друзей, родителей, сограждан. Пугливый сын страшится отца. Брат избегает брата».
Поэт Делиль был милейший человек. Мармонтель написал о нем двустишие: «Аббат Делиль с лицом ребенка все гда на стороне победителей». Но это было совершенно несправедливо. У Делиля действительно была маленькая слабость: когда он видел очень влиятельное лицо, он испытывал почти непреодолимую потребность написать в честь лица оду. А так как влиятельные лица в ту пору часто менялись, то и собрание од Делиля можно признать пестрым: есть у него стишки в честь монархов и есть стишки в честь революционеров, он одинаково любил Марию Антуанетту и Робеспьера, Шометта и папу Пия VI. Однако писал он, в большинстве случаев, совершенно бескорыстно, – вот как и у нас иные поэты совершенно бескорыстно восхваляют Сталина: ни гроша он им за это не дает и не даст. Такой был у Делиля характер. Был он модным поэтом до 9 термидора и остался им после 9 термидора, – кто же стал бы вспоминать невинные грехи столь милого человека? Собственно, Ленорман процитировала не то, что нужно: стишки были о зле и ужасах жизни, а теперь жизнь было приказано любить. Но Сибилла сразу дала официальный тон своим отношениям с Жозефиной: тон верной трагической дружбы. На фоне изображенного в стишках коварства человеческого рода наметилась беззаветная, бескорыстная преданность Сибиллы.
И со стихами Делиля, и с глобусом, и с «астролябией Урании», и с «пером Клио» Ленорман была, в сущности, простая баба. Но в глупости ее обвинять никак нельзя. А по образованию и сама Жозефина не так уж далеко от нее ушла. Между ними завязалась дружба. С той поры Сибилла принимала участие чуть ли не во всех делах Жозефины, в том числе и в интимных (или даже особенно – в интимных). К сожалению, о главном она рассказать в своих книгах не посмела: в пору империи это могло бы чрезвычайно не понравиться Наполеону, а в пору Реставрации могло не понравиться Бурбонам. И нам трудно сказать, какая была точная роль гадалки в сложных и путаных делах, происходивших с Жозефиной в 1795—1796 годах.
После отъезда Гоша вдова генерала Богарне сошлась с всемогущим в ту пору Баррасом, который в своих воспоминаниях с необыкновенно рыцарским видом изобразил их связь. По-видимому, этот герой Термидора очень ей нравился. Она нравилась ему меньше. У Барраса всегда было множество любовниц, и ревность особенно его не мучила. Главной фавориткой титулованного революционера была жена его соратника по Термидору, знаменитая красавица госпожа Тальен. Когда она ему надоела, он ее уступил одному из королей тогдашнего Парижа, финансисту Уврару, который на поставках для армий и на скупке бумаги составил себе огромное состояние. Можно предполагать, что Баррас желал спокойно, без сцен и без расходов отделаться и от Жозефины. Это было труднее: вдова Богарне была не так уж молода, а по красоте ее с госпожой Тальен никто и не сравнивал. Нам трудно отделаться от впечатления, что Баррас старательно «искал дурака». «Дурак» нашелся.
IX
13 вандемиера в четыре с половиной часа дня в Париже загремела канонада: как говорит один французский писатель, «это входил в историю Бонапарт». Баррас поручил 26-летнему офицеру подавить восстание роялистов, что и было сделано. Бонапарта в ту пору действительно не знал никто. После вандемиера французские эмигранты с недоумением спрашивали друг друга: что за Буонапарте? Кто такой? «Террорист-корсиканец, правая рука Барраса», – писал осведомленный эмигрант Малле дю Пан. Бонапарт, вероятно, предпочел бы войти в историю иначе: он не выносил лавров гражданской войны. Но его карьера была сделана: Баррас назначил его командовать армией.
Власти предписали населению Парижа сдать оружие. Полиция стала обходить дома, зашла и к Жозефине. Оружия у нее было немного: шпага ее казненного мужа, составлявшая собственность Евгения. Мальчик взмолился: нельзя ли оставить ему шпагу отца? Полицейский комиссар ответил, что для этого необходимо разрешение генерала Буонапарте. Евгений побежал к генералу. Разумеется, тот немедленно выдал разрешение. Жозефина сочла нужным заехать к Буонапарте и лично его поблагодарить. Генерал отдал визит – и стал часто бывать в особняке на улице Chantereine: он влюбился в Жозефину. Так, по крайней мере, со слов самого Наполеона, рассказывают (с легкими вариантами) историки. Баррас все это начисто отрицал: не было ни полицейского комиссара, ни шпаги, ни визита, ни влюбленности. Было, по его словам, холодное, заранее обдуманное намерение ни перед чем не останавливающегося честолюбца: посредством женитьбы на его, всемогущего Барраса, любовнице войти к нему в милость!
Баррасу ни в чем верить нельзя. Вся написанная им картина (выпускаю ее циничные подробности) лжива и неправдоподобна. Заметим, однако, следующее. Многие из современников, знавших генерала Бонапарта, совершенно не верили в его влюбленность в Жозефину. Одни думали, что он по ее образу жизни считал вдову виконта Богарне очень богатой женщиной. По мнению других, его соблазнила ее сомнительная знатность. Но в 1833 году были опубликованы письма Наполеона к Жозефине, и с той поры все подозрения рассеялись: письма эти написаны со страстью необычайной, их иначе нельзя назвать, как излияниями человека, влюбленного без памяти. «Тысяча поцелуев, столь же пламенных, как мое сердце, столь же чистых, как ты!» – вот стиль писем Наполеона к Жозефине. Вопрос был признан разрешенным совершенно.
Совершенно ли? Теперь я не ответил бы утвердительно с полной уверенностью. В 1935 году появились в печати письма Наполеона к его второй жене Марии Луизе, пролежавшие сто лет в ящике у ее потомков, князей Монте-Нуово. Не может быть сомнения в том, что второй брак императора был продиктован исключительно расчетом: Наполеон вдобавок женился заглазно, par procuration. И с некоторым изумлением убедились мы, что письма его к Марии Луизе, которой он отроду не видел, тоже дышат страстью! Правда, стиль их несколько иной: теперь пишет не молодой, никому не известный офицер, а пожилой, правящий миром император. Но стиль сущности дела не меняет, и письма к Жозефине должны потерять характер решающего аргумента. Психологическая сторона первой женитьбы Наполеона была менее груба, чем уверял Баррас. Но она, быть может, и не так возвышенна, как сто лет казалось биографам после выхода в свет издания 1833 года.
Некоторые сомнения были и у самой Жозефины. В одном из первых писем к ней Бонапарт пишет: «Я покинул вас с тяжелым чувством... Мне казалось, что уважение к моему характеру должно было отдалить от вас ту мысль, которая вчера вечером вас волновала... Так вы думали, что я люблю вас не ради вас?! Ради кого же?.. Как столь низменное чувство могло возникнуть в столь чистой душе? Я все еще изумлен... В чем же твоя странная власть, несравненная Жозефина?» и т.д.
По-видимому, Жозефина имела в виду свое «богатство». К этому времени благодаря протекции Барраса и Тальена ее дела и в самом деле стали много лучше. Как водится во Франции, у нее появился свой нотариус, некий Рагидо, и, тоже как водится, нотариус посвящался в интимные дела, поскольку они могли повлечь за собой брак. Барон Менневаль в своих воспоминаниях рассказывает, что нотариус слышать не хотел о браке своей клиентки с каким-то экзотическим офицером Наполионе де Бюонапарте. «Зачем вам за него выходить? – убежденно доказывал он Жозефине. – У вас 25 тысяч годового дохода, вы виконтесса, а у него ни гроша, и положения никакого, и он моложе вас, да еще убьют его в первом же сражении!..» Это было совершенно справедливо, и Жозефина явно колебалась. Впоследствии, после коронации, Наполеон будто бы спрашивал нотариуса Рагидо, все ли он еще сердится. Но, может быть, и не спрашивал, – у него были и более важные дела.
X
Влюблен ли пушкинский Германн в Лизавету Ивановну? Недавно критик Дерман указал на ошибку известнейших пушкинистов: Гершензон и Лернер неоднократно упоминают о страстной любви Германна к Лизе; между тем из пушкинского текста, напротив, следует, что он нисколько в нее влюблен не был.
Думаю, это все-таки не совсем ясно, да и ясно быть не должно (Лернер и Гершензон, конечно, поспешили со своим положительным утверждением). Германн смотрит на окна дома графини. «В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Германн увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь». Понимай как знаешь: быть может, у Германна лишь явилась мысль: вот как можно проникнуть в дом старухи и узнать тайну трех карт; а может быть, он заодно и влюбился, – ведь и слова нарочно взяты нежные: «головка», «личико». Дальше: «Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, – все это была не любовь! Деньги! – вот чего алкала его душа!» Опять понимай как знаешь: так толкует рассказ Германна Лиза; но значит ли это, что она толкует вполне правильно? Германн ей сказал, что ему были нужны три карты. Но сказал ли он, что не любит ее?
Пушкин как бы нарочно затемняет дело. Оно и естественно: все здесь в перспективе, и важен один первый план. Герой удивительного пушкинского рассказа – мономан, поглощенный своей навязчивой идеей. Быть может, душа Германна алкала и не денег, – для чего они ему сами по себе? Как и любовь (или отсутствие любви), деньги на втором, на третьем плане. Это несущественно. Не так важна и смерть старухи. Первый план иной: тайна трех карт, ее отражение в мозгу мономана. И упорно, настойчиво (казалось бы, зачем?) подчеркивает Пушкин внешнее сходство своего офицера с Наполеоном. «Этот Германн, – продолжал Томский, – лицо истинно романическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля...» «Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну...»
Пушкин, много читавший о Наполеоне, не знал воспоминаний Барраса. Роман Германна не навеян воспоминанием о романе Бонапарта. Но, быть может, в самом замысле «Пиковой дамы» есть отзвук ранней наполеоновской идеи: в бесконечно увеличенном масштабе генерал Бонапарт – тот же Германн, человек, завороженный идеей, не останавливающийся ни перед чем ради ее осуществления.
«Я знавала людей чрезвычайно достойных, – писала госпожа де Сталь, – знавала и людей свирепых. Во впечатлении, которое производил на меня в 1797 году Бонапарт, ничего не напоминало ни тех ни других. Мне скоро стало ясно, что характер его нельзя определить нашими обычными словами: он не был ни добр, ни зол, ни мягок, ни жесток... Он никого не любил и его не любил никто: он был больше чем человек или меньше чем человек... Я смутно чувствовала, что ничто не волнует его сердца. Он смотрит на людей как на факты или как на вещи, но не как на подобные ему существа. Он никого и не ненавидит: существует только он, все остальные это цифры. Сила его воли в безошибочном эгоистическом расчете. Это искусный шахматный игрок, играющий партию против человеческого рода и собирающийся дать ему мат... Ничто не могло преодолеть отталкивания, которое я испытывала к тому, что в нем было. В уме его я чувствовала глубокую иронию, не щадящую ничего великого, ничего прекрасного, даже собственной славы...»
«Если бы цель его была хороша, то его настойчивость в преследовании этой цели была бы прекрасна», – добавляет писательница. Расценивать эту цель мы не станем. Заключалась же она в том, чтобы положить конец революции, взяв из нее жизнеспособное или необходимое. Быть может, во вполне определенной форме цель эта появилась позднее. В 1795 году необыкновенный человек, появившийся в особняке Жозефины, разрешил лишь первую часть уравнения. Надо было прийти к власти; к власти он мог прийти только путем побед над внешним врагом; удар же внешнему врагу необходимо нанести в Италии. Значит, необходимо получить командование итальянской армией. Этот пост главнокомандующего итальянской армией и был для Бонапарта тайной трех карт, заворожившей его душу.
Долго, долго мечтал он об этой должности – и чего только не делал для ее получения! Перед девятым термидора он надеялся ее получить при поддержке Робеспьера-младшего и создал себе репутацию отчаянного «робеспьериста», – не все ли равно? Он разрабатывает план кампании (впоследствии им осуществленный), представляет на рассмотрение разных военных учреждений. Безуспешно: как во всем, здесь нужна протекция. Через много лет Карно хвалился, что именно он дал итальянскую армию генералу Бонапарту. Едва ли, однако, дело обошлось без Барраса. У завороженного человека, чувствовавшего в душе силы необычайные, могла явиться мысль, что для достижения цели позволительно пойти на многое. Во всяком случае, Бонапарт не мог не знать о связи Барраса с вдовой виконта Богарне – об этом знал весь Париж. Весьма вероятно, он ею увлекся, как Германн, быть может, увлекся Лизаветой Ивановной. Но это был именно второй план.
Денежное же подозрение ни на чем не основано: обыкновенная клевета врагов. К тому же сомнительные «25 тысяч дохода» Жозефины ровно ничего не составляли по сравнению с тем, что и в денежном отношении обещало тогда командование армией. Взгляды в ту пору были совершенно отличные от нынешних. По древней традиции, царившей до XIX века, власть должна была обогащать и в самом деле почти неизменно обогащала тех, кому она доставалась. Не везде эта традиция кончилась и в настоящее время; но, чтобы сохранить ей верность, пришлось придумать совершенно иные формы: благодаря существованию всевозможных синекур, хорошо оплачиваемых постов и биржевых связей, и теперь, как в Европе, так и в Америке, государственные деятели весьма часто в бедности рождаются, но весьма редко в бедности умирают. Однако в армии эта традиция давным-давно исчезла, тогда же она была в полной силе. Приданое Жозефины не могло иметь никакого значения для Бонапарта. Это был брак человека, быть может, влюбленного, но уже, наверное, завороженного идеей.
По-видимому, Баррас был в восторге, – этот человек, кажется, искренно считал Наполеона дураком! Он всячески покровительствовал делу. Объяснение в любви между Бонапартом и Жозефиной (или одно из объяснений) произошло на парадном обеде, который Баррас давал 21 января 1796 года. Был праздник: годовщина дня казни Людовика XVI, – судьба позаботилась о внесении циничной нотки в роман будущих французских монархов. Несколько позднее Баррас, встретив Жозефину в опере, небрежно-ласково ей сообщил приятное известие: директория признала возможным назначить генерала Буонапарте главнокомандующим итальянской армией.
Три карты выиграли.
Свадьба была назначена на 19 вантоза (9 марта). Церемония происходила в мэрии, в существующем и по сей день доме на rue d'Antin (в нем теперь помещается Banque de Paris et des Pays-Bas), в кабинете, из которого в наши дни, по мнению суеверных людей, глава банка Орас Финали правит не то Францией, не то целым миром.
«Нет, те люди не так сделаны; настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры, – а стало быть, и все разрешается. Нет, на этих людях, видно, не тело, а бронза!..»
Все, что перечисляется в этих знаменитых строках «Преступления и наказания», действительно было в жизни Наполеона. Но это, так сказать, ее оперная сторона. Было в ней и другое, не оперное, о чем Раскольников мог не знать и не думать; чисто оперной жизни не бывает. Не идиллией представляется нам и вся эта женитьба, если даже признать, что никаких других побуждений, кроме страстной влюбленности, не было у генерала Бонапарта. Достаточно сказать, что свидетелем он пригласил Барраса! Это поистине трудно понять.
Свидетелем невесты был Тальен – таким образом, Термидор оказался блестяще представленным на свадьбе. Остальные же два свидетеля были люди неизвестные. Мэр был, по-видимому, человек весьма покладистый. К документам он особенно не придирался. Благодаря Буррьену, Обена, Массону и особенно Ленотру нам известно точное содержание всех этих документов. Генерал Буонапарте сначала честно показал, что никакого имущества не имеет, «кроме гардероба и военного снаряжения». Потом это, очевидно, показалось ему неудобным, и он зачеркнул весь пункт о своем имущественном положении. Обещал, впрочем, жене пенсию на случай своей смерти – правда, небольшую: всего 1500 франков в год. И жених, и невеста, естественно, хотели сократить разницу в возрасте, – Жозефину сделали на четыре года моложе, Наполеона на два года старше. Последнее обстоятельство было очень неудобно: Генуя уступила Корсику Франции в 1768 году, за год до рождения Бонапарта. Таким образом, изменив возраст, он, собственно, становился иностранцем. Во избежание этого в документах объявлено, что жених родился в Париже. Может быть, нотариус и мэр всего этого и не знали. Но скорее их загипнотизировало имя свидетеля: шутка ли сказать, сам великий Баррас! Имя жениха (он расписался: Наполионе Буонапарте) производило, вероятно, на французов скорее комический эффект.
Через два дня генерал со смешным именем отбыл в армию.
«Солдаты! У вас нет одежды, вас плохо кормят. Правительство должно вам деньги и ничего не может вам заплатить. Ваше терпение, ваше мужество достойны восхищения, но они славы вам не приносят. Я вас поведу в плодороднейшие долины мира; богатые земли, большие города будут в вашей власти; вас ждут честь, слава и богатство...»
«Солдаты! В течение двух недель вы одержали шесть побед, захватили двадцать одно знамя, пятьдесят пять орудий, взяли несколько крепостей, завоевали богатейшую часть Пьемонта... Вы выигрывали сражения без пушек, переходили реки без мостов, делали огромные переходы без сапог, ложились спать без водки, а часто и без хлеба. Да будет же вам благодарность, солдаты!.. Но помните: вы ничего не сделали, так как главное дело еще остается: вы еще не взяли ни Турина, ни Милана...»
Эти первые приказы по армии генерала Бонапарта остаются, конечно, непревзойденным образцом военного красноречия: каждое слово в них свидетельствует о глубоком понимании человеческой души. В армии, во Франции, в Париже их читали с упоением, – так никто не говорил ни во время революции, ни до нее. Вести о победах шли одна за другою. Из Италии в казну директории поступали миллионные контрибуции. Привозились картины Леонардо, Рафаэля, Тициана. К концу года генерал Бонапарт был знаменитейшим человеком в мире.
Жозефина была удивлена, приятно удивлена, чрезвычайно приятно удивлена. Баррас – тот совершенно не мог прийти в себя от изумления: так до конца своих дней и не пришел, – это ясно чувствуется в его воспоминаниях.
XI
20 мая 1804 года утром по улицам Парижа проходила странная процессия. Впереди, верхом на конях, ехали двенадцать мэров. За ними, в сопровождении трубачей и музыкантов, следовали разные сановники, префекты, сенаторы, генералы, тоже все верхом. Посредине находился знаменитый математик Лаплас, исполнявший тогда обязанности канцлера сената. Процессия останавливалась на главных площадях столицы. Лаплас громким голосом читал следующий сенатус-консульт (Сенатус-консульт – во Франции в XIX в. акты, изменявшие или дополнявшие конституцию): «Управление республики поручено императору. Он принимает титул императора французов».
Едва ли эта процессия была очень величественной. Мэры, префекты и сенаторы не обязаны были хорошо ездить верхом. Сам Лаплас, вероятно, сел тогда на коня в первый и в последний раз в жизни. Талантом чтеца он тоже не отличался; да и при наличии таланта многократное повторение все одного и того же текста могло подорвать впечатление от исторической сцены. Должно быть, Лаплас посмеивался, – он был человек, настроенный весьма иронически. Может быть, не слишком серьезно относились к собственному делу и многие другие участники процессии. Враги говорили злобно: прежде он был просто петухом, а теперь он стал священным петухом. В публике же рассказывали всевозможные анекдоты. До нас дошло от того дня немало шуток и острот. Из слов: «Наполеон, император Франции» сделали анаграмму: «Эта сумасшедшая империя не просуществует и года». На одной из улиц шутники вывесили театральную афишу, извещавшую о постановке новой пьесы: «Император вопреки всем на свете».
«Вопреки всем» это было сказано слишком сильно. Французы не могли не посмеиваться над тем, что было смешного в действиях правительства. Кавалькада мэров с сенаторами их веселила, да и многое было смешно в новых формах, в наспех вырабатывавшемся новом церемониале. Люди отчасти смеялись и сами над собою. Кто только за истек шие пятнадцать лет не клялся сто раз в вечной верности республиканскому строю? Теперь восстанавливалась монархия, какая-то мудреная, с непривычным титулом, с новой династией. Вдобавок за эти годы все так много слышали о «революционной сознательности народа» и так много о ней говорили, что сами серьезно в нее поверили. Что скажет «революционный пахарь»? Что скажет «революционный рабочий»? Новый император непременно желал, чтобы народ утвердил посредством плебисцита принцип наследственной империи. Что, если пахарь и рабочий не утвердят? Давно ли Робеспьер был кумиром.
Пахарь и особенно рабочий (Олар выяснил, что среди рабочих Наполеон пользовался особой популярностью) утвердили. За империю было подано 3 572 329 голосов, против нее 2569! Сам Наполеон в успехе не сомневался. Он нашел ту среднюю линию, которая должна была привлечь наибольшее число французов. Одаренный от природы характером непреклонным и почти бешеным, он обуздал сам себя, пошел навстречу противникам справа и слева. Все его действия как будто исходят из одного общего принципа: предоставлением тех или иных выгод привлекать на свою сторону людей, каково бы ни было их прошлое. Иронически относясь к эмигрантам, он дает им возможность вернуться во Францию и охотно принимает на службу. Ненавидя якобинцев и террористов, осыпает их наградами. Будучи неверующим человеком, заключает конкордат с папой. Историки установили почти бесспорно, что он вступил в сношения с Людовиком XVIII и предлагал ему возмещение за отказ от прав на корону. Он был убежден, что разрешил уравнение: из революции взято все то, чем могли дорожить французы (После установления империи в полицейских донесениях (особенно от 28—29 флореаля) сообщается, что парижане очень довольны: «Наконец-то кончились революционные ужасы». Недовольны были только якобинцы: «Они собираются в кофейнях на Вожираре, пьют и сожалеют о прошлом времени. Говорят: «Кончено наше дело»...» (Полицейский рапорт от 13 фримера.) Донесения эти составлялись правдиво и беспристрастно); гражданское равенство обеспечено, «карьера открыта талантам»; и после пятнадцати лет хаоса – порядок, при твердой, совершенно уверенной в себе власти.
Шли подготовления к коронации. По пышности она должна была затмить все, что видел до того Париж. Костюмы изготовлялись по рисункам Изабе. Давид должен был изобразить церемонию в Нотр-Дам. Разработку церемониала император поручил сановнику старого двора графу Сегюру, бывшему послу Людовика XVI в России. Признавалось нежелательным во всем подражать Бурбонам. Наполеон восстанавливал империю Карла Великого и, по-видимому, желал следовать этикету своего предшественника. Но так как о церемониале VIII столетия Сегюр, как и все, имел весьма смутное понятие, то он больше сочинял, отчасти руководясь тем, что видел при дворе императрицы Екатерины (Талейран указывает, что в блеске наполеоновского двора было «quelque chose d'Européen et d'asiatique tire de Petersbourg» «нечто европейское и азиатское, взятое у Петербурга» – фр.).








