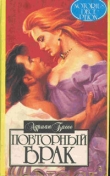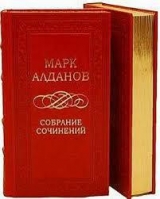
Текст книги "Поездка Новосильцева в Лондон"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Питт твердо решился на борьбу с Францией до конца. Вдобавок и рассуждать ему больше не приходилось: Наполеон собрал большую армию в Булони, переброска ее через Ла-Манш считалась тогда делом трудным, но возможным, а успех высадки означал бы конец Англии как великой державы: через три дня французы, наверное, были бы в Лондоне. Требовалось спешно создать европейскую коалицию для отвлечения сил Наполеона. В этом деле главные надежды Питт возлагал на Россию. Он готов был даже поделить с ней преобладающее влияние в мире: в те времена историческим врагом считалась Франция. Глава английского правительства знал, что в Петербурге существовали разные настроения. Говорилось и о разделе Турции (чтобы отторгнуть от нее территории Южной Европы) с провозглашением Александра Павловича императором всех славян. Против титулов Питт ничего не имел. Он согласился бы и на более реальные уступки – но, разумеется, без излишества.
Разговоры о распространении русского влияния на Балканы шли и в Негласном комитете, – там все было не совсем определенно: Лига Наций не исключала всеславянского царства. Насколько можно судить, именно Новосильцев был главным «реалистом» Негласного комитета. У Чарторийского, у Строганова, быть может и у царя, на первом плане стояло переустройство Европы на новых началах «народного права». Новосильцев разделял эти мысли, но ударение он, кажется, еще в Петербурге ставил не совсем там, где его ставили другие. В Лондоне же это ударение у него стало перемещаться с необычайной быстротой, – главным образом, вследствие новой ambiance.
Первый министр, по-видимому, прямо начал беседу с практических дел. Для борьбы с Наполеоном одних русских сил недостаточно; надо привлечь Австрию и Пруссию. Необходимо поэтому выяснить, какую приманку им можно дать («les appâts qui pourraient les tenter»).
Это начало разговора вызвало у Новосильцева некоторую неловкость, – он еще не отвык от языка Негласного комитета. Русский уполномоченный ответил, что так можно впасть в исконный грех («retomber dans le défaut des premiers temps»): если начнется новое расчленение Европы, если каждый будет стремиться к тому, чтобы извлечь для себя выгоду, то трудно будет установить в мире новый порядок и народное право.
Питт, вероятно, был несколько удивлен, – быть может, и он к тому времени еще не потерял способности удивляться. Но в особое смущение не мог привести его и этот неожиданный язык – «музыка будущего», шедшая из Зимнего дворца в Петербурге: после 17-летнего пребывания на посту первого министра Англии он, наверно, привык ко всяким языкам и с любым человеком мог говорить так, как было удобнее и лучше (привык же Клемансо к языку Вильсона). По крайней мере, когда возникла речь о «новом международном кодексе», первый министр заявил, что всей душой сочувствует этой превосходной мысли. Правда, он выразил и некоторое сомнение: согласится ли какая-либо могущественная держава принять обязательное посредничество в важных международных спорах. Тем не менее Питт оказался горячим сторонником идеи Лиги Наций. Во всяком случае, это было дело будущего. Вопрос о приманках для Австрии и Пруссии требовалось разрешить теперь же. Со своей стороны, Новосильцев пошел на уступки: некоторые предложения этим странам, конечно, могли бы быть сделаны. Ударение начало перемещаться.
Затем дело коснулось целей самой России. Питт, по-видимому, держался очень настороже во все время этой беседы, которая для него и для Англии имела огромное значение. Он сказал в не очень определенной форме, что, по его сведениям, в Петербурге существует план раздела Турции и овладения Константинополем.
Новосильцев это отрицал, – думаю, вполне искренно: подобные разговоры в Негласном комитете могли быть, но формы ясного политического плана они не принимали. Русский уполномоченный решительно заявил Питту, что император Александр не ищет для России никаких выгод и не думает об овладении Константинополем. Речь может идти только о русском покровительстве проживающим в Турции христианам.
Ответ не вполне удовлетворил главу британского правительства. «Было много примеров, – сказал он, – что покровительство над страною оканчивалось ее покорением».
Ударение у Новосильцева резко метнулось в сторону. «А если бы даже и так, – возразил он, – то вам ли, лучшим друзьям нашим, тревожиться нашими успехами? Разве Англия оттого понесла бы потерю?»
Эти слова явно не понравились первому министру, хоть и исходили они от лучших друзей Англии. «Было бы весьма неосновательно, – сказал Питт, – помышлять об осуществлении подобных планов в такое время, когда следует убедить все державы, до какой степени ужасны подобные нарушения народного права».
Таким образом, первый министр, столь быстро ставший горячим сторонником Лиги Наций, уже пользовался ее основными принципами в переговорах с теми людьми, которые эти принципы выдвинули! От «если бы даже и так» Новосильцев легко отказался, – это в самом деле не очень сообразовалось с народным правом. Но при полном единодушии в принципиальных вопросах нельзя было сразу отказаться от попытки увлечь идеей Лиги Наций вслед за Питтом и второго пацифиста – Наполеона. Разумеется, при условии, что Франция будет введена в свои «естественные границы».
Против этого Питт нисколько не возражал, – он, вероятно, вполне ясно представлял себе, какой успех это предложение, с естественными границами, может иметь у французского императора. Диалог был приблизительно такой: – Русский уполномоченный желает съездить в Париж для того, чтобы убедить Бонапарта? Прекрасная мысль. – Но кого же первый министр назначит для ведения переговоров от имени Англии? – Кого назначит? Да его же, Новосильцева. Отчего бы ему не представлять при этих переговорах сразу и Англию, и Россию?
Новосильцев был в восторге. «Если б Бонапарте не согласился на сделанное ему предложение, – писал он Чарторийскому 8 января, – то я буду иметь полную возможность сорвать с него маску и показать всем желающим видеть, что он только чудовище». Будет война, – что ж, война так война. Вообще в Лондоне все шло превосходно. «Принц Валлийский сказал Жеребцовой, что он ничего так не желает, как познакомиться со мною» (письмо Чарторийскому от 25 ноября). «Система Вашего Величества сделается здесь национальной системой... Здешнее министерство не осмелится противиться Вам ни в чем» (донесение царю от 24 декабря). Правда, система, завоевавшая Англию, стала в Лондоне несколько иной. Новосильцев пишет теперь о войне с Францией так, как будто ни о чем другом никогда речи не было и не могло быть. Не приходится удивляться тому, что к этой системе Питт прилепился сердцем и душою.
VI
Как ни трудно этому поверить, Новосильцев был убежден, что выполнил свою миссию «самым чудным образом» (письмо к Чарторийскому от 8 января 1805 года). Трудно сказать с уверенностью, разделяли ли его удовлетворение император Александр и члены Негласного комитета. Впоследствии, через много лет, князь Чарторийский весьма резко отзывался о лондонской работе Новосильцева: он не выполнил своего задания, он не отстоял новых идей в споре с британским правительством, он даже не спорил о них с Питтом, а что-то «едва пробормотал». Но это Чарторийский писал на склоне дней. В 1805 году он говорил совершенно иное. «Трудно было или, лучше сказать, невозможно было лучше исполнить данное вам поручение», – писал он Новосильцеву 4 февраля.
Между тем, повторяю, и Новосильцев и Чарторийский были бесспорно умные и идейные люди. Их слабость заключалась в том, что каждый из них верил не в одну, а в две идеи, не совсем между собой совмещавшиеся. В упрощенном и огрубленном виде я это выше передал словами: «Мир дело хорошее, но отчего бы при случае и не повоевать?» У Питта в 1804 году была только одна идея – война с Францией, – что и создавало его огромное преимущество над Новосильцевым.
У Новосильцева в Лондоне процесс перемены настроения шел быстро. У царя в Петербурге он медленнее, однако шел. Разумеется, менялась и политическая обстановка. По счастливому выражению Гюго, Наполеон опьянил историю, – в 1804—1805 годах она действительно шаталась как пьяная. В союзе с Англией и Австрией война против Франции казалась императору Александру беспроигрышным делом. Поводы для войны появлялись каждый день. Правда, они были налицо в достаточном количестве и прежде, – в поводах, слава Богу, никогда недостатка не бывает.
Как бы то ни было, из писем Чарторийского к Новосильцеву ясно видна перемена петербургских настроений. Влияние Негласного комитета ослабело, очень усилилось давление со стороны «старорусской партии». Чарторийский жалуется на происки Державина, которого называет «прощелыгой», – знаменитый поэт в политике не любил возвышенных замыслов. Скажем большевистским языком: «Кобленцская гидра подняла голову».
Собственно, Кобленца в ту пору уже не было. Он давно расслоился. «Лига дураков и фанатиков», как писал в свое время о подлинном Кобленце эмигрант Малле де Пан, численно очень сократилась. «Убежденные в том, что без умных людей революции не бывает, они надеются ее задушить с помощью дураков» – эти злые слова эмигранта, сказанные в 1796 году, восемью годами позднее уже стали анахронизмом. Французская эмиграция больше на дураков не ставила, да и в ней «дураки и фанатики» не преобладали. Современный историк (далеко не правый по взглядам) пишет, что четыре наиболее своеобразные книги конца XVIII и начала XIX века были написаны французскими эмигрантами. Думаю, что эта оценка преувеличенно лестна. Однако не следует отождествлять всю эмиграцию с «Кобленцем».
Говорю это, разумеется, отнюдь не в качестве эмигранта. Злополучное сравнение нынешней русской эмиграции с французской причинило нам немало вреда. По существу, это совершенно различные явления, почти во всем, начиная с численного состава. Но если признать это основное положение, то нет никакой надобности всячески с ужасом открещиваться от сходства в малом и второстепенном, в частности, в тех случаях, когда это сходство имеет жутко комический характер. Огорчит ли «Третью Россию» то обстоятельство, что историческая литература о французской эмиграции знает выражение «Третья Франция»? Может быть, и не всем евразийцам известно, что у некоторых французских эмигрантов, особенно разочаровавшихся в западном мире, появилась «тяга на восток»? Сам Жозеф де Местр с восторгом восхвалял Азию, «землю энтузиазма». Он даже говорил об «азиатских кузенах», хоть и не состоял ни в каком родстве с Чингисханом.
На долю французских эмигрантов везде выпало немало горечи и обид. В России, думаю, обид было меньше, чем в других странах. Однако почти в то самое время, когда возникла мысль о поездке Новосильцева в Лондон, глава низвергнутой династии, будущий король Людовик XVIII, просил у императора Александра I разрешения устроить семейно-политический съезд Бурбонов в Вильне и получил решительный отказ, составленный в самых сухих выражениях: «Не скрою от вас, – писал император, – что сделанное мною вам и повторяемое ныне предложение поселиться в моем государстве, если пребывание ваше в других странах не может длиться, имело единственной целью предоставить вам мирное и спокойное убежище, – причем не было бы речи о действиях, подобных тем, которые вы намерены предпринять». Это напоминает позицию французских радикалов в отношении русских эмигрантов. Да, собственно, тон ответа отчасти и объяснялся радикализмом Александра I и еще его личной антипатией к Бурбонам. Некоторое недоверие к политической деятельности эмигрантов, «как таковых», у царя было (замечу, кстати, что оно слегка чувствуется и в трудах великого князя Николая Михайловича). Но, как к людям, к ним (за исключением Бурбонов) Александр Павлович относился благожелательно и на свою службу принимал их охотно. Достаточно напомнить, что герцогу Ришелье было предоставлено управление чуть ли не всей Южной Россией, – для сравнения (с разными поправками на время, обычаи и т.д.) представим себе, что русский эмигрант был бы теперь назначен вице-королем Индии либо генерал-губернатором Алжира! В петербургском обществе французские эмигранты имели и преданных друзей, и настоящих ненавистников, – граф Ростопчин, например, писал о них почти в таком же тоне, в каком коммунистическая «Humanité» пишет о «белобандитах».
Влияние французской эмиграции в Петербурге отчасти объяснялось родственными связями. Сен-Прист был женат на Голицыной, Ланжерон на Трубецкой, Кенсонна на Одоевской, Моден на Салтыковой, Брюж на Головкиной. Другой причиной было то, что в России, как во всех странах Европы, эмигрантский план реставрации Бурбонов встречал деятельных друзей. Были и еще причины. Вдобавок французская эмиграция, как Питт, не имела раздвоенного сознания. Ставила она в разное время на разные карты; но одна ее ставка, ставка на войну, оставалась неизменной, и ее французская эмиграция выиграла. Не все ведь тонет и при потопе.
«Кобленцская гидра», ропот русской партии, воинственное настроение молодежи, начинавшееся разочарование царя в идеях Негласного комитета, личное его раздражение против Наполеона, захват французами Генуи – все это сплелось: поездка Новосильцева в Париж не состоялась. Она, разумеется, ничего и не изменила бы. Разговоры о Лиге Наций кончились, начиналась европейская война. Оставалось только заключить договор о союзе между Россией и Англией. Эту задачу Новосильцев выполнил прекрасно: тут он знал твердо, чего хочет, и при спорах победителем чаще оказывался он, чем Питт. Союз, разумеется, был объявлен «вечным». Такова традиция.
В договоре (четвертый параграф особой, секретной статьи) остался и последний письменный след Лиги Наций 1804 года. В очень туманной форме там говорится, что в Европе следует установить «федеративную систему, обеспечивающую независимость слабых государств» и т.д. Это явно никого ни к чему не обязывало – и не обязало. Однако нам теперь не приходится проявлять особую строгость. Не приходится и пространно излагать смысл исторического урока 1804 года. Замышлялась Лига Наций с всеобщим миром и с «охранением народной правоты». Вышла европейская война, продолжавшаяся десять лет. Я не утверждаю: «Так было, так будет». Но все же трудно отказать в некоторой поучительности этой главе из истории русского либерализма.