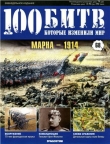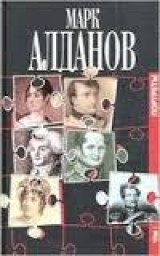
Текст книги " Мольтке младший"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Мольтке младший
I
Генерал Галлиени писал в своем дневнике 25 сентября 1915 года:
«Работаю над записками. Да было ли сражение на Марне? Группа армий отступала перед врагом, каждая работала на себя. Можно ли отдавать приказания армиям, отступающим под давлением неприятеля? Они делают, что могут... Намечалась общая операция, предполагалось поддерживать огромный единый фронт без дыр, а между тем каждая голова работала самостоятельно – и так лучше...»
Удивительные строки. Один из главных участников сражения на Марне (быть может, самый главный) выражает сомнение в том, было ли вообще это сражение! В сущности, знаменитый французский генерал здесь развивает чисто толстовский взгляд на войну, относя его, правда, лишь к одному военно-историческому явлению.
Толстовская «теория» вышла из наблюдений над наполеоновскими войнами. Все историки литературы отмечают (да это признавал и сам Толстой), что военные сцены «Войны и мира» освещены так же, как соответственные картины стендалевского «Красное и черное»: Фабрицио дель Донго участвовал в битве при Ватерлоо, сам того не зная: он ничего, кроме беспорядка и хаоса, не видел. В действительности, Стендаль заимствовал эти страницы из одной малоизвестной книги «Воспоминания солдата», написанной ничем не замечательным, но подлинным участником кампании 1815 года.
Прочтите книгу Галлиени, воспоминания Пуанкаре, письма Мольтке – да, это как будто полное торжество толстовских воззрений: как будто те же личные страсти, личные счеты, личные интересы. Прочтите бытовые страницы в книге полковника Шарбонно – и здесь чисто толстовские сцены, те самые, о которых генерал Драгомиров писал (цитирую на память): «Тут каждый офицер скажет: да это с нашего полка писано». И вместе с тем толстовская теория не так уж много дает для объяснения громадного всемирно-исторического события, которое справедливо было названо «чудом на Марне».
У Толстого, как известно, все решает дух армии. В 1805 году русским крестьянам в солдатских мундирах было решительно незачем на австрийской территории, из-за Генуи и Лукки, воевать с французскими крестьянами. Поэтому Кутузов проиграл битву при Аустерлице. В 1812 году, напротив, вестфальским, гессенским, итальянским, польским, даже французским деревенским людям совершенно не нужно было идти в Россию, куда гнало их честолюбие или безумие Наполеона. Поэтому тот же Кутузов выиграл сражение при Бородино, от которого зависела участь Москвы, а с ним и всю Отечественную войну. На войне один батальон иногда сильнее дивизии, иногда слабее роты. Найдется смелый человек, который бросится вперед со знаменем, – и дело выиграно. Напротив, человек панический закричит «мы отрезаны!» – и все пропало. Сражение выигрывает тот, кто тверже решил его выиграть.
Но в 1914 году обе стороны очень твердо «решили» выиграть сражение на Марне. Дух был одинаково высок и во французской, и в германской армиях, как приблизительно равен по качеству был человеческий материал. В пору наполеоновских войн, пожалуй, батальон мог быть сильнее дивизии или слабее роты. Но 420-миллиметровое орудие всегда сильнее 75-миллиметрового. С техникой армий 1914—1918 годов бороться только духом было довольно затруднительно. Бежать же вперед со знаменем было и невозможно, и бесполезно: никто не увидел бы, да и куда же бежать, когда расстояние между сражающимися армиями составляет десять, пятнадцать километров? Толстовская теория частично устарела вместе с теми самыми военными теориями первой половины XIX века, против которых была она направлена.
Парадокс современной войны. Для Наполеона и его маршалов, для Фридриха, для Суворова война была профессией в самом настоящем смысле слова. Напротив, генералы, командовавшие армиями в Марнском сражении, никогда ни в какой серьезной войне не участвовали (разве некоторые в чине поручика). В сущности, это был их дебют.
Другой парадокс. Ни один частный предприниматель не примет на службу директором завода или бухгалтером глубокого старика. Но в 1914 году нечеловеческое напряжение всех душевных, умственных, физических сил выпало на долю очень старым людям. По странной случайности, главные из них (за исключением Жоффра) были в ту пору больны. Тяжело болен был Мольтке, еще тяжелее Галлиени – оба они вскоре сошли в могилу. Больны были в 1914 году также Клук, Бюлов, его начальник штаба Лауенштейн. Поистине надо удивляться энергии, силе воли, выносливости всех этих людей.
Замечу еще одно: ни один из них не пользовался у себя на родине всеобщим признанием, тем авторитетом, который был у Наполеона, у Фридриха, у Суворова. Галлиени в своих воспоминаниях весьма отрицательно отзывается о Жоффре (они, кстати сказать, были еще с 1910 года соперниками по кандидатуре на должность верховного главнокомандующего). Сам Жоффр, довольно добродушный человек, сурово обошелся в мемуарах с Петеном и Кастельно. Фош в 1916 году был уволен от должности и впал в полную немилость. При этом Жоффр сослался на прямое предписание Пуанкаре об увольнении будущего генералиссимуса. Но Клемансо в своих воспоминаниях говорит, что, когда он сказал об этом президенту республики, тот только развел руками: «Господи! Эти генералы!..» Немало рассказов такого рода можно найти и у Ллойд Джорджа. Он говорит, напротив, что в пору мировой войны французский генеральный штаб «считал самым опасным своим врагом не германского генерала Клука, а французского генерала Саррайля»!
Отнюдь не лучше обстояло дело в высших военных кругах Германии. Так, например, фон Фалькенгайна, который в начале войны был военным министром, а потом верховным главнокомандующим, ненавидели большинство немецких генералов. Мольтке, Гинденбург, Людендорф настойчиво, почти ультимативно требовали его отставки, писали об этом императору Вильгельму. Очень нехороши были, по-видимому, и отношения Клука с Бюловым. Осведомленный историк войны (сам видный военный) считает даже, что дурные отношения между командующими первой и второй германскими армиями были одной из причин поражения немцев на Марне и провала наступления на Париж: в решительный день 6 сентября штабы обеих армий находились очень близко один от другого; если б фон Клук и фон Бюлов сочли возможным встретиться и сообща обсудить положение, то результат мог бы быть иной; но этому будто бы помешали борьба самолюбий и личные счеты двух старых генералов (они были в одном чине и одних лет).
Можно было бы умножить число сходных примеров. Не будем суровы в оценках. История кое-как все привела в порядок. Не подлежит сомнению, что и Галлиени, и Жоффр, и Фош – превосходные генералы. Вероятно, прекрасными военачальниками были и Клук, и Фалькенгайн, и Бюлов, и Мольтке, которого в Германии принято всячески ругать. Они терпеть не могли, бранили, не признавали друг друга, но так обстоит дело не только у знаменитостей военного мира. Да и не все тут, конечно, сводится к личным счетам и столкновениям. Среди генералов, как среди политических деятелей, писателей, художников, инженеров, учителей, фотографов, всегда была борьба партий, направлений, взглядов. Над всеми нами тяготеет и прошлое с его великими людьми: отсутствующие присутствуют. Не могло быть у Веласкеса личных счетов с Рафаэлем, который умер за много десятилетий до его рождения. Однако Веласкес уверял – быть может, искренне, – что смотрит на картины Рафаэля с отвращением. Престарелый французский ученый, бывший в молодости учеником Пастера, когда-то мне рассказывал, что в пору знаменитого спора между Пастером и Либихом, в те дни, когда в Париж приходила последняя книжка немецкого научного журнала, в лаборатории начиналась паника: читая работу Либиха, Пастер ругался ужасными словами, а иногда доходил до настоящих припадков бешенства. Между тем дело шло – о природе брожения!
Разница, однако, есть. Никто не заставлял и не мог бы заставить Пастера вести совместное исследование с Либихом или Рафаэля писать сообща картину с Микеланджело – да еще по указаниям Леонардо да Винчи. Но полководцы 1914 года делали общее дело: они приводили в исполнение план, который для большинства из них был чужим, которого многие из них отнюдь не одобряли.
По своей некомпетентности не берусь, разумеется, судить о военной стороне обоих планов: французского и германского. Поскольку дело идет о ней, позволяю себе лишь ссылаться на мнение авторитетов. Они говорят об этих планах без восторга. Во Франции, как известно, верховный военный совет, незадолго до начала войны (18 апреля 1913 года), принял так называемый план № 17, – семнадцатый по счету с 1875 года. Он предусматривал решительно все, – кроме вторжения немцев через Бельгию! Столь же прекрасно разработанный план был у немцев – знаменитый план графа Шлифена. Впрочем, новейший историк утверждает, что такого плана никогда не было – была будто бы лишь краткая и не очень ясная записка, составленная графом Шлифеном в весьма преклонном возрасте. В довоенной Германии Шлифена многие считали гениальным человеком, он скончался за полтора года до начала войны. Германское верховное командование очень бранили за то, что оно «отступило от плана графа Шлифена». При этом военные нередко забывают, что план графа Шлифена строился на нарушении нейтралитета не только Бельгии, но и Голландии. Поэтому, независимо от своих стратегических достоинств, он в 1914 году оказался совершенно неприемлемым по политическим и по экономическим причинам. Политика сыграла дурную шутку и с французским, и с германским командованием. Обоим с началом войны пришлось поневоле импровизировать.
Преемником графа Шлифена с 1907 года стал Мольтке Младший. Его теперь почти все немецкие историки и теоретики военного дела считают бездарным человеком. Но это не всегда так было. Рекомендовал его императору как своего преемника не кто иной, как сам граф Шлифен, не очень, кажется, его любивший, но признававший за ним большие дарования. Очень высоко ставил его и Людендорф. Гинденбург уже после марнского поражения, после отставки и опалы генерала Мольтке просил Вильгельма II снова назначить его германским верховным главнокомандующим. Но это были исключения. Общество забыло о Мольтке на следующий же день после его ухода. Почти незамеченной прошла и его смерть.
II
Генерал Гельмут фон Мольтке не оставил после себя, если не ошибаюсь, никаких трудов. Он написал несколько докладных записок, которые военным людям могут быть интересны, да и то не слишком. Но остались после него письма к жене, интересные в историческом, бытовом, психологическом отношении. Женат он был на своей родственнице графине Мольтке-Гуитфельд. По-видимому, это был очень счастливый брак. Письма генерала, охватывающие сорокалетний период времени, свидетельствуют о необыкновенной любви его и уважении к жене. Доверял ей Мольтке безгранично. В пору войны он сообщал жене в частных письмах самые секретные военные сведения. Достаточно сказать, что в письме от 9 сентября 1914 года он в почти безнадежном тоне говорит о военных шансах Германии! В ту пору только он один во всем мире мог так знать и так расценивать положение своей армии. Пусть моралисты решают, имел ли право германский главнокомандующий доверять и жене, и почте (или курьерам) тайну столь огромной важности. Для жены Мольтке написал, уже находясь в отставке, незадолго до смерти, небольшую историческую справку о событиях 1914 года и о своей роли в них. В конце этой краткой записки (страниц в пятнадцать) он пишет: «Заметки эти предназначаются исключительно для моей жены. Они никогда не должны быть напечатаны. На долю мою выпало мученичество...» Вдова генерала все-таки опубликовала заметки – для того, чтобы защитить его память.
Гельмут фон Мольтке приходился племянником знаменитому фельдмаршалу, командовавшему германскими войсками в 1866 и в 1870 годах. Это на нем тяготело почти как несчастье. Оба сына Данте были поэтами, и над ними обычно издеваются. Может быть, их стихи и не так дурны, но уж очень хорошо выходит, что дети «божественного Алигьери» – бездарные поэты. То же до некоторой степени наблюдалось и в семье Мольтке.
Старого фельдмаршала прозвали в мире «великим молчальником». Почему, собственно, его так прозвали, трудно поняты сочинения графа Гельмута Мольтке составляют девять томов. Великий молчальник писал, кроме военных трудов, политические, исторические, философские статьи, путевые очерки, афоризмы, стихи. Он написал даже роман «Два друга». Этот роман я читал, но не дочитал. В нем красавица графиня Ида вышла замуж за мужественного рыцаря Эрнста на радость старому преданному слуге Фердинанду. Стихи же графа Мольтке, точнее, мадригалы – много лучше. Он занимался также живописью, знал толк в музыке. Это был очень образованный, одаренный и своеобразный человек.
В мире он пользовался репутацией милитариста из милитаристов. Для нее, конечно, были основания. Мольтке был главнокомандующим в трех войнах и в своих речах ежегодно предсказывал четвертую чуть только не на следующую весну. 88 лет от роду он собирался снова стать во главе армии и повести ее на Париж. Кроме того, ему приписывают изречение: «Вечный мир – мечта, и не прекрасная мечта». В отличие от многих других исторических изречений, вышеприведенное вполне точно: фельдмаршал действительно это сказал в 1880 году. Но был ли он в самом деле закоренелым, убежденным милитаристом вроде Бернгарди или Людендорфа? В частных своих письмах он утверждал, что ненавидит войну. Высказывал он иногда мысли самые неожиданные. Так, граф Мольтке где-то говорит, что в настоящее время войны затевают не короли и не полководцы, а биржи, – это могли бы сказать и Маркс, и Ленин. Самое удивительное, пожалуй, то, что незадолго до смерти он советовал своему племяннику не отдавать сына в кадетский корпус: незачем ему становиться офицером, пусть лучше изучает сельское хозяйство.
В частной жизни это был любезнейший человек. Он обожал свою жену, чрезвычайно любил мать, братьев, сестер, племянников, внучатых племянников и племянниц (детей у него не было). В 90-летнем возрасте писал 15-летнему потомку: «Посылаю тебе двадцать марок. Если ты их положишь в сберегательную кассу, значит, ты скряга. Если же ты их сразу истратишь, значит, ты мот. Рекомендую тебе золотую середину».
Галантность не покинула его и на десятом десятке лет. В его письмах есть длинные рассуждения о красоте женщин разных национальностей и о разных красавицах, как императрица Евгения, как некоторые русские великие княгини. Он у себя, в здании генерального штаба, предоставил место какому-то Damengesangverein'y и неизменно посещал все вечера этого дамского музыкального кружка. Любимым его поэтом до конца дней оставался Генрих Гейне, хоть он и поругивал автора «Путевые картины» за атеизм. После Генриха Гейне фельдмаршал всем предпочитал Осипа Шубина, поддерживал с этим писателем и личную дружбу. Под псевдонимом Осипа Шубина писала хорошенькая немецкая романистка Лиля Киршнер; писала она повести с умопомрачительными заглавиями вроде: «Ядовитая смоковница», «Слава побежденным» или «Конец Полонии». Повести эти тотчас прочитывались в имении престарелого графа Мольтке, куда часто приглашался и сам Осип Шубин для совместного обсуждения последнего шедевра.
В Германии боготворили фельдмаршала. Военные говорили о нем так, как набожные брахманы могут говорить о Брахме. В день его 90-летия император писал, что не может предложить ему никакой награды: «у вас все награды есть». В политику он вмешивался не часто, – «это Бисмарк лучше знает», – но с ним очень считались. Иногда он, Вильгельм I и Бисмарк объединялись для совместного обсуждения государственных дел. Им втроем было без малого триста лет. Относились три старца друг к другу не без иронии (особенно Бисмарк к двум остальным), но отдавали должное – императору за ранг, Бисмарку за ум, Мольтке за Седан. Фельдмаршал знал себе цену. На погребении императора Фридриха церемониймейстер по ошибке пропустил его в списке. Старик устроил страшный скандал – при новом дворе произошла паника, и фельдмаршалу отвели самое почетное место во всей погребальной процессии. При своих летних путешествиях он соблюдал строгое инкогнито, но любил, чтобы его немедленно узнавали и чтобы его появление производило радостный переполох в гостиницах и в ресторанах, а племяннику Гельмуту хмуро говорил: «верно, опять кто-нибудь разболтал»...
На посту начальника генерального штаба Мольтке оставался до 89 лет и наконец сам потребовал отставки, ссылаясь на то, что ему «стало трудно ездить верхом». Выработал новый план войны (кстати сказать, противоположный плану графа Шлифена) и удалился на покой в имение. Там по утрам сажал деревья, а вечером играл в вист. За вистом и почувствовал внезапно предсмертную слабость – и умер, глядя на портрет своей жены, скончавшейся за четверть века до него.
III
Семья у Мольтке была большая, но будущий главнокомандующий 1914 года был любимым племянником фельдмаршала. У него старик и поселился с 1883 года. Племянник, естественно, чтил своего знаменитого дядю, но, по-видимому, без большого благоговения. В письмах к жене он обычно отзывается о фельдмаршале в благодушно-ироническом тоне. Для всего мира граф Мольтке был героем Кениггретца и Седана, первым полководцем Европы со времен Наполеона. В семье Мольтке Младшего он был просто «дядя Гельмут».
Мольтке Младший был человеком иного поколения и иных взглядов. Он получил военное воспитание, прошел через академию, состоял в генеральном штабе, проделал блестящую военную карьеру. Однако круг его умственных интересов, как ни странно, имел мало общего с военным делом. Порою он целыми днями рисовал или играл на виолончели. «Устроил себе мастерскую художника, – извещает он жену, – пишу пейзаж. Много занимаюсь также виолончелью. Живу для искусства...» Неизменно сообщает он жене, какие книги прочел и что о них думает. «Читаю книгу философа Гартмана «Философия религии». Он доказывает, что религия должна эволюционировать, как философские учения, если она не хочет отстать и погибнуть...» «Читаю сейчас «Историю французской революции» Карлейля. Книга талантливая, но стиль аффектированный...» «Несколько дней тому назад прочел книгу, которую и ты непременно должна прочесть, она будет тебе очень интересна. Это «Источники жизни Христа» базельского профессора Вернле...» Есть в его письмах отзывы о Геккеле, Ницше, даже о Бебеле, даже о Максиме Горьком: «На дне» произвело на меня глубокое и отталкивающее впечатление. Не могу согласиться с таким мировоззрением...» Действительно, было бы странно, если бы он согласился с мировоззрением Максима Горького. Зато понравилась ему в том же театре пьеса Метерлинка «Пелеас и Мелисанда»: «Она не драматична, но очень поэтична и замечательно сыграна. Я ее уже читал и даже хотел перевести, но не решился...» Если дядя Гельмут всем писателям предпочитал Генриха Гейне и Осипа Шубина, то племянник на первое место ставил Гёте. «Я чрезвычайно рад, что тебе нравится «Фауст». Я столько раз читал и перечитывал эту книгу, что знаю ее почти наизусть. Она влечет меня с неодолимой силой. В этом произведении сочетаются все тоны поэзии, гимны архангелов, саркастический смех демонов, глубокие мысли человеческого ума, ведущего борьбу с титанической энергией, и наивная болтовня невинной девочки. Это величайшее создание нашей литературы...»
Стиль последней цитаты не должен удивлять читателя. Так Мольтке писал часто и о предметах, с литературой не связанных. «Вокруг меня царит ночная тишина. Сон на фетровых крыльях опустился на город, прекратив шум дня. Мирную тихую улыбку вызовет он на лицах бедняков и несчастных, которых несколько часов тому назад угнетали нищета и невзгоды...» «Природа все погрузила в ванну своей вечной молодости. Над бренными делами людей подняла она зеленый флаг своей цветущей ароматной жизни...»
Во всем этом замечательна только подпись. Если б писал это любой немецкий приват-доцент или литератор, удивляться никак не приходилось бы. Но писал (в разное время жизни) – начальник генерального штаба германской армии, человек, считавшийся главой военной партии Германии! Конечно, если рассуждать теоретически, то ничто не препятствует самому завзятому милитаристу играть на виолончели, переводить «Пелеаса и Мелисанду» и пи сать жене о сне на фетровых крыльях и о зеленом флаге ароматной природы. Однако это странно. Иногда (чрезвычайно редко) в переписке Мольтке Младшего попадаются и «милитаристические настроения». Так в письме с маневров он как-то пишет жене: «Как арабский конь вдыхает знойный ветер пустыни, так глубоко вдыхаю я запах пороха. Вот где моя стихия, моя душа, моя мысль. С безграничной радостью, с подлинным сладострастием бросился бы я в ураган войны. Нет ничего прекраснее в жизни солдата!.. Полной грудью вдыхаю я пороховой дым, он меня пьянит, как новое вино... Все нервы мои напряжены, все чувства обострены. О, прекрасная, великолепная жизнь воина! Я чувствую, что родился солдатом...» Эти строки у Мольтке Младшего производят такое же впечатление, как неожиданные вставки в трудах некоторых наших соотечественников: человек говорит со вкусом, с любовью, с волнением о старом Петербурге, о Пушкине, о Владимире Соловьеве – и вдруг, точно вспомнив, что он советский профессор, вклеивает ни к селу ни к городу строки о классовой борьбе, о преступлениях буржуазии и т.д. Но у советских профессоров это, по крайней мере отчасти, объясняется житейской необходимостью, тогда как Мольтке писал интимное письмо жене. Замечу, что «дядя Гельмут», достаточно на своем веку повоевавший, отроду ничего не писал об урагане, об арабском коне, о сладострастии от порохового дыма. Племянник это сладострастие испытал – на маневрах! Кажется, ему самому стало неловко: тотчас вслед за приведенными строками он наивно добавляет: «Ты не должна, однако, принимать все это трагически!»
На старости лет генерал Гельмут фон Мольтке стал склоняться к теософии. Еще с 1904 года в письмах его к жене начинает встречаться имя Штейнера. Жена будущего главнокомандующего лично знала и чрезвычайно почитала вождя теософов. Был ли с ним знаком сам Мольтке, мне неизвестно. В одном своем письме из Карлсбада он пишет жене: «Я очень рад, что ты беседовала со Штейнером; для тебя ведь беседа с ним всегда такая душевная опора. Я был бы тоже счастлив повидать его в августе, если он приедет в Берлин...» Это свидание, однако, не состоялось, – Мольтке стало не до теософии: август, о котором он пишет в карлсбадском письме, был – грозный август 1914 года.
IV
В политических взглядах Мольтке разобраться не так просто. Революционеров он обычно называл разбойниками или грабителями и считался человеком весьма консервативным. Но надо ведь принять во внимание «координату времени». Профессор Бартелеми говорил, что человечество периодически поворачивается с левого бока на правый, затем – с правого бока на левый. В ту пору человечество лежало на левом боку. Консерватор Мольтке писал, например, 4 февраля 1905 года: «По-видимому, царь намерен установить либеральный строй. Это было бы благодеянием и для него самого, и для России...»
Неожиданные мысли высказывал он и по национальному вопросу. Шовинистом он не был никак. Мольтке беспрестанно бранил Германию и немцев за отсутствие идеалов, за грубый материализм в политике, за лицемерие, за лживость. «Поистине, немецкий народ – жалкое стадо», – пишет он жене 5 марта 1904 года. Четырьмя годами ранее, в пору похода на Пекин, Мольтке замечает: «Об истинных причинах этой экспедиции лучше не распространяться. Если говорить откровенно, только из жадности мы и бросились на большой китайский пирог. Хотим строить железные дороги, разрабатывать копи, одним словом, наживать денежки. Мы ведем себя не лучше, чем англичане в Трансваале...»
За печатью, и левой и правой, он следил очень внимательно. Того пренебрежения к общественному мнению, которое так характерно для нынешних государственных людей (даже в некоторых свободных странах), у генерала фон Мольтке не было совершенно. Похвала на страницах «Berliner Tageblatt» доставляла ему живейшую радость – комплиментами его на родине не избаловали. «У меня после маневров, «хорошая пресса», – пишет он в 1912 году, – газеты явно перестали считать меня дураком». Глава германской военной партии большой требовательностью не отличался. Человек он был вообще незлобивый. Не найти у него и ненависти к «врагам»: «наследственным», «историческим» и к врагам просто. Описывая жене свою заграничную поездку, он, например, очень лестно отзывается о Франции: «Удивительная страна! Во всем видно богатство, видна цивилизация...» «Париж был великолепен... Меня снова поразило величие этой столицы...» Англичан он, кажется, недолюбливал, но неизменно отдавал им должное. Настоящей же любовью генерала Гельмута фон Мольтке, по всей видимости, была Россия.
Наша публицистика с незапамятных времен бранила немцев за презрительное отношение к русскому народу. Можно было бы возразить, что и сама она не всегда проявляла нежные чувства к немцам. В русской классической литературе (за редкими исключениями) немец обычно комический персонаж, гоголевский мастер Шиллер, который «положил целовать жену свою в сутки не более двух раз» и который говорит о себе: «Я швабский немец, у меня есть король в Германии... О, я не хочу иметь роги... Мейн фрау, гензи на кухня!..» Великий мизантроп сказал: «Каждая нация издевается над другими, и все совершенно правы».
Презрительное отношение к русскому народу, может быть, и в самом деле свойственно большому числу немцев. Однако несомненно и то, что наряду с этим всегда было в Германии, даже у завзятых русофобов, и характерное преклонение перед огромностью ее территории, перед ее неисчерпаемыми богатствами, перед широтой русского национального характера, перед многим другим, включающим и «демонические глубины Достоевского», и малосольная икра.
Можно было бы написать исследование о победном шествии по западным странам русской икры – и в прямом, и в символическом смысле. В самом начале прошлого века граф Морков поразил воображение Парижа, послав в подарок Бонапарту бочонок икры (ее, кстати сказать, в первый раз, по неопытности, подали к столу Бонапарта – сваренной). Прошло более ста лет, но и по сей день в газетных отчетах о приемах в Москве обычно встречается восторженное упоминание об икре, иногда, – для местного колорита, – просто «le Malossol». Так было всегда и везде; в Германии же культ русской икры – и зернистой, и символической – был особенно велик.
Генерал фон Мольтке, с детских лет близкий к германскому двору, не голодал, конечно, и у себя на родине. Но письма его из России, где он бывал неоднократно, написаны так, точно он приехал из голодного края и все не может опомниться. «Несравненное русское гостеприимство, – пишет он в 1903 году (Мольтке сопровождал кронпринца, который отправился с визитом в Петербург. На границу за ними был выслан русский дворцовый поезд, и гостей встречал генерал-адъютант князь Долгорукий.), – совершенно завладело нами, как только поезд отошел от Вержболова. Нас тотчас позвали к завтраку. Подали свежую икру. Ее здесь едят ложками. Было и множество других вкуснейших вещей, и новички наелись досыта в ожидании большого завтрака. Чокнувшись водкой с новыми нашими русскими друзьями, мы перешли на шампанское, которое в России играет такую же роль, как у нас мозельское вино по 50 пфеннигов литр. С шампанским мы так больше и не расставались, начиная с этого первого завтрака, до возвращения на германскую границу, где этот дивный напиток уступил место мюнхенскому пиву... Мне и во сне представлялись пирожки, рябчики, перепела, рыба, бутылки шампанского, увенчанные икрой...»
Письма его из Петербурга и Москвы почти неизменно полны восторгов. Особенно его поражала пышность придворных церемоний. «Днем видел, как в пятнадцати золотых экипажах, крытых пурпурным шелком, перевозили в Зимний дворец драгоценности короны. В каждую коляску впряжены четыре лошади белой масти, при каждой коляске – четыре человека в раззолоченных пурпурных мантиях. Впереди отряд кавалергардов. Кортеж – красоты феерической... Нельзя описать петербургское великолепие. Все пропорции здесь колоссальны... Что до Зимнего дворца, где мы живем, то ты получишь о нем представление, если я тебе сообщу, что в одной из его зал могут ужинать, за малыми столами, три тысячи человек...»
«Феерическая красота», – повторяет он через два года, в следующую поездку в Россию. «На деньги от продажи драгоценностей дам (на выходе царя) можно было бы купить целое королевство...» «Такой гвардии нет ни в одной стране...» «В России принимают в солдаты лишь треть ежегодного контингента новобранцев; можно себе представить, каков подбор для гвардии...» «Московский Кремль необычайно прекрасен. Это целый город, с дворцами, с соборами, размеров, возможных только в такой огромной стране, как Россия...» «Зрелище это (дни коронации) так сказочно великолепно, что мы совершенно ошеломлены. Описать его невозможно, ты все равно не могла бы себе его представить. Перед этим великолепием теряешь мысли, трешь себе лоб и спрашиваешь себя: да точно ли ты в своем уме, или у тебя бред?..» В почти столь же восторженных выражениях говорит он о сокровищах Эрмитажа, о Мариинском театре, о русском церковном пении, – «просто не веришь, что это поют люди...» «Попадая в святую Русь, в эту колоссальную империю с безграничными пространствами, мы, европейцы, живущие в тесноте, испытываем такое чувство, точно покинули нашу планету и очутились в безбрежном мире...»
Русские симпатии Мольтке до некоторой степени отражались и на его взглядах по внешней политике. Так, в пору русско-японской войны он от всей души желает поражения японцам (что довольно неожиданно для главы германской военной партии). В письме к жене от 31 марта 1905 года он пишет: «Я всегда чувствую себя униженным, когда встречаю этих маленьких желтолицых людей. Они со времени своих побед смотрят на нас с совершенным презрением...» «Я потерял всякую надежду на победу России», – пишет он несколько позднее. Стратегия Куропаткина, впрочем, его возмущала: «С тех пор как мир существует, никто не вел войны так нелепо...» Замечу, что симпатии Мольтке к России отнюдь не распространялись на славянские страны вообще. Балканских славян он терпеть не мог, а болгар называл «гуннами» за жестокости, будто бы ими совершавшиеся в пору войны 1913 года; не предвидел он, что именно так, через год, сотни миллионов людей будут называть самих немцев.
Служебная карьера генерала фон Мольтке оказалась чрезвычайно удачной. Император относился к нему очень благосклонно; они встречались постоянно, вели дружеские беседы о самых разнообразных предметах, вплоть до загробной жизни. «Его Величество думает, – пишет как-то генерал жене, – что смерть есть начало новой жизни. Император много размышлял об этих вопросах и подходит к ним гораздо свободнее, чем можно было бы ожидать. Он сообщил мне, что однажды сказал пасторам: «Когда говорят школьникам, проходившим космографию, что Бог сотворил мир в шесть дней, то этим только пробуждают сомнение в их душах...» Сам Мольтке очень интересовался религиозными вопросами. Он думал, что человек продолжает совершенствоваться и в загробной жизни, переходя постепенно из одной сферы потустороннего мира в другую. «Философский зверь», как говорит Ницше, сидел в нем прочно.