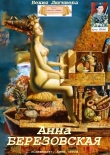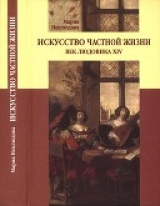
Текст книги "Искусство частной жизни. Век Людовика XIV"
Автор книги: Мария Неклюдова
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
Ее счастье смущало отдаление Месье после истории с шевалье Лотарингским;[326]326
Шевалье Лотарингский был арестован в январе 1670 г.
[Закрыть] но, казалось, расположение короля должно было помочь ей выйти из этого затруднения. Итак, она была в самой благодатной поре своей жизни, когда смерть, нежданная, как удар грома, оборвала это прекрасное существование и лишила Францию прелестнейшей принцессы.
24 июня 1670 г., через восемь дней после возвращения из Англии, она вместе с Месье отправилась в Сен-Клу. Приехав туда, она в первый же день пожаловалась на тяжесть в боку и боль в животе, к которой была склонна. Но стояла жара, и ей захотелось искупаться в реке. Господин Ивлен, ее врач, [327]327
Пьер Ивлен был врачом короля и герцогини Орлеанской.
[Закрыть] сделал все, дабы этому воспрепятствовать, тем не менее, что бы он ни говорил, в пятницу она искупалась, а в субботу ей так занеможилось, что больше купаний не было. Я приехала в Сен-Клу в субботу к десяти вечера и нашла ее в саду; она мне сказала, что, наверно, плохо выглядит и не слишком хорошо себя чувствует; она отужинала как обычно, а затем до полуночи прогуливалась в лунном свете. Назавтра, в воскресенье, 29 июня, она рано поднялась и спустилась к Месье, который купался; пробыла у него долго и, возвращаясь из его покоев, заглянула ко мне и сказала, что хорошо провела ночь.
Минуту спустя я поднялась к ней. Она сказала, что не в духе, но ее дурное настроение у другой женщины считалось бы прекрасным, так велика была ее природная мягкость и так мала способность к резкости и гневу.
Пока она со мной говорила, пришли сказать, что сейчас начнется месса. Она пошла ее послушать, затем, возвращаясь, оперлась на меня и молвила со столь отличавшей ее добротой, что была бы в духе, если бы могла беседовать со мной, но что она устала от тех, кто ее окружает, и более не может их выносить.
После она пошла взглянуть, как прекрасный английский художник рисовал портрет Мадмуазель, [328]328
Имеется в виду старшая дочь Генриетты и Филиппа, Мари-Луиза Орлеанская (1662–1689), которая в 1679 г. стала испанской королевой. Портрет ее, видимо, писал художник английского двора Питер Лели (1618–1680).
[Закрыть] и принялась беседовать с госпожой д’Эпернон[329]329
См. сноску 34 на с. 349.
[Закрыть] и со мной о своей поездке в Англию и о короле, своем брате.
Этот разговор был ей приятен, и она повеселела. Подали обед, она поела, как обычно; после обеда прилегла на подушки, как довольно часто делала, когда выпадала возможность. Меня она усадила рядом с собой, почти касаясь меня головой.
Тот же английский художник рисовал Месье; разговор шел обо всем на свете, и тут она задремала. Во время сна она так сильно изменилась, что, разглядывая ее, я удивилась и подумала, что, вероятно, все дело в уме, который красил внешность, делая ее столь привлекательной в бодрствовании и малопривлекательной во сне. Я была не права, ведь спящей я ее видела много раз, и при этом она оставалась не менее прелестной.
Когда она пробудилась и поднялась с места, то выглядела столь дурно, что даже Месье удивился и обратил на это мое внимание.
Затем она пошла в салон, где какое-то время прогуливалась с Буафранком, казначеем Месье;[330]330
Иоахим де Сеглие, сеньор де Буафранк и де Уэн, был суперинтендантом финансов герцога Орлеанского.
[Закрыть] беседуя с ним, она не раз жаловалась на боль в боку.
Месье спустился, чтобы, как ранее решил, отправиться в Париж. На лестнице он встретил госпожу де Мекленбург[331]331
Изабелла-Анжелика де Монморанси (см. сноску 23 на с. 265), в первом браке – герцогиня де Шатийон. Овдовев, она в 1664 г. вышла замуж за Кристиана-Людовика де Мекленбург-Шверин.
[Закрыть] и вместе с ней взошел обратно. Мадам оставила Буафранка и подошла к госпоже де Мекленбург. Пока они вели беседу, госпожа де Гамаш[332]332
Мари-Антуанетт, маркиза де Гамаш, урожденная де Ломени де Бриенн (1624–1704).
[Закрыть] принесла ей и мне по стакану воды с цикорием, которую она уже давно спрашивала; госпожа де Гурдон, [333]333
Елена де Гурдон сохранит эту должность и при второй супруге герцога Орлеанского.
[Закрыть] ее придворная дама, его подала. Она выпила и, ставя чашку на блюдце, другой рукой схватилась за бок и сказала голосом, в котором слышалось страдание: «Ах, как колет в боку, ах, какая боль! Я больше не могу». Произнося эти слова, она покраснела, а секунду спустя покрылась мертвенной бледностью, всех удивившей; она продолжала кричать, прося, чтобы ее унесли, как будто не имела сил держаться на ногах.
Мы взяли ее под руки; она шла с трудом, вся согнувшись. Ее мгновенно раздели, я ее поддерживала, пока ей распускали шнуровку. Она не переставала жаловаться, и я заметила у нее на глазах слезы. Это меня поразило и растрогало, ибо я знала, что она – один из самых терпеливых людей в мире.
Я сказала, целуя ей плечи и продолжая поддерживать, что она, видимо, сильно страдает, она ответила: «Немыслимо». Ее уложили в постель, но стоило ей там очутиться, она начала кричать еще больше и метаться из стороны в сторону, как человек, испытывавший бесконечные мучения. Тут побежали позвать врача Месье, господина Эспри;[334]334
Андре Эспри, врач герцога Орлеанского.
[Закрыть] он пришел и объявил, что это колика, и прописал обычные средства, которыми лечатся такие недуги. Меж тем боль была неописуемая, и Мадам сказала, что ее болезнь серьезней, чем все думают, что она умирает и чтобы ей позвали духовника.
Месье был у ее кровати, она его обняла и мягко, с видом, способным разжалобить самое варварское сердце, сказала: «Увы! Месье, вы меня давно не любите, но это несправедливо, я никогда вас не подводила». Месье казался сильно растроганным, а все в комнате были до такой степени тронуты, что повсюду были слышны лишь звуки, исторгаемые рыданиями.
Все мной рассказанное произошло менее чем за полчаса. Мадам не переставала кричать, что у нее ужасная боль в желудке. Вдруг она сказала, что нужно проверить выпитую ею воду, не было ли там яду, что, может быть, кто-то перепутал бутылки, что она была отравлена и ей необходимо противоядие.
Я была в алькове рядом с Месье, и, хотя и считала его совершенно неспособным на такое преступление, как всегда, пробуждение свойственной человеку злой воли заставило меня пристально за ним наблюдать. Он не был ни взволнован, ни смущен мнением Мадам, и сказал, чтобы этой воды дали отведать собаке, и вслед за Мадам предложил послать за маслом и противоядием, дабы лишить ее столь черных мыслей. Ее первая камеристка госпожа Деборд, совершенно ей преданная, сказала, что сама приготовила воду и попробовала ее, однако Мадам по-прежнему просила масла и противоядия; ей дали и то, и другое. Сент-Фуа, первый камердинер Месье, [335]335
Жак Тиволь де Сент-Фуа исполнял должность первого камердинера (всего их было четыре).
[Закрыть] принес ей змеиный порошок. Она сказала, что примет снадобье из его рук, поскольку доверяет ему; ей дали принять множество лекарств против яда, которые, вероятно, скорее были способны ей навредить, нежели помочь. Выпитое вызвало рвоту: у нее уже до того, как она что-либо приняла, были позывы, но рвоты оказалась недостаточно, вышло лишь немного флегмы и часть съеденной пищи. Брожение этих лекарств и крайние боли, которые она испытывала, привели ее в состояние изнеможения, казавшееся покоем; но она сказала, чтобы мы не обманывались, боли остались прежними, просто у нее более не было сил кричать, и что от ее недуга нет лекарства.
Казалось, она вполне уверилась в собственной смерти; она так решила, как будто речь шла о чем-то ей безразличном. По всей видимости, мысль о яде утвердилась в ее уме, и, видя бесполезность лекарств, она помышляла более не о жизни, а только о том, чтобы терпеливо сносить мучения. Она начала чувствовать стеснение в груди. Месье позвал госпожу де Гамаш пощупать ей пульс, доктора об этом не подумали. Госпожа де Гамаш отошла от постели в испуге, сказав нам, что не может найти пульс у Мадам и что у нее похолодели конечности. Нас это напугало; Месье, казалось, был в ужасе. Господин Эспри сказал, что это обычный результат колик и что он отвечает за жизнь Мадам. Месье разгневанно заметил ему, что он говорил то же самое о господине де Валуа и тот умер, [336]336
Речь идет о сыне Генриетты и Филиппа, Филиппе-Шарле, герцоге де Валуа (1664–1666).
[Закрыть] и отвечает он за это или нет, но Мадам может умереть.
В это время пришел кюре из Сен-Клу, которого она велела позвать. Месье оказал мне честь, спросив, следует ли ей говорить о необходимости исповедаться. Я нашла ее в очень дурном состоянии. Мне казалось, что эти боли не походили на обычные колики, но я совсем не предвидела то, что должно было произойти, а мысли, приходившие мне в голову, относила на счет своей привязанности к ней.
Я отвечала Месье, что исповедь перед лицом смерти может быть только полезна, и он приказал мне сказать ей о приходе кюре из Сен-Клу. Я попросила его избавить меня от этой обязанности и заметила, что, поскольку она за ним посылала, надо просто дать ему войти. Месье приблизился к кровати, и она снова сама попросила об исповеднике, но без всякого испуга, как человек, который думал только о вещах, необходимых в его положении.
Одна из камеристок была у изголовья, поддерживая ее; Мадам не захотела, чтобы та отошла, и исповедовалась в ее присутствии. Когда исповедник удалился, Месье приблизился к ее постели, и она что-то тихо ему сказала, что именно – не было слышно, но, как нам показалось, что-то нежное и приветливое.
Стали говорить о том, что следует ей пустить кровь, но она предпочла бы, чтобы открыли вену на ноге, а господин Эспри настаивал на том, что это должна быть рука. В конце концов его мнение взяло верх. Месье сообщил об этом Мадам, опасаясь, что ей будет тяжело на это решиться; но она ответила, что ей по сердцу все, чего хотят другие, что ей все безразлично и что она прекрасно понимает, что уже не поправится. Мы приняли эти слова за последствие острой боли, которую ей раньше не приходилось испытывать, из-за чего ей казалось, что она умирает.
Прошло не более трех часов с того момента, когда ей стало плохо. Ивлен, за которым отправили в Париж, прибыл вместе с господином Валло, за которым посылали в Версаль.[337]337
См. сноску 61 на с. 364.
[Закрыть] Стоило Мадам увидеть Ивлена, пользовавшегося ее доверием, как она сказала, что очень рада его видеть, что она была отравлена и чтобы он ее лечил соответственно. Не знаю, поверил ли он этому, но, то ли считая, что спасения нет, то ли думая, что она ошибается и ее недуг не страшен, он стал действовать как человек, который либо не имеет надежды, либо не видит опасности. Он проконсультировался с господином Валло и господином Эспри; после долгой беседы все трое подошли к Месье и заверили, что готовы поклясться собственной жизнью, что опасности нет. Месье передал это Мадам. Она ответила, что знает свой недуг лучше медиков и что от него нет исцеления, но произнесла это с таким спокойствием и даже мягкостью, как будто речь шла о чем-то безразличном.
Господин Принц[338]338
Напомним, что так именовали принца де Конде.
[Закрыть] пришел ее навестить, она сказала ему, что умирает. Все, кто было вокруг, стали возражать, говоря, что ее состояние не столь плохо. Но она выказывала некоторое нетерпение умереть, дабы освободиться от мучений. Тем не менее было похоже, что кровопускание помогло; все сочли, что ей лучше. Около половины десятого господин Валло отправился обратно в Версаль, а мы остались вокруг ее кровати, беседуя друг с другом, полагая ее вне опасности. Все были готовы примириться с перенесенными ею страданиями, надеясь, что ее состояние поспособствует примирению с Месье; он казался тронутым, и мы с госпожой д’Эпернон, слышавшие ее слова, с удовольствием указывали ему, сколь они ценны.
Господин Валло прописал клистир с александрийским листом; и даже ничего не смысля в медицине, мы рассудили, что ей не выйти из нынешнего состояния без опорожнения. Природа хотела пойти верхним путем, у нее постоянно случались позывы к рвоте, но ей ничего не давали, чтобы это осуществилось.
Господь ослепил врачей и не пожелал, чтобы они попробовали средства, способные хотя бы отдалить смерть, которую Он решил сделать ужасной. Услыхав, как мы говорили, что ей стало лучше и что мы с нетерпением ждем действия лекарства; «В этом так мало правды, – сказала она, – что не будь я христианкой, то покончила бы с собой из-за невыносимой боли. Никому не стоит желать зла, – добавила она, – но я хотела бы, чтобы кто-нибудь мог на миг ощутить, как мне больно, чтобы познать природу моих страданий».
Тем временем лекарство не возымело действия. Нас охватила тревога; были призваны господин Эспри и господин Ивлен, которые сказали, что надо еще подождать. Она ответила, что когда бы они испытывали ее страдания, то не ждали бы так спокойно. Два часа ушли на ожидание действия этого средства, – последние часы, когда ей еще можно было помочь. Она приняла много снадобий, постель была испорчена, ей захотелось, чтобы ее переменили и постелили рядом. Она смогла дойти сама, ее не пришлось нести, и даже обошла кровать кругом, чтобы не соприкасаться с испачканными местами. Когда она оказалась на этой небольшой постели, то ли она и вправду угасла, то ли ее стало лучше видно, ибо теперь свет от свечей попадал ей на лицо, но нам показалось, что ей намного хуже. Врачи хотели взглянуть на нее поближе и поднесли к ней факел – она велела их унести, когда ей стало плохо. Месье спросил, не причиняет ли ей это неудобства. «Нет, Месье, – отвечала она, – ничто более не приносит мне неудобства; вы увидите, к завтрашнему утру меня не будет». Ей дали бульона, ибо она ничего не ела с обеда. Стоило ей проглотить его, как боли удвоились и стали столь же сильными, как после воды с цикорием. Смерть появилась у нее на лице; было видно, что она мучительно страдает, но без малейшего движения.
Король многократно посылал узнать новости, и всякий раз она отвечала, что умирает. Те, кто ее видел, говорили ему, что она вправду очень плоха; а господин де Креки, [339]339
См. сноску 13 на с. 300.
[Закрыть] проезжавший через Сен-Клу по дороге в Версаль, сказал королю, что она в большой опасности; и король решил ее повидать и приехал в Сен-Клу около одиннадцати.
К моменту прибытия короля мучения Мадам удвоились из-за того, что ей дали бульону. Казалось, присутствие короля открыло глаза докторам. Он отвел их в сторону, чтобы узнать их мнение, и те же самые врачи, которые два часа назад отвечали за ее жизнь, которые считали, что похолодевшие конечности – результат колик, теперь сказали, что она безнадежна, что эти холодные члены и прерывистый пульс были признаком гангрены и что ее необходимо соборовать.
Королева и герцогиня де Суассон приехали с королем; госпожа де Лавальер и госпожа де Монтеспан – вместе. Я разговаривала с ними; Месье подозвал меня и, рыдая, сообщил мнение медиков. Я была удивлена и растрогана, как и подобает, и отвечала Месье, что врачи потеряли рассудок и не думают ни о ее жизни, ни о спасении души; что она лишь четверть часа беседовала с кюре Сен-Клу и что надо к ней кого-нибудь послать. Месье мне сказал, что послал за епископом Кондомским: я нашла, что нельзя выбрать лучше, но покамест стоит послать за каноником господином Фейе, [340]340
Никола Фейе (1622–1693), каноник Сен-Клу, известный оратор и теолог. Он также оставил рассказ о смерти Генриетты.
[Закрыть] чьи заслуги хорошо известны.
Тем временем король был подле Мадам; она сказала, что он теряет самую верную свою служанку. Он ей сказал, что опасность не столь велика, но что он поражен ее твердостью и находит в ней много величия. Она отвечала, что, как ему известно, она всегда страшилась не смерти, но утраты его расположения.
Потом король поговорил с ней о Боге; затем он вернулся туда, где были медики, и нашел меня в отчаянии от того, что они не давали ей никаких лекарств, в особенности рвотного; он оказал мне честь, сказав, что они совершенно потеряли головы и не знают, что делают, и что он попытается привести их в чувство. Он поговорил с ними и, приблизившись к постели Мадам, сказал, что, не будучи лекарем, он предложил им тридцать различных средств, но они отвечали, что следует подождать. Мадам отвечала, что умирать следует по всем правилам.
Король, по всем признакам видя, что надежды нет, рыдая, простился с ней. Она сказала, что умоляет его не плакать, ибо это может ее растрогать, и что завтра первой новостью, которую он узнает, будет весть о ее смерти. Маршал де Грамон[341]341
Антуан III де Грамон (1604–1678), отец графа де Гиша.
[Закрыть] подошел к ее постели. Она ему сказала, что он теряет доброго друга, что она умирает и что сперва ей казалось, что ее случайно отравили.
Когда король удалился, я была у ее постели, и она сказала: «Госпожа де Лафайет, у меня уже заострился нос». Ответом были мои слезы, потому что это была правда. Ее перенесли на большую постель. У нее началась икота. Она сказала господину Эспри, что это смертная икота. Она уже много раз спрашивала, когда умрет. Она спросила опять, и, хотя ей ответили как человеку, который еще далек от смерти, было видно, что никакой надежды у нее нет.
Она ни на мгновение не обращала свои мысли к жизни. Ни одной жалобы на жестокость судьбы, которая поразила ее в самом расцвете сил; ни одного вопроса врачам о вероятности спасения; никакого интереса к лекарствам, которые могли бы облегчить ее страдания; спокойный вид посреди полной уверенности в смерти; убеждение, что она была отравлена, и ужасные муки; наконец, не имеющая примера отвага, которую трудно изобразить.
Король уехал, и врачи объявили, что надежды нет. Пришел господин Фейе; он беседовал с Мадам с полной строгостью, но нашел ее в расположении, намного превосходившем его суровость. Она опасалась, были ли действительны ее прошлые исповеди, и попросила господина Фейе помочь ей совершить общую исповедь, что и сделала с большой набожностью и готовностью жить по-христиански, если Господь вернет ей здоровье.
После исповеди я подошла к ее постели. Рядом с ней был господин Фейе и капуцин, ее обычный исповедник.[342]342
Его звали Жан Хрисистом д’Амьен.
[Закрыть] Последний хотел с ней говорить и ударился в речи, которые ее утомляли: она смотрела на меня взглядом, в котором это читалось, затем, обернувшись к капуцину, сказала с восхитительной мягкостью, как бы боясь его обидеть: «Отец мой, пусть говорит господин Фейе, а вы скажете в свой черед».
В этот момент приехал английский посол.[343]343
Уильям Ральф Монтегю (1638–1708), посол во Франции с 1669 г.
[Закрыть] Как только она его увидела, она заговорила с ним о короле, своем брате, и о том, какую боль ему причинит ее смерть; об этом она уже много раз твердила в начале болезни. Она попросила передать ему, что он теряет человека, больше всех его любившего. Затем посол спросил, не была ли она отравлена; не знаю, что она ему ответила, но точно знаю, что она просила ничего об этом не говорить брату, дабы не причинять ему и этого страдания и дабы он не пожелал отомстить; что король здесь ни при чем, а потому не следует его в этом винить.
Все это она говорила по-английски, но так как слово «яд» одно и то же во французском и в английском, то господин Фейе, услышав его, прервал их беседу, сказав, что следует принести свою жизнь в жертву Господу и ни о чем другом не думать.
Ее причастили; затем, заметив, что Месье удалился, она спросила, можно ли ей еще его увидеть; за ним побежали, он пришел и обнял ее весь в слезах. Она попросила его уйти, говоря, что он ее слишком растрогал.
Меж тем она все таяла, время от времени у нее случались приступы слабости, воздействовавшие на сердце. Прибыл господин Брейе, прекрасный врач.[344]344
Никола Брейе (1606–1678).
[Закрыть] Сперва он не отчаивался и начал консультироваться с другими медиками. Мадам велела их позвать, они отвечали, что им надо немного посоветоваться, но она снова послала за ними, и они подошли к ее постели. Речь шла о том, чтобы пустить ей кровь из ноги. «Если вы собираетесь это делать, – сказала она, – то не теряйте времени: в голове у меня мешается, а желудок наполняется».
Они были поражены такой твердостью и, видя, что она хочет, чтобы ей пустили кровь, сделали это; однако кровь не пошла, и первое кровопускание дало совсем мало. Она думала, что умрет, пока ее нога была в воде. Врачи сказали, что надо принять лекарство, но она ответила, что сперва она хочет собороваться.
Ее соборовали, когда прибыл епископ Кондомский:[345]345
Боссюэ стал епископом Кондомским 10 сентября 1669 г.
[Закрыть] он заговорил с ней о Боге так, как требовало ее положение, с тем красноречием и духом веры, которые звучат во всех его речах; он побудил ее совершить акты, которые посчитал необходимыми. С восхитительным рвением и присутствием духа она вникала во все, что он говорил.
Пока он говорил, ее первая камеристка приблизилась, желая подать ей что-то нужное; она ей сказала по-английски, дабы епископ не понял, даже в смерти сохраняя дух вежества: «Когда я умру, отдайте епископу Кондомскому изумруд, который я для него приготовила».
Он продолжал ей говорить о Боге, но ее охватило желание поспать, которое было следствием упадка природных сил. Она спросила, можно ли ей несколько секунд передохнуть; он ей отвечал, что можно и что он пойдет молиться за нее Богу.
Господин Фейе остался у ее изголовья, и через секунду Мадам попросила его позвать епископа, она почувствовала, что кончается. Епископ приблизился и подал ей распятие, она взяла его и с жаром поцеловала. Он не прекращал говорить с ней, и она отвечала ему так же здраво, как если бы не была больна. Ее губы были прикованы к распятию, одна смерть могла вырвать его. Ее силы подходили к концу, она выпустила распятие и потеряла способность говорить почти одновременно с жизнью. Ее агония продолжалась секунду, и после нескольких конвульсивных движений губами она скончалась в два с половиной часа утра, через девять часов после появления первых признаков недомогания.
Жак-Бенинь Боссюэ
Надгробное слово Генриетте-Анне Английской, герцогине Орлеанской, произнесенное в Сен-Дени в двадцать первый день августа 1670 года
В 1670-х гг. Сент-Эвремон писал своему другу маршалу де Креки по поводу французской словесности:
…мы имеем сочинения оригинального рода, восхитительной красоты и писанные по-французски: таковы речи епископа Кондомского, произнесенные над гробом королевы Англии и после кончины Мадам, причем последняя даже превосходит первую тонкостью мыслей и красотой выражений.[346]346
Сент-Эвремон. Избранные беседы. С. 484.
[Закрыть]
Более полувека спустя ему вторил Вольтер, который в «Веке Людовика XIV» (1751) особо выделил жанр надгробных слов, отметив, что «в этом роде красноречия преуспели лишь французы».[347]347
Voltaire. Œuvres historiques / Texte prés. par R. Pomeau. Paris: Gallimard, 1957. P. 1006.
[Закрыть] Иначе говоря, хвалебные речи в честь умерших воспринимались как специфически национальная и современная разновидность ораторского искусства. Действительно, момент их расцвета приходился на XVI–XVII вв. и был обусловлен развитием католической Реформации. Как отмечают исследователи, изначально жанр обладал некоторым полемическим потенциалом, позволяя проповеднику напомнить пастве о том, какова должна быть жизнь праведника и какие поступки служат залогом небесного блаженства (и тем самым наглядно опровергнуть протестантскую доктрину предназначения).[348]348
Saulnier L.-V. L’oraison funèbre au XVIe siècle// Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance. 1948. № 10. P. 124–157.
[Закрыть] После убийства Генриха IV надгробные слова получили широкое распространение, став непременной частью погребального ритуала особ королевской крови и представителей знатнейших домов. Это во многом предопределило структуру жанра: светский статус его героев позволял проповеднику касаться вопросов политики и общественной морали, тогда как основным предметом для рассуждений оставались их христианские добродетели.
В «Надгробном слове Генриетте-Анне Английской» мы видим аналогичное сопряжение мирской и духовной перспективы. Речь Боссюэ разбита на три части: во вступительной он излагает свой основной тезис (в человеке все суетно, если посмотреть на итог его земного существования; и все исполнено величия, если вспомнить о том, что он приносит Богу; жизнь Генриетты Английской служит нам примером человеческого ничтожества и человеческого величия), затем последовательно разбирает обе его составляющие. Такое разделение позволяет проповеднику выстроить две версии биографии Мадам, одна из которых имеет трагическое звучание (ни молодость, ни высокое рождение и разнообразные таланты не могли уберечь Генриетту от преждевременной кончины), другая же исполнена христианского героизма (доблесть и добродетели Мадам спасли ее от подлинной погибели). По сути, Боссюэ здесь намечает контуры своей исторической философии, затем изложенной в «Речи о всеобщей истории», работать над которой он начал как раз в 1670 г. (за год до этого король попросил его стать наставником дофина, поэтому «Речь», как и целый ряд других сочинений, была задумана Боссюэ в качестве учебного пособия). И история человечества в целом, и жизнь каждого человека в частности являются воплощением Божественного замысла и могут быть поняты только исходя из этой логики. Ужасная смерть молодой женщины трагична, если считать ее случайной; но на самом деле она исполнена глубокого смысла. Кончина Мадам превращает всю ее биографию в «exemplum» – назидательный пример, наглядно иллюстрирующий общий принцип (вот один из них: лучше умереть молодым, еще не погрязнув в грехе). Подобные примеры часто использовались проповедниками для более понятного изложения догматов. Однако у Боссюэ речь идет не о том, что смерть Мадам может служить в качестве «exemplum», а о том, что Провидение задумало ее как «exemplum». Иными словами, это драматическое происшествие – часть Божественной проповеди, обращенной к миру самим Господом (еще раз вспомним признание Понти о том, что смерть друга была воспринята им как послание, адресованное ему Господом).
Когда Боссюэ произносил «Надгробное слово Генриетте-Анне Английской», он уже обладал заслуженной славой одного из лучших проповедников. Его духовное поприще началось в Меце, более половины жителей которого были приверженцами протестантской церкви, что побудило молодого прелата с особым рвением оттачивать владение словом. С 1659 г. он проповедовал в Париже и при дворе, пользуясь поддержкой Анны Австрийской и святого Венсана де Поля. О его способности тронуть и взволновать аудиторию писали все современники. Позже Лабрюйер замечал, что Боссюэ и другой известный проповедник, иезуит Луи Бурдалу, породили толпу бездарных подражателей и, подняв церковное красноречие до уровня искусства, ослабили его духовное воздействие: «Христианская проповедь превратилась ныне в спектакль».[349]349
Лабрюйер Ж. де. Характеры… С. 422 – 433 (цит. на с. 422).
[Закрыть] Нет сомнения, что Боссюэ, Бурдалу, Флешье и целый ряд их собратьев говорили с образованной частью своей паствы на наиболее привлекательном и понятном для нее языке. Как можно видеть по «Надгробному слову Генриетте-Анне Английской», он был практически свободен от богословских терминов. Это тот же язык, на котором (за вычетом библейских цитат и ссылок на отцов церкви) говорили и светские моралисты. Его использование позволяло проповедникам удерживать внимание аудитории, чья языковая чувствительность была намного выше современной. Но, говоря о проповеди как о спектакле, Лабрюйер имел в виду не только это. В отличие от кабинетного богослова, проповедник воздействовал на слушателей силой и обаянием личности: «Как велико преимущество живого слова перед писаным! Люди поддаются очарованию жеста, голоса, всей окружающей их обстановки».[350]350
Там же. С. 431.
[Закрыть] По мнению моралиста, в таком магнетическом воздействии – которым в высшей степени был наделен Боссюэ, – скрывался элемент шарлатанства. Однако это вряд ли справедливо по отношению к автору «Надгробного слова Генриетте-Анне Английской». Его речи даже в напечатанном виде оказывали сильнейшее влияние на современников. По признанию Сент-Эвремона, «в них есть особый дух, и потому их автор, даже если он лично нам не известен, восхищает не менее, чем прочитанное сочинение. Все его речи несут отпечаток характера, и, никогда с ним не встречавшись, я легко перехожу от восхищения его проповедью к восхищению им самим».[351]351
Сент-Эвремон Ш. де. Избранные беседы. С. 484.
[Закрыть] Иными словами, если на лицедействующих проповедников паства смотрела, не слишком обращая внимание на их слова, то с Боссюэ происходило обратное: его живой голос звучал даже сквозь письменный текст.
«Надгробное слово Генриетте-Анне Английской» было опубликовано в Париже в 1670 г., и несколько раз перепечатывалось с более ранним «Надгробным словом Генриетте-Марии Французской».
Надгробное слово Генриетте-Анне Английской, герцогине Орлеанской, произнесенное в Сен-Дени в двадцать первый день августа 1670 года[352]352
Перевод выполнен по изданию: Bossuet. Œuvres / Textes etablis par lʼabbe Velat et Y. Champailer. Paris: Gallimard, 1961. P. 83–105.
[Закрыть]
Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes; vanitas vanitatum, et omnia vanitas.
Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – все суета!
(Еккл., 1:2).
Монсеньор, [353]353
Боссюэ обращается к Конде, который официально представлял королевское семейство. На церемонии инкогнито присутствовала королева.
[Закрыть]
Итак, мне выпал жребий отдать сей погребальный долг величайшей и могущественнейшей принцессе Генриетте-Анне Английской, герцогине Орлеанской. Ей, столь прилежно внимавшей, когда я отдавал этот долг королеве, ее матери, [354]354
Генриетта-Мария Французская скончалась 13 августа 1669 г., надгробное слово ей Боссюэ произнес в монастыре Шайо 19 ноября 1669 г.
[Закрыть] вскоре предстояло стать предметом похожей речи; и на сие прискорбное служение назначен мой печальный глас. О суета! О ничтожество! О смертные, своей судьбы не ведающие! Думала ли она об этом десять месяцев назад? А вы, господа, предполагали ли вы, когда она проливала здесь слезы, что вскоре соберетесь, дабы оплакивать ее? Принцесса, достойный предмет восхищения двух великих королевств, разве Англия не довольно оплакивала ваше отсутствие, чтобы теперь быть вынужденной лить слезы о вашей кончине? А Франция, с такой радостью узревшая вас в сиянии нового блеска, разве не сулила вам иных торжеств и триумфов, когда вы возвратились из достославного путешествия, принесшего вам столько славы и прекрасных надежд? «Суета сует, – все суета». Это единственное слово, мне остающееся, единственное рассуждение, в столь поразительном происшествии дозволенное горем праведным и чувствительным. Поэтому я не перелистывал священные книги в поисках текста, который бы подходил к принцессе. Без исследования и поиска я взял первые слова, предлагаемые Екклесиастом, в которых говорится о суете, хотя, в моих глазах, недостаточно. В одном несчастье я хочу оплакать все злоключения рода человеческого, в одной смерти заставить увидеть гибель и ничтожество всего человеческого величия. Этот текст, пригодный для всех сословий и для всех дел нашей жизни, особо подходит к моему плачевному предмету: никогда земные суеты не бывали столь зримо явлены и столь громко изобличены. Нет, после увиденного нами здоровье – пустой звук, жизнь – не более чем сон, слава – видимость, а милости и удовольствия – опасные развлечения; все в нас суетно, за исключением искренней исповеди перед Господом в своей суетности и решения презирать свою сущность.
Но истинно ли я говорю? Неужто человек, созданный Господом по собственному подобию, – не более чем тень? Неужто то, что искал Иисус Христос, сойдя с небес на землю, и что считал возможным, не запятнав себя, искупить ценой собственной крови, – ничто? Признаемся в заблуждении. Без сомнения, печальное зрелище человеческой суетности сбило нас с пути, а надежды, внезапно оборванные кончиной принцессы, толкнули на крайности. Не следует дозволять человеку презирать себя целиком, из страха, что вместе с безбожниками он посчитает жизнь всего лишь игрой, где царствует случай, и, без разбора и без проводника, пустится вслед за слепыми желаниями. Именно потому Екклесиаст, начав свой божественный труд с процитированных мной слов и испещрив каждую страницу презрением к вещам человеческим, желает указать людям на нечто более надежное и заключает свою речь такими словами: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Еккл., 12:13–14). Так, в человеке все суетно, если взглянуть на то, что он дает миру; но, напротив, все важно, если мы задумаемся над его долгом Богу. Скажем еще: в человеке все суетно, если взглянуть на ход его земной жизни, но все ценно, все важно, если мы поразмыслим над пределом, к которому она ведет, и отчетом, который там предстоит дать. Подумаем сегодня, глядя на сей алтарь и на сию гробницу, над первыми и последними словами Екклесиаста, одно из которых показывает ничтожество человека, а другое возвещает о его величии. Пусть гробница сия убеждает нас в нашем ничтожестве, но пусть сей алтарь, на котором за нас всякий день свершается столь драгоценная жертва, научит нас нашему достоинству. Оплакиваемая нами принцесса будет верным подтверждением и того, и другого. Взглянем же на то, что похитила у нее внезапная кончина, взглянем на то, что принесла ей святая смерть. И мы научимся презирать то, что она без труда оставила, чтобы почтительно приникнуть к тому, что она приняла с таким пылом, когда ее душа, очищенная от всех земных чувств и полная небес, к которым уже прикасалась, узрела свет. Вот истины, о которых я намереваюсь рассуждать, показавшиеся мне достойными быть предложенными столь великому принцу и этому блистательнейшему в мире собранию.