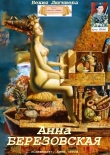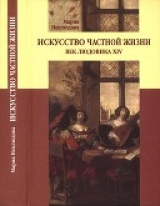
Текст книги "Искусство частной жизни. Век Людовика XIV"
Автор книги: Мария Неклюдова
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
В воскресенье у королевы я болтала с госпожой де Ножан; я с ней говорила часто и держала речи о вещах, связанных с ее братом, так что она не могла не догадываться о моих намерениях. Я ей много раз твердила, что у меня на уме одно дело, доставляющее мне немало беспокойства; что я недовольна своим положением и хочу его поменять. В тот день я сказала: «Вы будете удивлены, вскоре увидев меня замужем! Завтра я хочу испросить у короля дозволения, и все будет кончено в двадцать четыре часа». Она слушала меня с большим вниманием; я сказала: «Вы, наверно, гадаете, за кого я выйду; буду рада, если вы догадаетесь». Она мне сказала: «Без сомнения, за господина де Лонгвиля?» Я ответила: «Нет, за человека знатного и бесконечно достойного, который мне давно по сердцу. Я хотела дать ему понять мои намерения; он о них догадался, но из почтительности не решается о том сказать». Я ей сказала: «Посмотрите на тех, кто здесь есть, и поочередно назовите их; я вам скажу „да“, когда вы его назовете». Она так и сделала и перечислила мне всю знать, которая была при дворе, я же все время твердила «нет»; так продолжалось час, затем я внезапно сказала: «Вы теряете время, он в Париже и должен возвратиться нынче вечером». Сказав это, я на секунду спустилась в свои комнаты, где был господин де Лонгвиль, который очень хотел со мной поговорить. С тех пор как пошел слух, что я должна за него выйти, он усердно за мной ухаживал. Мне сказали, что королева выходит; он проводил меня до карет; я спешила, чтобы не заставлять королеву ждать. Граф д’Эйен сказал мне: «Мадам при смерти! Король приказал мне найти господина Вало[312]312
Антуан Валло (1594–1671), с 1652 г. – первый медик Людовика XIV.
[Закрыть] и спешно доставить его в Сен-Клу». Когда я поднялась в карету, королева молвила: «Мадам кончается и, что самое неприятное, считает себя отравленной». Я вскрикнула от удивления и сказала: «Какой ужас! Этот слух приводит меня в отчаяние!» И не думая, что говорю (род наш отличается добротой), я спросила, как это случилось. Она ответила, что Мадам была в салоне Сен-Клу в самом добром здравии; она попросила цикориевой воды, аптекарь принес, она выпила стакан и принялась кричать, что у нее в желудке огонь; она кричала не переставая, поэтому оповестили короля и послали за господином Вало. Королева принялась ее жалеть, немного поговорила о ее горестях, причиной которых был Месье, и о том, что она была вся в слезах, когда в последний раз уезжала [из Сен-Жермена], словно предвидя свою болезнь. Тут вернулся дворянин, которого королева послала в Сен-Клу; Мадам через него передала, что умирает и что если королева хочет застать ее живой, то она смиренно просит приехать поскорей; если помедлить, то она уже будет мертва. Мы были в аллее у канала, поэтому сели в карету и отправились к королю, который в то время обедал, ибо принимал воды. Маршал де Бельфон[313]313
Маршал де Бельфон (см. сноску 32 на с. 246), один из предводителей «партии благочестивых», опиравшихся на королеву. После смерти Мадам он был отправлен в Англию, чтобы рассказать Карлу II о смерти сестры.
[Закрыть] сказал королеве, что ей лучше не ездить; она была в нерешительности, я попросила у нее разрешения немедленно туда отправиться. Она заупрямилась, но тут вошел король и сказал: «Если вы хотите ехать, то вот моя карета». С нами села еще графиня де Суассон.[314]314
Олимпия Манчини, графиня де Суассон (1638–1708), племянница кардинала Мазарини, супруга Евгения-Морица Савойского, принца де Кариньян (1636–1674), для которого Людовик восстановил титул графа де Суассон.
[Закрыть] На половине дороге мы встретили господина Вало; он сказал королю, что это колика и что болезнь не будет ни долгой, ни опасной. Когда мы приехали в Сен-Клу, то не нашли ни одного человека, который казался бы расстроенным; Месье выглядел сильно удивленным. Мы застали ее на небольшом ложе, устроенном в алькове, с растрепанными волосами, ибо страдания не давали перерыва, чтобы причесать ее на ночь, в распущенной на шее и на руках рубашке, с бледностью на лице и заострившимся носом, она была похожа на мертвеца. Она сказала: «Вы видите, в каком я состоянии». Мы заплакали. Тут прибыли госпожа де Монтеспан и де Лавальер. Она делала ужасные усилия, дабы вызвать рвоту. Месье говорил: «Мадам, постарайтесь, чтобы вас вырвало, иначе желчь вас задушит». С болью видела она всеобщее спокойствие, хотя ее состояние должно было вызывать живое сочувствие. Несколько минут она о чем-то тихо говорила с королем. Я подошла к ней и взяла за руку; она сжала мою и сказала: «Вы теряете доброго друга, который начал вас крепко любить и узнавать». Ответом ей были мои слезы. Она просила рвотного; врачи сказали, что не нужно, ибо такого рода колики порой длятся девять-десять часов, но никогда не более двадцати четырех. Король пытался добиться от них толку, но они не знали, что ему отвечать. Он им сказал: «Никогда еще женщину не оставляли умирать так, не пытаясь оказать ей никакой помощи». Они переглянулись и не вымолвили ни слова. Вокруг в комнате люди болтали, приходили и уходили, смеялись, как будто Мадам не была в таком состоянии. Я отошла в угол побеседовать с госпожой д’Эпернон, которая была тронута этим зрелищем. Я ей сказала, что меня удивляет, почему с Мадам не говорят о Боге, и что всем нам, находящимся здесь, должно быть стыдно. Она ответила, что та пожелала исповедоваться, пришел кюре Сен-Клу – человек, которого она совсем не знала, и она исповедовалась за минуту. Подошел Месье, я ему сказала: «Надо подумать о том, что Мадам может умереть, с ней надо говорить о Боге». Он мне ответил, что я права, но что ее исповедник – капуцин, годящийся лишь на то, чтобы сопровождать ее в карете, чтобы публика видела, что у нее есть исповедник; и что для того, чтобы говорить ей о Боге, нужен кто-то другой. «Кого бы найти, кого потом было бы не стыдно упомянуть в газете, как человека, бывшего рядом с Мадам?» Я ему ответила, что в такое время самым нестыдным исповедником должен быть человек достойный и сведущий. Он сказал: «Есть: аббат Боссюэ, получивший епископство Кондомское. Мадам порой беседовала с ним, так что решено». Он отправился предложить его королю, который отвечал, что надо было позаботиться обо всем раньше и что ей следовало уже быть соборованной. Месье сказал: «Я жду, когда вы уедете, ибо если это будет в вашем присутствии, то придется сопровождать Господа Нашего до храма, а это очень неблизко». Мадам переложили на кровать; король обнял ее и попрощался. Она сказала очень нежные слова ему и королеве. Я была у изножия ее постели вся в слезах и не имела сил к ней подойти. Мы вернулись в Версаль, и королева отужинала. Господин де Лозен прибыл, когда вставали из-за стола; я подошла к нему и сказала: «Вот несчастное происшествие, из-за которого я в замешательстве». Он ответил: «Я в этом уверен и полагаю, что оно разрушит все ваши планы». Я отвечала, что их осуществление может быть отложено, но что бы ни случилось, своих намерений я не изменю. Я пошла спать; королева сказала мне, что завтра поедет в Париж, а по дороге мы повидаем Мадам. Но та скончалась в три часа, о чем королю сообщили в шесть; он решил отказаться от вод и принять лекарство. Мне пришли сказать о смерти Мадам, которая была для меня чувствительным горем; я не спала всю ночь, размышляя, что если она умрет и Месье решит на мне жениться, то это окажется для меня большим затруднением, но что бы ни случилось, я не переменю принятого решения; для разрыва с Месье потребуется некоторое время, а затем придется еще подождать, перед тем как объявить о моих намерениях: когда я представляла, как долго это будет тянуться, то чувствовала отчаяние. Я была в этой неопределенности, когда мне сообщили о кончине Мадам; это удвоило мою боль, и, взволнованная, я отправилась к королеве, которая мне сказала: «Я иду на мессу к королю». Мы нашли его в халате; он сказал: «Я не решаюсь показаться перед кузиной». Я сказала: «Господину и двоюродному брату не стоит так церемониться». Он оплакивал Мадам. После мессы он говорил со мной о смерти; затем подошел к окну принять лекарство и сказал мне: «Смотрите, я разделался со всеми церемониями, которые вы устраиваете, когда вам нужно принять лекарство». Монсеньор Кондомский приехал известить королеву, как умерла Мадам. Он нам рассказал, что Господь послал ей не одну благодать и умерла она с самыми христианскими чувствами, что его совсем не удивило, ибо с некоторых пор она беседовала с ним о спасении и даже приказала ему приходить к ней беседовать об этом в те часы, когда у нее никого не было; что она хотела изведать глубины своей религии, которые до тех пор оставались ей неизвестны, и так она хотела начать дело спасения; что он нашел ее в хорошем расположении мыслей, что она ему сказала: «Я слишком поздно задумалась о спасении», – и что у него есть все основания быть довольным тем чувством раскаяния, с которым она скончалась.
Когда король отобедал и оделся, он пришел к королеве поплакать. Он мне сказал: «Кузина, идите со мной, мы поговорим, что должно быть сделано для покойной Мадам, перед тем как я отдам приказ Сенто», [315]315
Никола де Вемар де Сенто был помощником главного церемониймейстера.
[Закрыть] – который был здесь же, в алькове королевы. После того как мы побеседовали о том, что следует сделать, и я дала свои советы, он сказал: «Кузина, вот освободилось место: не хотите ли его заполнить?» Я побледнела как смерть и отвечала дрожа: «Вы господин; у меня нет воли, кроме вашей». Он понуждал меня высказаться, но я лишь твердила, что не дам другого ответа. Он сказал: «Испытываете ли вы к этому отвращение?» Я ничего не ответила. Он сказал: «Я подумаю об этом и еще с вами поговорю». Королева пошла на прогулку, я последовала за ней. Все говорили только о смерти Мадам, о ее подозрении, что она была отравлена, и о том, как последнее время они жили с Месье. Все переговаривались, что он, наверно, женится снова; и многие поглядывали при этом на меня, но я делала вид, что не замечаю. Из-за слухов об отравлении пришлось собрать медиков короля, покойной Мадам и Месье, нескольких парижских врачей, лекаря английского посла и самых умелых хирургов, которые вскрыли Мадам. Они нашли все благородные органы совершенно нетронутыми, что всех удивило, ибо она была хрупкого здоровья и почти все время болела; они согласились, что умерла она от разлития желчи. Тут же присутствовал английский посол; они ему показали, что ее могла убить только колика, которую они назвали «cholera-morbus». Вот что нам рассказали у королевы; каждый по очереди расспрашивал врачей, которые давали ответы. Английский медик все же написал обо всем так, что это крайне не понравилось Месье, и того отослали обратно на родину. Король Англии протестовал, ибо полагал, что Мадам была отравлена; все эти глупые слухи причиняли мне немалые страдания. Как-то вечером у королевы я увидела господина де Лозена и сказала ему: «Я очень горюю о смерти Мадам и, уверяю вас, сожалею о ней тем больше, что, как мне известно, вы были с ней дружны». Он отвечал: «Никто столько не потерял, как я». Я отозвалась: «Что до меня, я сожалею о ней и поэтому, и потому, что я ее любила; но более всего меня огорчает, что эта смерть откладывает исполнение моего замысла, хотя и не меняет его; я хочу следовать своим склонностям и не отступлю от принятого решения, о котором вам говорила». Он сказал: «На это у меня нет ответа и нет времени, чтобы оставаться здесь с вами». И удалился. Я видела, что он придерживается такого поведения из духа мудрости, который, как мне казалось, сказывался во всех его действиях.
Глава шестая
Смерть Мадам

В предрассветные часы 30 июня 1670 г. в замке Сен-Клу скончалась Генриетта-Анна Английская (1644–1670), в замужестве герцогиня Орлеанская. Ей только что исполнилось двадцать шесть лет, но современников потрясло не это – XVII в. был привычен к ранним смертям, – а внезапность и быстрый прогресс болезни. Как видно из отчета госпожи де Лафайет и из «Мемуаров» мадмуазель де Монпансье, по Парижу сразу поползли слухи об отравлении, тем более что сама Генриетта была уверена, что ей в питье подсыпали яд. Подозрения падали на ее мужа, Филиппа, и на его фаворита, шевалье Лотарингского, недавно изгнанного по просьбе Мадам. Насколько можно судить, подозрения отнюдь не беспочвенные. Яды были в ходу, хотя считались скорее итальянским способом решения политических и семейных проблем. Не случайно мадмуазель де Монпансье, рассуждая о собственном характере, вспоминала, что ее бабка, Мария Медичи (которая, не стоит забывать, приходилась бабкой и Филиппу, и Генриетте), происходила из рода отравителей. А Сен-Симон, безоговорочно веривший в то, что Мадам была отравлена, передавал, что убивший ее яд был прислан из Рима.[316]316
См.: Сен-Симон. Мемуары. Т. I. С. 156.
[Закрыть] В пользу теории отравления свидетельствует и так называемое «дело о ядах», развернувшееся через несколько лет после смерти Мадам. В 1676 г. в Нидерландах была арестована и препровождена во Францию маркиза де Бринвильер, как раз в 1670 г. обвиненная в отравлении отца и брата. Дальнейшее расследование выявило существование целой сети хироманток, колдуний и алхимиков, торговавших ядами. Самой известной из них была повивальная бабка по имени Вуазен, помимо абортов промышлявшая различными средствами ускорить получение наследства. Ее публично сожгли в 1680 г., еще одну хиромантку повесили, маркизе де Бринвильер отрубили голову, однако Людовик почел за лучшее на том остановиться, поскольку в «дело о ядах» оказалась замешана его фаворитка, госпожа де Монтеспан, и целый ряд знатных дам – графиня де Суассон, маршальша де Ла Ферте и многие другие.
Иными словами, в 1670-е гг. отравления если и не были повседневной реальностью, то мысль о них витала в воздухе. Тем не менее Мадам, по-видимому, убил не яд, а аппендицит или какое-то кишечное воспаление. После нескольких беременностей и выкидышей, которые ей пришлось пережить за девять лет замужества, ее и без того хрупкое здоровье было сильно подорвано. Помимо физических тягот на нем не могли не сказываться и душевные волнения. О том, насколько плохи были ее отношения с Филиппом, можно судить по «Мемуарам» мадмуазель де Монпансье. Их бесконечные ссоры не раз требовали прямого вмешательства Людовика, который был склонен принимать сторону Генриетты. Не стоит забывать, что все трое были знакомы с детских лет: Генриетта выросла при французском дворе. Ее мать, Генриетта-Мария Французская, была сестрой Людовика XIII и после пленения ее супруга, Карла I, нашла приют на родине. Кандидатура Генриетты-Анны фигурировала в списке возможных партий, подыскивавшихся для Людовика XIV его матерью и кардиналом Мазарини, однако союз со Стюартами сулил мало политических выгод: английский королевский дом и так был в долгу у французского. Летом 1660 г. Людовик женился на другой своей кузине, испанской инфанте Марии-Терезии. Той же осенью в Англии была восстановлена монархия, и Генриетта-Мария вместе с дочерью вернулась в свои владения. Однако весной 1661 г. они вновь приехали во Францию, на сей раз ради свадьбы Генриетты-Анны с Филиппом.
Судя по некоторым свидетельствам, в первые годы брака Людовик сожалел, что женился не на той кузине. Мария-Терезия не могла привыкнуть и приспособиться к французским обычаям, почти не говорила по-французски и предпочитала проводить время в своих покоях. Все эти трудности были неведомы Генриетте-Анне, которая к тому же отличалась живым и веселым нравом, любила праздники и удовольствия и в придворных развлечениях составляла общество Людовику, который, безусловно, испытывал к ней слабость. Поддержка короля, с одной стороны, помогала Генриетте в ее бесконечных ссорах с мужем, с другой – лишь усугубляла их. Куда более образованный и светский, нежели старший брат, Филипп славился подозрительностью и раздражительностью нрава. Как единодушно свидетельствуют современники, его воля была порабощена фаворитом, шевалье Лотарингским, который, как пишет Сен-Симон, «вертел Месье до конца жизни как хотел».[317]317
См.: Сен-Симон. Мемуары. С. 140.
[Закрыть] Шевалье же был заинтересован в том, чтобы между супругами царил раздор. Кроме того, Филипп, по-видимому, не только и не столько ревновал жену к королю, сколько короля к жене. Генриетта стояла между ним и братом, отношения с которым имели первостепенную важность для Месье. Не случайно, что его отношения со второй женой, Шарлоттой Елизаветой Баварской, не пользовавшейся ни малейшей симпатией Людовика, оказались гораздо лучше и ровнее, хотя ей тоже пришлось страдать от притеснений шевалье Лотарингского.
Но придворные интриги и семейные неурядицы, которые могли послужить причиной смерти Мадам, в глазах современников представляли второстепенный сюжет по сравнению с тем, как она умирала. Культура XVII в. еще не избавилась от повышенного любопытства к последним минутам жизни человека. Хотя, как отмечал Филипп Арьес, именно в эту эпоху формировался комплекс новых представлений о «благой смерти»: «Смерть в новой модели – смерть праведника, который мало думает о собственной физической смерти, когда она наступает, но зато думает о ней всю предшествующую жизнь».[318]318
Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / Пер. с фр. В. К. Ронина. М.: Изд. группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. С. 269.
[Закрыть] Более традиционная модель, придававшая повышенное значение предсмертному покаянию, способному искупить все грехи неправедной жизни, начала восприниматься как слишком формализованная (покаяния, конечно, никто не отменял, но оно не должно было быть разовым). В переносе акцента с момента смерти на постоянные мысли о неизбежности кончины важную роль сыграли так называемые руководства по искусству смерти, ars moriendi, получившие широкое распространение после Тридентского собора. Первое сочинение с таким названием появилось незадолго до изобретения печатного станка. Оно было разбито на несколько частей, в которых давались советы, как освоить искусство смерти; рассказывалось об искушениях, подстерегавших умирающих; перечислялись вопросы, которые им должны задаваться, и молитвы, которые следовало произносить; а также предписывалось, какого поведения следовало придерживаться окружающим и какие молитвы им нужно было читать. Непременными условиями «благой смерти» считались сознание близкого конца, достаточный запас времени для принятия последнего причастия и присутствие рядом с постелью умирающего священников, родных и близких.[319]319
Об этом см.: Chartier R. Lectures et Lecteurs dans la France d'Ancien Régime. Paris: Éditions du Seuil, 1987. P. 125–164.
[Закрыть]
Все рассказы о смерти Мадам несут на себе отпечаток ars moriendi. По всей видимости, не только потому, что подобные руководства давали определенную модель восприятия чужой смерти и рассуждения о ней. Благодаря им сама Мадам прекрасно представляла, как ей следовало себя вести. Заметим, что в этом (если верить госпоже де Лафайет) она проявила больше проницательности, нежели ее окружение. Тогда как все вокруг считали болезнь неопасной, она избрала другую линию поведения, сразу решив, что умирает. Все ее последующие жесты соответствовали этому «сценарию»: равнодушие к покидаемому миру, пренебрежение физическими страданиями, желание исповедаться и причаститься, прощание с близкими, потребность в духовной поддержке, оказываемой умирающим людьми церкви. Как отмечали и госпожа де Лафайет, и Боссюэ, Генриетта умирала по всем правилам и этим дополнительно вызвала восхищение современников.
Как подобало особе королевской крови и супруге брата короля, Генриетта умирала при большом скоплении свидетелей. Помимо ars moriendi ее поведение и поведение окружающих регулировалось и этикетом. Если сравнить описание ее смерти с изобилующими у Сен-Симона повествованиями о кончинах других членов королевского дома, то можно заметить как значительные совпадения, так и целый ряд отличий. К первым относится порядок прощания: король всегда приезжал проститься с умирающим родичем, но удалялся, когда становилось понятно, что конец совсем близок (таков был обычай: ему не позволялось находиться под одной крышей с покойником). Обычно отъезд короля служил знаком ко всеобщему бегству, и умирающий оставался на попечении духовенства и слуг. Однако в случае Генриетты этого, по всей видимости, не произошло. Тут могла сыграть роль общая растерянность: мало кто до конца верил, что Мадам все-таки умрет. Поэтому ее смерть в большей мере оказалась зрелищем, нежели кончина ее супруга (умершего в шестьдесят один год) или даже короля (который нескольких дней не дожил до семидесяти семи лет).
Этот зрелищный аспект делал смерть Мадам идеальным примером для назидания. Как подчеркивал в своем надгробном слове Боссюэ, кончина особы ее ранга была своеобразным посланием, адресованным окружающим. Она побуждала их подумать о собственной смерти, в свою очередь оборачиваясь одним из инструментов ars moriendi. О том, до какой степени это был естественный ход мысли, свидетельствуют мемуары Луи де Понти, одного из «отшельников Пор-Рояля», записанные с его слов другим «отшельником», Дю Фоссе. Однажды Понти гостил у друзей; побеседовав с хозяином дома, он вышел из комнаты, чтобы не мешать тому закончить письмо.
Спустившись вниз, я встретил мальчишку-лакея и послал его в комнату господина, который мог иметь в нем нужду. Мальчишка взбежал наверх и, войдя в комнату, нашел его лежащим на спине на полу, рядом с огнем, со скрещенными на груди руками, совершенно бездыханным, как будто он умер сутки назад. Столь неожиданное зрелище страшно его напугало, и вместо того, чтобы войти в комнату, он бросился ко мне, совершенно вне себя, твердя:
– Сударь, мой господин умер, идите, идите скорее!
– Что ты говоришь! – воскликнул я. – Как умер?
Я со всех ног побежал и, войдя в комнату, обнаружил тело, лежащее, как уже было сказано, около огня.
– Боже мой, – сказал я тогда, – что же это такое?
Весть молнией облетела дом, и сбежались все домочадцы, рыдая, восклицая, почти вне себя из-за столь нежданной беды <…>.
Можно себе вообразить, какое смятение царило в доме. Все метались как безумные. Несли одно лекарство за другим, подкрепляющие составы и всевозможные целебные снадобья. Согрели полотенца и положили ему на грудь, надеясь привести его в сознание, как будто речь шла о преходящем недуге. Но все было бесполезно, он лежал как пень и был мертвее мертвого.
Тут его жена, от которой нельзя было утаить положение вещей, прибежала вся вне себя и хотела войти в комнату, где был мертвец. Но я бросился к ней навстречу, взял на руки и отнес в спальню, где положил на постель и сказал:
– Ваше место здесь, сударыня, а там вам делать нечего. Молите Господа о его душе: сейчас ему более всего необходимы ваши молитвы <…>.
Столь удивительная кончина произвела на меня необычное впечатление и заставила на досуге всерьез задуматься о ненадежности этой жизни и о непостоянстве всего земного. Часто я говорил самому себе:
– Как! Еще четверть часа назад этот человек прекрасно себя чувствовал, и вдруг он мертв. И я могу так же мгновенно умереть, как он. Сейчас я жив, но буду ли жив через четверть часа? И что тогда с тобой будет, несчастный? Что будет с тем, каков ты сейчас? Время начать серьезно об этом размышлять. Ведь может быть, что через эту смерть Господь говорит с тобой.[320]320
Mémoires de Monsieur de Pontis, qui a servi dans les armées cinquante-six ans, sous les rois Henri IV, Louis XIII, Louis XIV / Préf. par R. Laulan. Paris: Mercure de France, 1986. P.314-316.
[Закрыть]
Результатом этих раздумий стало решение удалиться от мира и заняться духовной подготовкой к встрече с Творцом: так Понти очутился в числе «отшельников» Пор-Рояля.
Иными словами, если заданное Тридентским собором направление духовной реформы лишало предсмертные ритуалы былой значимости, подчеркивая важность поведения человека в течение всей жизни, то это отнюдь не отменяло показательного характера самого события. Умирающий знал, что в духовном отношении значение имеет не то, как он умирает, а то, как он жил, однако на окружающих влияли именно обстоятельства смерти. Это расхождение внутренней и внешней точки зрения фиксировал не слишком ортодоксальный в своих взглядах Сент-Эвремон:
С точки зрения здравого смысла обстоятельства смерти касаются лишь тех, кто остается в этом мире. Слабость, решимость, слезы или безразличие – в последний миг все равно; нелепо думать, что они что-либо значат для человека, который утрачивает свое бытие.[321]321
Сент-Эвремон Ш. де. Избранные беседы. С. 467.
[Закрыть]
Судя по описаниям современников, смерть Генриетты Английской тоже была отмечена этой двойственностью. Окружающие (да и умирающая) не могли не чувствовать объективного драматизма ситуации, учитывая возраст и положение Мадам. В этом смысле ее смерть была красноречива еще до того, как стала предметом для красноречия. К тому же персона ее ранга должна была думать не только о себе (то есть о спасении своей души), но и о том впечатлении, которое ее кончина произведет на окружающих. Умирая «благой смертью», Генриетта исполняла свой последний долг перед обществом, с восхищением за ней наблюдавшим.
Мари-Мадлен Пиош де ла Вернь, графиня де Лафайет
Рассказ о смерти Мадам
(1670)
В «Надгробном слове Генриетте-Анне Английской, герцогине Орлеанской» Боссюэ, говоря о безвременной кончине Мадам, воспользовался не вполне обычным выражением: «Трудясь над ее историей, мы видели лишь все самое славное, что только подвластно воображению». И затем: «Такова радостная история, которую мы писали для Мадам; для завершения этого благородного замысла недоставало лишь долгой жизни, но об этом, казалось, можно было не тревожиться». Очевидно, что под «историей» Боссюэ подразумевал не уже написанный текст, а саму жизнь Генриетты, которая своим существованием закладывала основу будущего исторического повествования. Это повествование складывалось в общественном сознании, проходя сквозь фильтр устной обработки, а затем должно было обрести законченную форму под пером какого-нибудь историка. (Об этой динамике жизни и жизнеописания уже шла речь в предыдущей главе в связи с «Мемуарами» мадмуазель де Монпансье.)
Когда Боссюэ произносил эти слова, проект истории Генриетты Английской уже существовал, и принадлежал он самой принцессе. Как свидетельствует госпожа де Лафайет, впервые эта идея возникла в 1665 г., после изгнания графа де Гиша. Генриетта стала рассказывать ей подробности интриги и предложила записать их в качестве «истории», то есть связного фабульного повествования. Работа продолжилась в 1699 г., когда накануне очередных родов Генриетта была вынуждена вести относительно уединенный образ жизни. Она не только рассказывала, но и прочитывала написанное госпожой де Лафайет, с удовольствием наблюдая, как ее биография превращалась в небольшой роман. Потом политические и семейные заботы прервали эти занятия. Госпожа де Лафайет признавалась: «Смерть принцессы не оставила у меня ни намерения, ни вкуса к продолжению этой истории».[322]322
La Fayette М. de. Histoire de Madame Henriette d’Agleterre, suivi de Mémoires de la Cour de France pour les années 1688 et 1689 / Éd. par G. Sigaux. Paris: Mercure de France, 2001. P. 23.
[Закрыть] В оригинале эта фраза более двусмысленна, нежели способен передать перевод. Госпожа де Лафайет говорила о том, что смерть Генриетты лишила ее «dessein», то есть одновременно и намерения, и плана работы. Неоднозначно и упоминание о вкусе (gout), поскольку на языке эпохи слово служило для обозначения личной симпатии. Иначе говоря, госпожа де Лафайет констатировала, что после кончины Мадам она осталась без плана и без личного мотива продолжать это повествование, смысл которого был в соавторстве.
Идея соавторства отличает «Историю Генриетты Английской» от писавшихся приблизительно в те же годы «Мемуаров к истории Анны Австрийской» госпожи де Моттвиль (1621–1689), бывшей камеристки матери Людовика XIV. Близко наблюдая жизнь Анны на протяжении более чем двадцати лет, госпожа де Моттвиль взялась за работу после смерти своей покровительницы, тем самым отдавая ей последний долг. Напротив, госпожа де Лафайет могла писать только при участии Мадам. Не потому, что она плохо знала обстоятельства ее жизни (действительно, госпожа де Лафайет была не наперсницей, а собеседницей принцессы, и та излагала ей придворные интриги постфактум – но все же излагала). По всей видимости, с ее точки зрения, ценность «Истории Генриетты Английской» составлял субъективный фактор – то, что она была записана со слов принцессы и ею «авторизована». После смерти Генриетты госпожа де Лафайет не стала продолжать этот набросок, присовокупив к нему короткий «Рассказ о смерти Мадам», последнее свидетельство своих отношений с покойной.
«Рассказ о смерти Мадам» написан в сугубо прагматическом стиле «реляции» (relation) – сообщения о каком-либо «происшествии, истории или баталии».[323]323
Furetière A. Dictionnaire Universel… Т. III (статья «Relation»).
[Закрыть] Как правило, реляциями именовались военные сводки или отчеты путешественников. Отсюда стратегический уклон, ощущающийся даже в «Рассказе о смерти Мадам», где в первую очередь устанавливается последовательность и взаимосвязь событий (заметим, что словом «relation» также обозначалось соотношение между предметами или явлениями). Придерживаясь внешней точки зрения, госпожа де Лафайет уделяет много внимания перемещениям персонажей и тому, как от этого изменялось восприятие ситуации. К примеру, пока Мадам лежала на большой постели, то выглядела лучше, чем когда ее переложили на другое ложе; только присутствие короля заставило врачей признать, что состояние больной безнадежно, и т. д. Кроме того, госпожа де Лафайет регистрирует внешние проявления эмоций – слезы, вздохи, видимые изменения выражения лица, – при этом не утверждая, что персонажи действительно испытывали описываемые чувства: «Казалось, она вполне уверилась в собственной смерти… По всей видимости, мысль о яде утвердилась в ее уме… Месье, казалось, был в ужасе». Как подобает очевидцу, она придерживается зримых данных, истолковывая их самым конвенциональным и нейтральным образом. До некоторой степени этот принцип распространяется и на ее собственные чувства. Их спектр невелик: сперва она удивлена дурным видом Мадам, затем поражена и растрогана ее слезами, удивлена и растрогана словами Месье и в отчаянии от бездействия медиков. Однако не стоит принимать эмоциональную отстраненность повествователя за описание душевного состояния госпожи де Лафайет. В качестве персонажа собственного повествования она смотрела на себя тоже со стороны, говоря лишь о тех чувствах, которые полагалось проявлять в подобных ситуациях. Вспомним замечание госпожи де Севинье, признававшейся в письме Куланжу, что, будучи свидетельницей горя Мадмуазель, она по-настоящему ее пожалела: «В этих обстоятельствах я обрела чувства, которые обычно не испытывают по отношению к персонам ее ранга. Но это между нами…». Судя по всему, такова была позиция и госпожи де Лафайет. Будучи искренне привязана к Генриетте, она отдавала себе отчет, что любое отступление от конвенций могло быть воспринято отрицательно и навлечь на нее подозрение в лицемерии. Не случайно, что когда Мадам обращается к ней в последний раз, говоря: «Госпожа де Лафайет, у меня уже заострился нос», – то писательница отказывается от описания собственной эмоции, обозначая ее внешним образом, как бы с точки зрения окружающих: «Ответом были мои слезы, потому что это была правда».
Первое издание «Истории Генриетты Английской» вышло в 1720 г. в Амстердаме, но нет сомнения, что до этого она циркулировала в рукописном виде. На это указывает целый ряд сохранившихся манускриптных копий текста.
Рассказ о смерти Мадам[324]324
Перевод осуществлен по изданию: La Fayette М. de. Histoire de Madame Henriette d’Angleterre, suivi de Mémoires de la Cour de France pour les années 1688 et 1689 / Éd. par G. Sigaux. Paris: Mercure de France, 2001. P. 98–102.
[Закрыть]
Мадам возвратилась из Англии во славе и в радости, какие только может принести путешествие, предпринятое во имя дружества и увенчавшееся успехом. Король, ее нежно любимый брат, был необычайно к ней внимателен и полон почтения. Было смутно известно, что переговоры, в которых она приняла участие, должны были вскоре завершиться.[325]325
С 25 мая по 18 июня герцогиня Орлеанская была в Дувре, исполняя дипломатическое поручение Людовика XIV, который, готовясь к войне с Голландией, хотел заручиться поддержкой ее брата, английского короля Карла II.
[Закрыть] В двадцать шесть лет она зрела себя связующим звеном между двумя величайшими монархами сего века. В ее руках находился договор, от которого зависела судьба части Европы; причастность к важным делам принесла ей удовлетворение и уважение, которым сопутствовали приятность, дар молодости и красоты; все в ней было исполнено грации и мягкости, всех покорявшей, в чем она должна была находить тем большую усладу, ибо это была дань более ее особе, нежели сану.