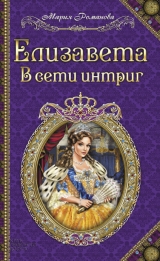
Текст книги "Елизавета. В сети интриг"
Автор книги: Мария Романова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Из воспоминаний маркиза де ла Шетарди
«Некая Нарышкина, вышедшая с тех пор замуж, женщина, обладающая большими аппетитами и приятельница цесаревны Елизаветы, была поражена лицом Разумовского, случайно попавшегося ей на глаза. Оно действительно прекрасно. Он брюнет с черной, очень густой бородой, а черты его, хотя и несколько крупные, отличаются приятностью, свойственной тонкому лицу. Сложение его так же характерно. Он высокого роста, широкоплеч, с нервными и сильными оконечностями, и если его облик и хранит еще остатки неуклюжести, свидетельствующей о его происхождении и воспитании, то эта неуклюжесть, может быть, и исчезнет при заботливости, с какою цесаревна его шлифует, заставляя, невзирая на его года, брать уроки танцев, всегда в ее присутствии, у француза, ставящего здесь балеты… Нарышкина обыкновенно не оставляла промежутка времени между возникновением желания и его удовлетворением. Она так искусно повела дело, что Разумовский от нее не ускользнул. Изнеможение, в котором она находилась, возвращаясь к себе, встревожило цесаревну Елизавету и возбудило ее любопытство. Нарышкина не скрыла от нее ничего. Тотчас же было принято решение привязать к себе этого жестокосердого человека, недоступного чувству сострадания».
Глава 6. Пристроить поудачнее или ожидать любви
– Что делать, ума не приложу.
Екатерина нервно расхаживала между золочеными креслами. Последнее время неудачи с заключением брака Елизаветы беспокоили ее все больше. Как вода меж пальцев, утекали возможности, связи, перспективы… Чем дальше, тем хуже, унизительнее, напряженнее становились переговоры по этому вопросу – нет, внешне все выглядело более чем прилично и достойно, но ей ли не знать, что скрывается за вежливыми сладкими улыбками ключевых фигур европейского политика? Так, черт побери, скоро их и вовсе перестанут воспринимать всерьез – их, российских монархов!
– А чем вам не по нраву принц Голштинский?
Екатерина резко остановилась. Непривычно вкрадчивым был голос Остермана, слишком мягким, обволакивающим…
– Что?
– Карл Август, молодой принц, кузен Карла Фридриха. Я полагаю, мы все незаслуженно забыли о нем. Он хорош собой, умен, силен физически, к тому же обладает прекрасным здоровьем, что позволяет рассчитывать на то, что он проведет на троне много лет и принесет огромную пользу своему государству. А кроме того, он сможет произвести на свет наследника, равного себе по всем самым лучшим качествам, и этот наследник сможет укрепить еще больше нашу давнюю дружбу с голштинским герцогством…
Давняя дружба, о да… Можно, конечно, и так назвать череду бесконечных интриг и войн с германскими державами… Но, впрочем, они перемежались достаточно значимыми приятными событиями, и иметь дело с господами из Пруссии, пожалуй, все же лучше, чем с лягушатниками французами или, прости господи, поляками… Екатерину передернуло – она никак не могла забыть презрительного отказа в пользу дочери польского короля…
Карл Август… Почему бы и нет? О нем, помнится, писала и Аннушка, упоминая как бы между прочим и заинтересованность своего супруга в этом выгодном предприятии. Французский престол, конечно, заманчив, но очень обременителен. Мечты Петра Первого были слишком честолюбивы, а планы слишком грандиозны… Не ей, слабой женщине, воплощать их. Не может она так усложнить себе жизнь, ей нужно сохранить трон и обеспечить дочерям пускай не особенно великое, но надежное и верное место среди монархов Европы. А блеск… Что блеск? Чем выше летаешь, тем страшнее падение – и самый блистательный престол может оказаться западней, ведущей лишь к превратностям и печалям…
Как же все эти годы ей хотелось забыть то, о чем неустанно напоминали ехидные, исподтишка, взгляды придворных, чуть слышные перешептывания за спиной, мимолетные насмешливые взгляды… И кто бы еще упрекал ее? Кто был бы ей судьею? Мелкие людишки, десятилетиями отиравшиеся у трона в попытках подобрать крохи, сыплющиеся от изобилия монархов? Развратники и подлецы, стремящиеся сколотить себе состояние да найти девицу покрасивее да пораспутнее, чтобы погрела бочок под старость лет? Дамы, кичащиеся своим благородным происхождением – сколько ваших мужей обязаны «происхождением» только милости Петра Великого? – и брезгливо кривящие губки при упоминании «грязной маркитантки»?
Про маркитантку она как-то своими ушами слышала, все остальное вслух старались не произносить – страшно боялись царского гнева. Правильно боялись – даже сейчас она непроизвольно поджала губы и горделиво расправила плечи.
Что знаете вы, «дамы высокого происхождения», о том, что такое тысячи военных, поток которых не прекращается ни на день, ни на час, ни на минуту? Ими полны все дома, все кабаки и лавки, от них нет прохода на улицах, а ты в своем доме уже не хозяйка, а заложница, и ты в полной их власти, и с тобой могут сделать все что угодно, а твой старик отец будет не в силах помочь тебе…
Проезжие солдаты всегда накидывали на нее масленым оком, и скоро она даже перестала бояться их – привыкла. Но время все же было лихое, и настал миг, когда не стало ни дома, ни отца, ни такого родного и привычного гама на улочках…
Что знаете вы, господа, с такой готовностью осуждающие, о том, как со всех сторон налетают, становятся на дыбы огромные, жутко скалящиеся кони с вооруженными седоками, как окружают, теснят, и выхода нет, и только и остается, что молиться… Когда живешь день за днем то в лачугах, а то и вовсе под открытым небом, и хочется есть, и хочется пить, а вокруг какие-то страшные черные бородатые мужики, а ты не можешь даже и заикнуться, чтобы отпустили домой…
Ей хотелось жить, и хотелось есть, и она вскоре поняла, что все – и кусок хлеба, и воду, и вино, и даже новое, неистрепанное платье можно получить от солдат, ежели, конечно, вести себя правильно. Она и вела – и нравилась им, потому что очень скоро научилась делать именно то, чего от нее ожидали, быть в меру ласковой и в меру веселой, в меру задорной и в меру развязной…
Потом ей повезло. Как раз тогда, когда она начала задумываться, надолго ли хватит ее беспутной жизни. Ее заметил из окна кареты проезжавший мимо граф Шереметев – конечно, заметил, она ведь не была уже перепуганной девушкой в лохмотьях, а сидела на краю телеги, с любопытством рассматривая проходящий и проезжающий люд, в неновой, но красивой лисьей душегрейке, в теплых валеночках, с подобранными волосами, умытая…
В графской палатке было тепло, спокойно, а главное, сытно. Шереметев не особо и утруждал ее, она жила в свое удовольствие и лучшей доли не желала, не гневила Господа, наряжалась и отсыпалась, и все более румяными становились ее щечки, за которые так любил потрепать ее граф. Самое большее, что она себе позволяла, – притворно невинно похлопать ресницами в присутствии гостей Шереметева: хотя таковые случались часто и в большом количестве, видела она их редко, ибо граф молодую любовницу выставлять напоказ не стремился…
И правильно делал, как оказалось. Потому что когда в один прекрасный день в палатку заглянул крепкий красавец в орденах, со сверкающими хитрыми глазами, пышущий неудержимой бесовской силой и удалью, судьба Марты Скавронской была решена… Ее покровитель навсегда лишился пассии, а она – нищего незаметного существования…
Екатерина усмехнулась про себя. Воистину, как говорят в России, вспомнила бабка… Однако вспоминать было приятно…
Неистовая, не знающая границ и сомнений страсть Александра Меншикова поглотила ее целиком, что там – смела с лица земли ту, что была когда-то наивной девицей Мартой, а потом распутной любимицей солдатского сброда… Она теперь не помнила себя и сама называла себя чудной, каждый день превращался в ожидание, каждая встреча становилась праздником, и когда-то она даже мысленно сравнила себя с собакой, которая преданно ждет хозяина, а потом в прыжке ловит брошенную ей кость… Впрочем, это было мимолетно, она даже не отдала себе отчета в том, что подумала, – слишком была тогда молода и недалека, а он как раз вернулся, вошел в палатку, только соскочивший с коня, запыленный, веселый, с озорными хитрыми глазами, – и она бросилась ему на шею, уже не думая и не переживая, а он любил ее так, что думать ни о чем и не надо было, все было ясно без слов… Иногда она ловила на себе его взгляд: странный, словно с стороны, оценивающий, задумчивый… Она не раздумывала, к чему бы это, ее не тревожили такие мелочи, главное, что по ночам он по-прежнему приходил к ней и был таков же, как в первые дни.
Потом говорили, что он сам показал ее Петру – гляди, мол, какова… Она долго не верила, не хотела верить, даже сейчас, хотя уже доподлинно знала, какой змей Алексашка Меншиков и чего от него можно ждать… Сначала она тосковала, все думала, что он заберет ее опять к себе, – до чего же глупая надежда…
– Знал, что я по сердцу ему придусь? – прямо спросила она всесильного фаворита через много лет, когда уже была российской императрицей. – Точно знал, для того и отобрал меня у графа?
Глаза Меншикова томно блеснули.
– Ну что ты, Катенька… Просто красота твоя огромную силу имеет, ни одного равнодушным не оставит…
К своему новому властелину она привыкала долго и мучительно. Однако имела уже достаточно опыта, чтобы ничем не выказывать этого, – хоть она, возможно, и не была наиразумнейшей из всех дочерей Евы. Мужские глаза видят только то, что им показывают, – и она была всегда кротка и приветлива, нежна и предупредительна, соблазнительна и робка…
Не сразу она узнала, что черноволосый поручик громадного роста – на самом деле российский самодержец. А узнав, изумилась и втайне обрадовалась: все же есть справедливость на белом свете, и не зря вело ее столько лет Провидение, уберегая от опасностей и смерти.
Да, она была ловка, достаточно хитра и к тому времени уже так искусна в любви, что царь, сам того не замечая, привязывался к ней сильнее и сильнее… А она, раздумывая, как привязать его к себе покрепче, и опасаясь возможных соперниц, строила планы, раскидывала сети, примерялась и просчитывала, как вдруг, совершенно неожиданно…
…Ему стало плохо. В один миг он вскинулся, закричал от дикой боли и замер, выгнувшись всем телом. Она перепугалась, подскочила, попыталась обхватить его одной рукой, но он уже обмяк, упал на простыни и стал кататься по ним, сбивая их и глухо рыча сквозь зубы… Она стояла в стороне на коленях, не зная, что делать, на что решиться, как помочь ему, не понимая, что происходит. Петр бился и стонал, пот заливал его лицо, по телу пробегали судороги… Наконец он затих, свернулся в клубок, как ребенок, съежился и стал будто меньше ростом…
– Что с тобой, Петруша? – бросилась она к нему, приникла, обняла.
– Уйди, Марта, – глухо бросил он, не поворачивая головы и не открывая глаз.
Ему все еще было больно. Слова давались с трудом, язык будто заплетался, и даже оттолкнуть ее он был не в силах.
В этот миг ей стало так жаль его, что захотелось плакать. Она прилегла рядом, прижалась к нему всем телом и стала очень мягко, очень нежно поглаживать его волосы. Он все еще пытался оттолкнуть ее и стонал, но постепенно затих, и она продолжала гладить его голову, слегка массируя, и изредка касалась губами его уха, то ли целуя, то ли успокаивая.
– Ничего, ничего, – шептала она тихонько, словно баюкая. – Сейчас все пройдет… Засыпай, засыпай… Ты проснешься и снова будешь здоров… Больно не будет…
Он притих и наконец задремал, прямо на ее руке, и она всю ночь пролежала в неудобной позе, поверх одеял, и замерзла так, как не мерзла, кажется, никогда в жизни. Руки затекли, плечи онемели, и невыносимо хотелось переменить положение, но она боялась даже шевельнуться – только бы не потревожить его, его сон так чуток, пусть поспит…
Утром он открыл глаза и еще замутненным, но уже полным облегчения, удивления и благодарности взглядом посмотрел на нее, потянулся к ней, вдруг осознал, как она лежит… Его тонкий ус дернулся, он выдохнул: «Марта!» – резко повернулся, подхватил ее, уложил поудобнее, накрыл покрывалом и поцеловал так крепко и нежно, как никто ее до этого не целовал…
С той ночи словно что-то надломилось в ней. Теперь было все равно, царь он или нет, был в ее жизни когда-либо Меншиков или не было его… Петр был так нежен и заботлив, и она ловила, берегла каждую секундочку его внимания, каждый взгляд, поцелуй, прикосновение, упивалась, не отпускала, притягивала, манила, наслаждалась… Он стал ей необходим – она и жить бы не сумела, если бы он бросил ее. И чего она больше всего страшилась – что надоест ему, что он вспомнит о ее прошлом, о солдатах в русском лагере, о старике Шереметеве и найдет другую, моложе, красивее…
Екатерина тряхнула головой, отгоняя воспоминания. Петра давно нет на свете, и вся ответственность за будущее российского престола и, самое главное, их общих дочерей, лежит на ней одной.
«Может быть, и вправду принять предложение Карла Августа? Надо его показать Елизавете. Он и впрямь недурен и недавно стал епископом Любекским… Правда, придется Лизаньке перейти в его веру… Ну, да невеликое горе. В конце концов, может и он отречься от своих обязанностей ради такого дела, чай, и ему приятнее на троне с молодой женой, чем в исповедальне с грешниками и в сутане. Прости, господи, мою душу грешную… – Царица перекрестилась. – А в случае чего можно подумать и о Наталье – не Лиза, так она вполне может стать герцогиней Голштинской, хоть и юна…»
– Однако же не будем забывать о Морице Саксонском. Чем не жених?
Губы Екатерины чуть искривились.
– Понимаю вашу тягу к курляндцам, господин Остерман, однако же удивлена такой настойчивостью. Разве не решили мы, что после всех фокусов этому вьюношу не место среди монарших особ?
– Но, ваше величество, Курляндия…
– Нет уж! Довольно с меня Курляндии да этого молодца, в которого Анна Иоанновна, бедная вдовушка, влюблена до безумия. Мало того, что заморочил головы всем дипломатам европейским, так еще и втравил нас в авантюру. Вы знаете, сколько это стоило нам, граф? Лефорт, черт бы его побрал, хитроумный прожектер… И Александр Данилович не хуже, милый друг наш… Хорошо хоть Елизавета умна не по годам. Ее так просто с толку не сбить. И «очаровательному Морицу» это не удастся…
Прожектер Лефорт, представлявший в Петербурге интересы графа Саксонского, отстаивал их весьма своеобразно: вместо того чтобы выполнять прямое указание своего господина и вести переговоры о браке с Анной, он принял блистательное решение договориться о свадьбе с более молодой и красивой цесаревной Елизаветой. «Анна стара, ей за тридцать, – рассуждал он. – Елизавета же в самом расцвете, а кроме того, имеет все шансы стать императрицей российской». Похвальное, в общем-то, желание посадить своего господина на русский престол привело к плачевным последствиям: Лефорт не счел нужным уведомить о своих намерениях даже Морица, что уж говорить о Елизавете, а та, юная и беззаботная, наблюдала за его нескрываемыми стараниями с довольно вялым интересом. Посланник начал переговоры, но тут его подвел сам Мориц: вопреки запрещению отца он отправился в Митаву и был торжественно избран герцогом Курляндским и Семигальским. Пятнадцать дней спустя в Митаву вступили русские войска во главе с Меншиковым. Однако Екатерина вскоре велела ему убираться из Курляндии.
– Бог с ней, с Курляндией, важно сохранить мир на севере, – говорила она.
Отец Морица, курфюрст саксонский и король польский, не преминул этим воспользоваться: он мгновенно постановил присоединить Курляндию к Речи Посполитой. Тут уж ничего не попишешь: пришлось России опять вторгаться в Курляндию – теперь уже с восьмитысячным войском, – чтобы восстановить порядок и изгнать наконец герцога Морица…
«Надо что-то решать. Не в бирюльки, чай, играем. Накладно, да и глупо по всей Европе за женихами бегать, а пуще за такими, как Мориц. Решено, этот не годится. Зачем нам байстрюк? Пусть будет лучше Карл Август, хоть не так беспокоен. Да и поможет нам, верю. По крайней мере не так бестолков, надежда есть, что толк будет и поддержит он нас в конфликтах наших с соседями, ежели нужда придет…»
«Записная книга Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии», запись за 26 июня
Того ж числа пополудни в 6 часу, будучи под караулом в Трубецком раскате в гварнизоне, царевич Алексей Петрович преставился.
Из письма графа Румянцева
«…как царевич в те поры не домогал, то его к суду, для объявки приговора, не высылали, а поехали к нему в крепость: светлейший князь Александр Данилович, да канцлер граф Гаврило Головкин, да тайный советник Петр Андреевич Толстой, да я и ему то осуждение прочитали. Едва же царевич о смертной казни услышал, то зело побледнел и пошатался, так что мы с Толстым едва успели его под руки схватить и тем от падения долу избавить. Уложив царевича на кровать и наказав о хранении его слугам да лекарю, мы поехали к его царскому величеству с рапортом, что царевич приговор свой выслушал; и тут же Толстой, я, генерал-поручик Бутурлин и лейб-гвардии майор Ушаков тайное приказание получили, дабы съехаться к его величеству во дворец в первом часу пополуночи.
Недоумевая, ради коея вины сие секретное собрание будет, я прибыл к назначенному времени во дворец и был введен от дворцоваго камергера во внутренние упокои, где же увидел царя, седяща и весьма горююща, а вокруг его стояли: царица Екатерина Алексеевна, Троицкий архимандрит Феодосий от Александроневского монастыря (его же царь, зело уважая, за духовника и добраго советывателя имел), да Толстой, да Ушаков; а не было только Бутурлина, но и тот приездом не замедлил.
А как о нашем прибытии царю оповестили, ибо ему замногими слезами то едва ли видно самому было, то его величество встал и, подойдя к блаженному Феодосию, просилу него благословения, на что сей рек: „Царю благий, помысли мало, да не каяться будеши?“ А царь сказал: „Злу, отчесвятый, мера грехов его преисполнилась, и всякое милосердие от сего часа в тяжкий грех нам будет и пред Богом и предславным царством нашим. Благослови мя, владыко, на указзело тяжкий моему родительскому сердцу и моли всеблагаго Бога, да простит мое окаянство“. Тогда Феодосии, воздев руки, помолился и, благословивши царя, глагола: „Да буде тволя твоя, пресветлый государь, твори, яко же пошлет тиразум сердцеведец Бог“. Тогда царь приблизился к нам, в недоумении о воле его стоящим, и сказал: „Слуги мои верные, во многих обстоятельствах испытанные! Се час наступил, да великую мне и государству моему услугу сделаете. Оный зловредный Алексей, его же сыном и царевичем срамлюся нарицати, презрев клятву пред Богом данную, скрыл от нас большую часть преступлений и общенников, имея в уме, да сие последнее о другом разе ему в скверном умысле на престол наш пригодятся; мы, праведно негодуя за таковое нарушение клятвы, над ним суд нарядили и тамо открыли многия и премногия злодеяния, о коих нам и в помышлении придти не могло. Суд тот, яко же и вы все ведаете, праведно творя и намногие законы гражданские и от Святого Писания указуя, его, царевича, достойно к понесению смертныя казни осудил. Вам ведомо терпение наше о нем и послабление до нынешняго часа, ибо давно уже за свои измены казни учинился достоин. Яко человек и отец, и днесь я болезную о нем сердцем, но, яко справедливый государь, на преступления клятвы, нановыя измены уже нетерпимо и нам бо за всякое несчастиеот моего сердолюбия ответ строгий дати Богу, на царство мя помазавшему и на престол Российской державы всадившему. Того ради, слуги мои верные, спешно грядите, убо к одру преступнаго Алексея и казните его смертию, яко же подобает казнити изменников государю и отечеству. Не хочу поругать царскую кровь всенародною казнию, но да совершится ей предел тихо и неслышно, яко бы ему умерша от естества, предназначеннаго смертию. Идите и исполните, тако бо хощет законный ваш государь и изволит Бог, в его же державе мы все есмы!“ Сие глаголиша, царь новыя тучи исполнися, и аще бы не утешение от царицы, да не словом в иноцех блаженнаго Феодосия, толико яко презельная горесть велий ущерб его царскому здоровью приключилась бы.
Не ведаю, в кое время и коим способом мы из царского упокоя к крепостным воротам достигли, ибо великость и новизна сего диковиннаго казуса весь ум мой обуяла, долго быя от того в память не пришел, когда бы Толстой напамятованием об исполнении царскаго указа меня не возбудил. А как пришли мы в великия сени, то стоящаго тут часового опознавши, ему Ушаков, яко от дежурства начальник дворцовыя стражи, отойти к наружным дверям приказал, яко бы стук оружия недужному царевичу, беспокойство творя, вредоносен быть может. Затем Толстой пошел в упокой, где спали его, царевича, постельничий да гардеробный, да куханный мастер, и тех, от сна возбудив, велел немешкотно от крепостного караула трех солдат во двор послать и всех челядинцев с теми солдатами, якобы к допросу, в коллегию отправить, где тайно повелел под стражею задержать. И тако во всем доме осталося нас четверо, да единый царевич, и той спящий, ибо все сие сделалось с великим опасательством да его безвремянно не разбудят. Тогда мы, елико возможно, тихо перешли темные упокой и с таковым же предостережением дверь опочивальни царевичевой отверзли, яко мало была освещена от лампады, пред образами горящей. И нашли мы царевича спяща, разметавши одежды, яко бы от некоего соннаго страшнаго видения, да еще по времени стонуща, бо, и в правду, недужен вельми, такчто и Святого Причастия того дня вечером, по выслушанииприговора, сподобился, из страха, да не умрет, не покаявшись во гресех, с той поры его здравие далеко лучше стало и, по словам лекарей, к совершенному оздравлению надежду крепкую подавал. И, не хотяще никто из нас его мирного покоя нарушати, промеж собою сидяще, говорили: „Не лучше ли-де его во сне смерти предати и тем от лютого мучения избавити?“ Обаче совесть на душу налегла, да не умрет без молитвы. Сие помыслив и укрепись силами, Толстой его, царевича, тихо толкнул, сказав: „Ваше царское высочество! Возстаните!“ Он же, открыв очеса и недоумевая, что сие есть, седе наложнице и смотряще на нас, ничего же от замешательства[не] вопрошая.
Тогда Толстой, приступив к нему поближе, сказал: „Государь-царевич! По суду знатнейших людей земли Русской, ты приговорен к смертной казни за многия измены государю, родителю твоему и отечеству. Се мы, по Его царскаго величества указу, пришли к тебе тот суд исполнити, того ради молитвою и покаянием приготовься к твоему исходу, ибо время жизни твоей уже близ есть к концу своему“. Едва царевич сие услышал, как вопль великий поднял, призывая к себе на помощь, но из этого успеха не возымев, нача горько плакатися и глаголя: „Горе мне бедному, горе мне, от царской крови рожденному! Не лучше ли мне родитися от последнейшаго подданного!“ Тогда Толстой, утешая царевича, сказал: „Государь, яко отец, простил тебе все прегрешения и будет молиться о душе твоей, но яко государь-монарх, он измен твоих и клятвы нарушения простить не мог, боясь, да в некое злоключение отечество свое повергнет чрез то, того для, отвергши вопли и слезы, единых баб свойство, прийми удел твой, яко же подобает мужу царския крови и сотвори последнюю молитву об отпущении грехов своих!“ Но царевич того не слушал, а плакал и хулил его царское величество, нарекая детоубийцею.
А как увидали, что царевич молиться не хочет, то, взяв его под руки, поставили на колени, и один из нас, кто же именно (от страха не упомню) говорить за ним зачал: „Господи! В руци твои предаю дух мой!“ Он же, не говоря того, руками и ногами прямися и вырваться хотяще. Той же, мню, яко Бутурлин, рек: „Господи! Упокой душу раба твоего Алексея в селении праведных, презирая прегрешения его, яко человеколюбец!“ И с сим словом царевича на ложницу спиною повалили и, взяв от возглавья два пуховика, главу его накрыли, пригнетая, дондеже движение рук и ног утихли и сердце биться перестало, что сделалося скоро, ради его тогдашней немощи, и что он тогда говорил, того никто разобрать не мог, ибо от страха близкия смерти ему разума помрачение сталося. А как то совершилося, мы паки уложили тело царевича, якобы спящаго, и, помолився Богу о душе, тихо вышли. Я с Ушаковым близ дома остались – да кто-либо из сторонних туда не войдет, Бутурлинже да Толстой к царю с донесением о кончине царевичевой поехали. Скоро приехала от двора госпожа Краммер и, показав нам Толстаго записку, в крепость вошла, и мы с нею тело царевичево опрятали и к погребению изготовили: облекли его в светлыя царския одежды. А стала смерть царевичева гласна около полудня того дня, сие есть 26 июня, якобы от кровенаго пострела умер…»








