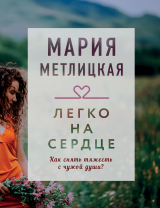
Текст книги "Легко на сердце (сборник)"
Автор книги: Мария Метлицкая
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Саша улыбнулся и протянул рюмку будущему тестю:
– Чокнемся?
Отец прищурил рыжий рысий глаз.
– Думаешь? – спросил он.
Саша безмятежно кивнул.
– Ну, попробуем, – согласился отец.
Отец чокнулся зло, громко. Но Саша опять улыбнулся. Ей, Владе, – ничего, детка. Прорвемся. Их ведь, в конце концов, тоже можно понять!
А разговор не клеился. Хотя отец вдруг сказал матери:
– Оль! Ты чего зажала грибы и огурцы? Доставай!
Мать тут же вскочила, закивала и бросилась на кухню.
Молчание тяготило, а отец словно наслаждался этим. Потом и ему надоело, и он обратился к Сашиной матери:
– Ну что, сватьюшка? Берешь к себе на постой?
Сашина мать растерянно улыбнулась.
– Беру. Куда денешься!
– А зря! – вдруг крякнул отец, откидываясь на стуле. – Зря, матушка. Ошибаешься!
Все замерли, ожидая чего-то ужасного.
– Зря, – повторил он, – раз уж решили – пусть сами! Сами, как мы. По баракам, подвалам. Да где они, эти подвалы? – с сожалением, словно расстроившись, вздохнул он. – Ну, тогда – в коммуналку. Снимут пусть угол и там, – он осклабился, – пусть наслаждаются!
Сашина мать удивленно спросила:
– Зачем же? Зачем эти муки? А разве вам не будет приятно, если у наших детей будет легче, не так, как у нас?
Он усмехнулся.
– Приятно? – повторил он, качая головой. – Приятно? А почему должно быть приятно? А? Приятно, надо ж – приятно! Должно быть непросто. Вот так! Тогда, может быть, – он запнулся, вспомнив что-то свое, – тогда, может быть, и из них что-то получится.
– Пап, – не выдержала Влада, – ну, может быть, хватит? Хватит, а? Да и потом, – она усмехнулась, – ты, генеральский сынок, много ли жил в коммуналках? И вообще – ведь все равно ничего не изменится! Мы любим друг друга и все равно будем вместе. Давай как-то… по-человечески, что ли?
Отец, уже хорошо принявший, посмотрел на нее тяжелым, недобрым и осоловевшим взглядом.
– По-человечески? – повторил он. – А вы с нами? По-человечески? Решили втихушку. И свадьбы им не надо, и путешествия свадебного. Умные какие! Всем, значит, нужно, а им – нет! Им, гордецам, ни к чему! А знаешь, дочка, почему ты туда стремишься? Туда, в замуж? А?
– Почему? – одними губами спросила Влада, понимая, что скандала не избежать. Она слишком хорошо знала родителя. – Ну, и почему же?
– Да потому! – Отец встал со стула и хлопнул ладонью по столешнице так, что жалобно звякнули рюмки. – А потому, что спать тебе с ним очень нравится! Вот почему! Думаешь, так будет всегда? И ты тоже так думаешь? – повторил он, уставившись на будущего зятя.
Саша дрогнул и кашлянул.
– Вы, Виталий Васильевич, как-то все… не так понимаете. Я люблю вашу дочь. И помешать нам не сможет никто, – твердо добавил он.
– Ну и люби себе! – неожиданно миролюбиво ответил отец. – Лезь в ярмо, раз мозгов нет. В девятнадцать-то лет! – И рассмеялся. – А ты дурак, парень. Какой ты дурак! На что семью содержать будешь? Твоя-то не привыкла на пустой картошке сидеть. Сапожки любит, туфельки. Платьица разные. А ну как заненавидит тебя через год, когда совсем скучно станет? Эх, сопличье вы зеленое. Совсем отбились от рук. Свободы у вас слишком много. Хочу – женюсь, захочу – разведусь. Женилка выросла, да?
Саша покраснел, и Влада поняла, что он сейчас ответит. Ответит ее отцу, и все тут же рухнет, рассыплется, сломается мигом.
– Пап, – глупо хихикнула она, – ты ж не на партсобрании. И не в горячем цеху. Слезь с трибуны, и давай просто поговорим. Как люди, слышишь! И хватит всех пугать, папа. Не страшно, честно!
Она выпалила все это одним духом и тут же испугалась – с папашей такие штучки не очень-то проходили. Услышала, как тихо охнула мать.
– И ты дура! – с удовольствием добавил отец. – Еще дурее его. Куда ты лезешь? К свекрови под бок?
Саша резко встал и коротко бросил:
– Хватит! Мам, и ты, Влада. Давай собирайся. Поедем домой. Достаточно унижений и хамства. Наелись, спасибо! А вы, не очень уважаемый будущий тесть, и отца народов, наверное, почитаете? Вот при нем был порядок, а?
Он пошел к двери, и его мать поспешила за ним. Влада стояла как вкопанная.
– Ну? – ухмыльнулся отец. – Что застыла? Беги, догоняй! Обживайся. Может, не выгонят. А Сталин, сопляк, лично мне ничего плохого не сделал. Усек? – выкрикнул он в коридор.
Она вздрогнула, словно очнулась, и бросилась в коридор.
Громко хлопнула входная дверь. Отец чертыхнулся, а мать громко охнула и села на стул.
Он посмотрел на жену и спросил:
– Что, недовольна?
Она не ответила и громко заплакала. Кого она жалела сильнее, ее слабая мать? Себя или свою непутевую дочь? А она и сама не понимала. Просто было очень горько и страшно. И все. Даже ей, такой привычной ко всем этим семейным кошмарам.
Домой они ехали молча. Только Татьяна Ивановна, Сашина мать, периодически гладила ее по руке.
– Устаканится все, детка! И не такое в жизни бывает. Ты мне поверь, я через такое прошла…
Влада молчала. Молчал и ее нареченный. Молчал и не смотрел на нее.
В эту ночь они даже не обнимались – Саша отвернулся к стене, вежливо пожелав ей спокойного сна.
Какой там сон, господи! Всю ночь она пролежала с открытыми глазами, думая о своей нелепой семье, ненавидя отца и трусиху мать и стыдясь перед женихом и свекровью.
Она знала, что отец Татьяны Ивановны и его родной брат прошли через сталинскую мясорубку. Один в лагерях и остался. А второй в пятьдесят пятом вернулся – сломленным инвалидом. И прожил совсем недолго, года два или три.
И бабушка Сашина в ожидании мужа перенесла два инфаркта и скончалась до его возвращения.
Наутро всем было неловко смотреть друг на друга. Но она нашла в себе силы и после завтрака тихо, но твердо сказала:
– Вы их… простите, пожалуйста! А я тут совсем ни при чем. Дети за отца, как известно… Что я могла поделать, слыша все это? Только страдать и краснеть.
Саша посмотрел на Владу, потом подошел к ней и обнял. Она выдохнула, поняв, что все образуется.
Вечером он принес два букета огромных садовых ромашек – ей и маме, – сказал, что купил у метро, у бабули. Потом сели ужинать, и неловкость постепенно исчезала, словно ее и не было.
А дня через три, выйдя из дверей института, она увидела мать. Та стояла, как всегда, в стороне и вглядывалась в толпу выходящих студентов.
– Владлена! – крикнула мать и быстро пошла ей навстречу.
– Зачем ты пришла? – сухо спросила Влада. – Я, знаешь ли, не соскучилась. Ты уж прости.
Мать разрыдалась.
– Отец в больнице! Ему совсем плохо, тяжелый инфаркт.
Влада молчала, опустив глаза. На мать ей смотреть не хотелось.
– И что вам от меня надо? – спросила она, подняв глаза.
– Доченька! – взмолилась мать. – Он… очень просит тебя приехать. Очень, слышишь? Может быть, он, – она помолчала, – попросит прощения?
– Ладно, подумаю, – ответила Влада, – до завтра подумаю!
Она развернулась и пошла догонять одногруппников.
Вечером она сказала любимому, что приходила мать. Тот молча выслушал и спросил:
– И что ты решила? Поедешь?
– А что бы сделал ты? На моем несчастном месте? Ты б не поехал?
– Я – нет! – резко отрезал он. – Никогда!
– А я – да! – так же резко ответила она. – А ты не подумал, если… ну, он умрет. Как мне потом с этим жить?
– Об этом и речь! – воскликнул он. – Ты ведь в нем совсем не нуждаешься. И в извинениях его тоже. Ты… хочешь облегчить свою участь. Совесть свою! Ну, чтобы потом без раскаяния и чувства вины. А это знаешь как называется? Может, поспоришь со мной? Я не прав?
– Мне наплевать, что ты думаешь по этому поводу. И наплевать, как это все называется. Это мой отец, и он умирает! А тебе… Тебе, прости, незнакомо это чувство, и все. Вот поэтому ты меня осуждаешь и выговариваешь! Или я не права?
Он не ответил. Просто встал и вышел из комнаты. А она осталась. Сидела на чужой кушетке, в чужой квартире, понимая, что из комнаты сегодня не выйдет. И больше всего на свете ей захотелось домой.
Вот чудеса… Дура какая, господи!
Она вышла из комнаты, тихо прошла мимо кухни, где работал телевизор и была, слава богу, прикрыта дверь, и открыла входную дверь. На секунду задумалась, застряла, но, вздохнув, все-таки вышла на лестничную клетку.
В конце концов, она, и только она, здесь принимает решение. Это ее семья! Какая бы она ни была. Ее отец и ее мать. И никто – никто, кроме нее самой, просто не имеет права решать, как ей быть. И еще – осуждать. Ее семью. И даже не самых лучших родителей.
Семья… какая ни есть
Мать, увидев ее, закудахтала, захлопала крыльями и начала подробно рассказывать про отца. Дочь ее перебила:
– Мне это, прости, не так интересно. А завтра – завтра я поеду к нему. Все. Я ушла. Спокойной тебе, мама, ночи.
Мать ойкнула и мелко закивала головой, бормоча что-то, но Влада уже не слышала.
Утром она взяла с собой банки и термос, собранные матерью, и поехала в больницу.
Отец лежал в отдельной палате – большой, светлой, «царской». На тумбочке лежала прозрачная желтая кисть винограда и стояла бутылка боржоми. Отец дремал. В комнату било солнце, в открытую форточку дул свежий ветерок, колыша белую накрахмаленную занавеску.
Она смотрела на бледное, словно подсохшее, лицо отца и думала: «Почему ты такой, отец? Зачем? Я бы так хотела любить тебя. Любить и гордиться».
Он вздрогнул и открыл глаза. Посмотрел на нее внимательно и усмехнулся:
– Пришла?
Она не ответила – только кивнула.
– Правильно, – сказал он, продолжая усмехаться, – женихов-то еще куча будет, а батька один!
– Я думала, – тихо сказала она, – что ты… извинишься.
– Зря, – крякнул он и привстал с подушки, – не за что мне извиняться. А твой соплежуй – дурак! Мог бы… ради тебя… не ответить. Я его, дурака, проверял!
– Зачем ты так? – с мукой в голосе спросила Влада. – Тебе что, нравится меня унижать?
– Если для дела – конечно! Чтобы ты поняла. Ненадежный он, хилый. Не мужик еще, так, суета. Может, вырастет еще, а может, и нет. А пока – пусть сопли утрет, женишок! Не такой тебе нужен. Силы в нем нет, одна прыть. А на ней далеко не уедешь.
– Не тебе судить, – отрезала она, – и решать не тебе!
Она подошла к окну и встала к отцу спиной. Видеть его было мучительно.
В этот момент дверь в палату раскрылась, и она услышала женский голос:
– Виталечка! Как ты? Сейчас повторим кардиограммку, родной!
Она обернулась и столкнулась взглядом с женщиной в белом халате, с высоко закрученной «халой» на красивой, породистой голове.
Та, увидев Владу, тут же запнулась и покраснела.
Влада сразу все поняла – эта баба и есть та самая главврачиха, любовница папаши и его боевая подруга.
Влада взяла со стула сумочку и вышла прочь. У двери она обернулась:
– Ну, при таком-то уходе, я думаю, вы, Виталий Васильевич, скоро поправитесь!
Ей не ответили. Да и что тут ответишь!
На улице она села на лавочку и разревелась. Мимо медленно проходили больные в халатах и пижамах, пробегали резвые медсестрички, мазнув ее равнодушным и быстрым взглядом – что сделать, больница! Горя тут много и много печали. То, что кто-то рыдает, – нормально, не новость, а жизнь.
А он не звонил. Целую неделю – и ни одного звонка. На что обижаться? На то, что она защитила больного отца? За то, что не послушалась его и поехала в больницу? Ну, если все это – повод для смертельной обиды, тогда…
Тут она вспомнила слова отца, и ей сразу стало нехорошо, душно, дыхание перехватило – хилый, сопляк, не мужик.
Разве он не понимает, как ей сейчас тяжело? И где он? Где поддержка? Где – в горе и в радости? Так, как они говорили? Как мечтали, что будет именно так и никак по-другому? А она-то одна. В своей беде, в своей тоске. В своих проблемах.
И она позвонила сама. Наплевав на все: гордость, обида – какая разница? Ей было так плохо, плохо вообще и плохо без него. Да что говорить!
Так не бывает! Ты меня… предал?
Трубку взяла Татьяна Ивановна и веселым голосом сообщила, что он на сборах, в военном лагере. Почему не позвонил? Ну, тоже обиделся. Оба вы хороши – по больному друг друга. Он про твоего отца, ты про его. Молодость – а в ней обижаются насмерть, надолго. Но все, разумеется, перемелется, и будет мука, – пошутила она, – только в дальнейшем… Ты мне поверь – женщина глубже, умнее. И женщина должна уступать. Как-то смягчать обиду. Ну, жизнь тебя, конечно, научит, – беззлобно заключила она.
У Влады чуть не вырвалось: а вас? Научила? И если вы такая умная, то почему вы одна?
Слава богу, сдержалась. А осадочек-то остался! Спросила, где находится лагерь, но та сказала, что, во-первых, адреса точного нет – да, конечно, можно узнать на кафедре, но бесполезно – туда, в лагерь, все равно не пропускают. Такие порядки. А приедет он через два месяца. Ерунда! Вот тогда все успокоится и все забудется. «А пока – жди письма. Напишет, наверное», – не очень уверенно закончила она.
Ни про отца, ни про мать она не спросила – Влада поняла: враги на всю жизнь. Презирают ее родителей и ненавидят. И даже не стараются этого скрыть.
Письма все не было. Она снова звонила Татьяне Ивановне, та отвечала, что у него все нормально. Почему не пишет? Да бог его знает. Мне пару раз звонил – коротко, правда. Связь там ужасная.
– А мне – нет, – грустно сказала она.
Та утешила:
– Ну почем ты знаешь? Может быть, тебя не было дома?
В гости не приглашала, кстати. Ну да ладно. Два месяца – это и вправду не срок. Надо жить дальше и думать о том, что дальше все сложится. Дальше все будет хорошо. А как по-другому?
Отца уже выписали, и мать снова хлопотала возле него. По-дурацки, суетливо и бестолково. Он орал на нее, она убегала плакать, а Влада снова думала, как поскорее уйти отсюда, из постылого отчего дома.
С отцом она почти не разговаривала, да и он не стремился. Слышала только, как он громко, не опасаясь, что будет услышан, ежедневно и по нескольку раз беседовал со своей докторшей – докладывал подробно и обстоятельно, как поел и что, какое давление, пульс и, простите, желудок. Ей стало смешно, и она подумала: а зря он не уходит. Зря не уходит к этой тетке. Наверняка – и это понятно – у них доверительные и близкие отношения. Жили бы себе и радовались. А мать – мать бы пришла в себя, пережила – куда денешься – и тоже зажила бы спокойно.
Два месяца истекали. Теперь она сразу после учебы бежала домой, чтобы не пропустить телефонный звонок. Мать вопросов не задавала, а вот отец однажды спросил:
– Ну что? Одумалась? Раздумала замуж? Значит, зря на папашу обиделась. Умница, дочка. Моя кровь!
– Не зря, – отрезала она, – и обиделась вовсе не зря, и зря ты думаешь, что одумалась. Он просто в отъезде, но как только приедет, твоя умница-дочка отправится в загс. И не надейся, что так велика сила твоего воздействия и я так послушна!
Отец равнодушно пожал плечами:
– Хозяин – барин! Будет по-твоему. А уж как оно будет… посмотрим.
И снова она позвонила. И снова трубку взяла его мать.
Она была как-то растеряна и смущена – Влада почувствовала это сразу.
Да, приехал. Нет, дома нет. Почему не звонил? Ой, Владочка, я и не знаю. Занят, наверное. Хотя… ты знаешь, девочка… ты… не звони. У него что-то… переменилось. Передумал, наверное. Сказал, что подумал и – прав твой отец. Рано жениться. Ни жилья своего, ни денег. Запал, наверное, прошел.
– Пе-ре-думал? – медленно повторила Влада. – Запал, говорите, прошел? А что такое – запал? Я думала, что у нас с ним – любовь. А у нас был запал. Я и не ожидала… И папаша мой прав. Ну, просто святой человек мой папаша – провидец! Жизни научил вашего мальчика. Образумил просто, глаза открыл! А мальчик ваш, – она помолчала, – мальчик ваш чудный. Ответственный такой мальчик. И честный! Прошел запал – ну, да бог с ним. Мы – по-честному, прошел, и все. Жениться не будем. И звонить даже не будем – зачем? Зачем травмировать себя, правда? Разговоры вести неприятные? Выяснять что-то, оправдываться? Объяснять про запал? Про жилье и про деньги – а я-то не знала! Ни про то, ни про другое не знала! Думала, что богатый ваш мальчик. Сын подпольного миллионера, ну, или генерала какого-то. Или – директора Елисеевского магазина. А у него – ни квартиры, ни денег. Вот незадача! Переменилось у него, видите ли! Планы поменялись, да? Подумаешь, дело какое! Ну и бог с вами. Живите счастливо. А мой дурацкий и хамский папаша оказался неожиданно прав. Еще одна неприятность, правда? Идеологический противник, дурак и скотина – а прав ведь! Что вы молчите? Может быть, я чего-то не знаю? А?
– Может быть, – тихо ответила та.
– А! Не догадалась, дурочка! У него что, новый запал?
– Будь счастлива, – еще тише ответила собеседница, – и… не держи на него зла.
Гудки. Раздались короткие и беспощадные гудки. Извещающие о том, что все закончилось. Все на свете – не только этот тяжелый, невозможный и дурацкий разговор. Жизнь закончилась, вот что.
Наложить на себя руки? Как просто! Ну нет. Из-за этого мозгляка? Ничтожества? Оборвать свою совсем юную, драгоценную жизнь? Даже если она в тягость? Да глупости. Не стоит он того. Она все-таки дочь своего отца. А он не из мозгляков, ее папочка. При всех своих мерзостях – нет!
Он, кстати, спросил ее снова:
– Ну? Что? Смылся Ромео твой дохлый?
Она не ответила. Ну а больше он и не спрашивал. Слава богу.
Я буду жить, слышите? Буду! Всем назло!
Замуж она выскочила скоро, месяцев через семь. Влюблена не была ни минуты. А что будущий муж не из мозгляков, поняла сразу. Папина школа.
Павел Девятов был хорош собой, щедр и внимателен. Из достойной семьи – и мама, и папа большие начальники. Папа – по космосу, мама – историк. Жених окончил МГИМО и собирался в командировку. Естественно, за границу. Естественно, в Европу. Без папы-космодела здесь, разумеется, не обошлось.
Повстречались три месяца, и она приняла его предложение. Свадьба была небольшой, но достойной, как выразилась ее свекровь. В ресторане «Космос» – простым смертным путь туда был заказан. Народу было немного – соратники свекра, пара подружек свекрови, очень похожие на саму свекровь: скромно, но дорого одетые дамы в серьезных украшениях и с серьезными мужьями.
Ее родители смотрелись на их фоне, прямо сказать, не слишком достойно. Особенно мать – папаша еще хорохорился. Но – пережили и свадьбу. Через два месяца, глядя в окно самолета, несущего их с мужем в славный город Кельн, она вдруг подумала: «А что я тут делаю? В этом самолете, в этом удобном кресле, рядом с этим достойным человеком? Что ты тут делаешь, Влада?»
И тут же ответила себе: «Я выживаю. Просто нашла себе способ, чтобы не сдохнуть. И осуждать, и жалеть меня – вот точно! – не надо. Каждый кузнец своего счастья, как говорил мой провидец папаша. Мудрец – что говорить. И дочь не отстала – туда же! В кузницу, где куют это самое счастье. Только вот интересно – выкуют ли? И что выкуют, Влада? Посмотрим».
А потом принесли обед, который она с удовольствием съела. Выпила кофе, закрыла глаза, и муж нежно погладил ее по руке.
Внимательный и тонко чувствующий супруг, что называется, уловил настроение.
И это, кстати, он умел делать всегда. В этом ему не откажешь.
Как и во многом, впрочем, другом. Ничего плохого – замечательный человек. А если не складывается, ну, не сложилось, – виновата она. Кузнец своего счастья – как было замечено выше. И больше никто и ни разу. Поверьте!
В Кельне было неплохо. То есть очень даже хорошо, если бы… Это «если бы» включало не так много, но «не так» вполне хватало, чтобы чувствовать себя несчастной.
Она не корила себя за то, что столь поспешно выскочила замуж – без всякой любви и даже влюбленности. Потому что понимала: не сделала бы этого – не уехала бы из Москвы, – было бы в сто раз хуже. Потому что жить с ним в одном городе и дышать одним воздухом было совсем невозможно. А здесь, вдали от дома, да еще и в другой стране – так все поменялось, вся ее жизнь, – все равно было немного легче.
Днем она бродила по городу, заходила в костелы, в магазины, сидела в уютных кафешках с чашечкой кофе, глазела по сторонам, разглядывала прохожих, и боль чуть-чуть отпускала.
Муж по-прежнему был предупредителен и нежен с ней – упрекнуть его было не в чем.
Но разве любишь того, кого не в чем упрекнуть?
Он как будто ничего и не замечал – наверное, думал, что она просто крайне сдержанный человек, замкнутый и холодный. Что ж, наверное, это и неплохо – его раздражали торгпредские сплетницы и балаболки. Такую женщину он бы не выдержал точно.
А его жена была немногословна, обязанности по дому выполняла с достоинством, а что касается интимной, супружеской жизни, – так эта сторона его заботила не слишком. Не все, далеко не все люди на свете стремятся гореть в страстях, пылая на ночных простынях. Все люди разные.
И все же они жили неплохо. Не ругались, не цеплялись друг к другу по пустякам, не раздражались на бытовые мелочи – ей это все было до фонаря, а он – он просто был не брюзга, не зануда.
Через два года она забеременела и родила девочку, дочку. Назвали Наташей. Без выкрутасов. Влада отлично помнила, сколько неприятностей принесло ей собственное имя.
Его она почти не вспоминала – потому что просто запретила себе думать об этом. Не ругала его, не обзывала бранными словами и не желала ему пережить то, что пережила она, – предательство, худший из грехов. В этом она была абсолютно уверена.
Ничего страшнее предательства не бывает. Когда предает любимый, притом что и тени мысли не возникало, что он на это способен, внезапно, резко, как выскакивает из-за угла коварный убийца, маньяк с толстой веревкой, которую он готовится набросить на свою невинную жертву.
Она не желала ему зла – совершенно! Убивала только одна мысль – все эти годы она точила Владу, терзала и мучила: почему? Почему он сделал это именно так? Как это случилось? Из-за чего? Что такого произошло, что он разлюбил ее и не нашел мужества даже объяснить ей причину?
Она что, не заслужила? Не заслужила простого человеческого разговора и объяснения?
Она старалась его не вспоминать. Но всегда знала одно – точнее, не знала, а чувствовала, – она его никогда не забудет. Он всегда будет с ней. Всегда.
И это ужасно.
Спустя четыре года они вернулись в Москву – деньги на кооператив были собраны, машина куплена, обстановку они привезли из Германии. Дочка росла здоровой и сообразительной. Все было отлично. Достаток, покой, комфорт, стабильность – что человеку надо?
Что человеку надо, чтобы быть счастливым?
А надо совсем другое, оказывается. И она про это знала – гораздо лучше других.
Только… только в одном она заблуждалась – в том, что ничего нет на свете страшнее предательства.
Вот это было не так. Бывают на свете вещи и пострашнее. Болезнь, например.
Болезнь как приговор – страшная и смертельная.
Так бывает, любимая, но ты – не узнаешь
Тогда, в том далеком, приснопамятном году, когда перевернулась вся его жизнь, в военном летнем лагере, узнав страшную правду, несколько дней он пролежал на кушетке в лазарете, глядя в низкий и грязноватый, сто лет назад побеленный потолок.
Никто его не трогал – лежи сколько влезет. А встанешь – все решено. Поедешь в столицу. Для тебя, парень, построения и пробежки закончились – и, судя по всему, навсегда.
И ведь ничто не предвещало – совсем ничего! Свалился с банальной, как думали все, простудой – после очередного забега по болотам. Промочил ноги – и пожалуйста, температура. Высокая, правда, – сорок и один. Пошел в лазарет, а там, на его счастье (или несчастье), попалась опытная пожилая врачиха. Что-то заставило ее засомневаться, и она настояла, чтобы из ближайшего поселка прислали лаборанта – взять кровь. Через пару дней с огромным трудом, скандалом и боем лаборант из сельской больницы приехал. А через несколько дней был готов результат.
Предчувствие ее, увы, оправдалось – кровь была кошмарная, и она вопила, кричала о том, что…
В общем, это было заболевание крови. Злокачественное. Проще говоря – рак.
Она вошла к нему в палату, села на стул и стала гладить его по голове. У нее тоже был сын – примерно его возраста, – и она все понимала.
Он открыл глаза и внимательно посмотрел на нее. Понял все моментально.
– Что, Анна Петровна? Плохи наши дела?
Она всхлипнула и кивнула:
– Плохи, Сашуля. Прости, очень плохи.
Пощупала лимфоузлы и покачала головой.
Он выслушал все довольно спокойно и, когда докторица закончила свой печальный рассказ, сказал:
– У меня два вопроса. Точнее, вопрос-то один, и еще одна просьба. Первое – мать не должна ничего об этом знать. Вы понимаете? Зачем ей страдать? И второе – только чистую правду, без экивоков и обиняков, потому что так мне будет проще и легче, вы понимаете?
Анна Петровна вытерла ладонью глаза и кивнула:
– Спрашивай, Саша.
Он громко сглотнул тугой комок, стоящий в горле и мешающий говорить и даже дышать.
– Сколько? – только и спросил он.
Она кивнула:
– Да, я поняла. Коротко и однозначно ответить тебе не могу – бывает по-всякому. Я много видела таких больных, работала когда-то в Омске, в гематологии. Повторю – бывает по-всякому – кому сколько отпущено. Год, пять, десять. Это сейчас, в общем, лечат. В Москве – на Каширке, там целое отделение. Жизнь продлевают, что говорить! Но, Саша, ты должен понять, что это будет за жизнь. Температура, слабость, потеря иммунитета. Кашель, зуд, слабость. Постоянные госпитализации – без этого жить ты не сможешь. Твоя жизнь будет подчинена этой… заразе. Она будет распоряжаться тобой, понимаешь?
– А если, – он снова сглотнул, – а если, ну… наплевать? Делать вид, что не знаешь? Что отпущено, то и отпущено, так? Год, два, три – ну, как придется, как сложится, в общем?
– Не хочешь бороться? – удивилась она. – Ну, здесь ты не прав. А если тебе продлят жизнь на год, на полгода? На три года, ну, или пять? Разве это не стоит того? Каждый день, каждый час?
Он помотал головой.
– День, час, – усмехнулся, – полгода… Не стоит! Валяться по клиникам, жрать таблетки, мучить врачей и мать? Нет, к чертовой матери! Этого мне точно не надо.
– Мать, – повторила врачиха. – А ей будет легче, если ты сложишь лапки? Легче, если ты откажешься от борьбы?
– Легче, – уверенно сказал он, – потому что она ничего не узнает. Я… умру внезапно. Для нее неожиданно. Страшно, конечно, но… Она не будет страдать предварительно и ожидать моей смерти. Я не прав, Анна Петровна? Ну, когда итог в принципе известен?
– Ты, Саша, не прав. Разумеется, очень не прав. Ты так молод, что жизнь для тебя – всего лишь копейка. Разве ты, Саша, слабак? Просто смирился, и все? Нет, миленький мой! Надо бороться. За год, за минуту! Потому что жизнь… главная ценность, поверь старой женщине, Саша!
– Жизнь! – повторил он. – Правильно – жизнь! А не жалкое и убогое существование. В ожидании, простите уж, смерти.
– И это тоже… прости меня, жизнь, – вздохнула она и снова заплакала.
– По мне – нет! – жестко отрезал он. – Я не люблю, когда кто-то меняет мои решения и планы.
– Жизнь твоя, и тебе ею распоряжаться, – вздохнула она. – Надеюсь, ты передумаешь.
Он резко мотнул головой и отвернулся к стене.
Было стыдно – оттого, что все эти бессонные ночи и дни он думал о Владе. Больше о Владе, чем о матери. Думал долго, продумывая все тщательно, до мелочей и подробностей, и вот надумал – лечиться он не пойдет, потому… Ну, не пойдет, и все! Не для него эти бесконечные больницы, капельницы, уколы и прочие медицинские муки.
Матери пока говорить тоже ничего не будет. А там – посмотрим. А Влада… Ну, здесь все предельно ясно – от нее он все это, безусловно, скроет и утаит, иначе она – кто б сомневался! – бросится его лечить и спасать. Она не откажется от него, это понятно. Просто бросит свою молодую прекрасную жизнь на алтарь его спасения!
Загубит себя, превратившись в сиделку и няньку, бросит институт и усядется у постели смертельно больного. Ни покоя, ни нормальной семейной жизни, ни детей, разумеется, – ничего! Ничего у нее не будет, кроме тоскливого запаха болезней и страданий. Кроме бесконечной боли за него. Ну а когда его не станет – никто не знает когда, – она уже превратится в немолодую, бездетную, больную, замученную проблемами женщину. Сломленную и раздавленную. Все.
Он так четко это представил и так четко это увидел, что сразу решил, что ему делать.
Уехать! Уехать подальше – от нее и от матери тоже. И никто не увидит его больным и медленно (или быстро) уходящим из этой жизни и с этой земли.
Решение показалось ему гениальным, и он даже повеселел. Только понял, что видеть ее, говорить с ней, объясняться, придумывать версии, врать ему не под силу.
И наплевать, в конце концов, что она будет думать про него и какими словами поносить, – здесь важно другое: он не испортит ей жизнь!
Она переживет его измену – а куда денется, переживет! Обида и боль канут в Лету, и она разлюбит его, полюбит другого, выйдет замуж, родит ребенка и будет счастлива.
Проживет долгую, счастливую и красивую жизнь – кто, как не она, этого заслуживает!
А он… Он проживет свою – пусть не такую долгую, но все же, надеется, не самую подлую.
Он провалялся еще несколько дней, пока не спала температура, потом пошел к военкому, все ему объяснил. Тот оказался мужиком вменяемым, и хоть решения его не одобрил, но все же помог – с тяжелым, конечно, сердцем. Дал ему адрес своего друга, живущего на Байкале. Тот служил там давно – лесником. Был холост, бездетен, суров, но справедлив. В городе, с людьми, так и не ужился – слишком тяжелый характер.
Военком написал другу письмо. Через пару дней, не заезжая домой – видеть мать тоже было еще каким испытанием, – он уехал туда. На Байкал.
Матери позвонил и наврал с три короба – мол, случилась такая история, влюбился по горло в хорошую девочку. Она тут гостила у бабки – сама не местная, с Байкала. Ну, в общем, он уезжает с ней. Надеюсь, мам, ты поймешь и не осудишь – такая любовь! Фотографии с места обязательно вышлю, ну, а попозже – приедешь сама. Нянчиться с внуками. Почему не заехал – так у нее, у невесты, отпуск закончился. Не очень, конечно, красиво, но… Обстоятельства, мам! Да. Переведусь на заочный, уже узнавал, это можно. И еще – так, мелочовка, – Владе ты, ну… объясни. Можешь наврать – как тебе легче. Да, я сволочь, все понимаю. Но – жизнь, мам, так повернула. Я и сам обалдел. Не верил, что такое бывает. Владу любил? А я и не спорю. Но что поделаешь, мам! Как говорится, прошла любовь, завяли помидоры. Не узнаешь собственного сына? Да я и сам не узнаю себя, мам! Ха-ха! Вот ведь бывает как, а, мамуль? Сам офигел! Ну да, сволочь, конечно! И снова не спорю.
И снова – ха-ха.
Мать, как ни странно, поверила. Вот чудеса! И ничего – как ему казалось – не заподозрила. Да, подтвердила, что он гад и свинья, тут же вспомнила папашу, сказав, что кровь не водица и яблоко от яблони, все понятно. Охала про Владу – разве так можно? Сын, что ты творишь! Про выдуманную невесту сказала коротко – знать ее не хочу!








