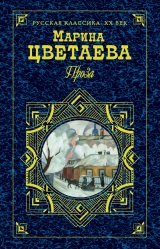
Текст книги "Автобиографическая проза"
Автор книги: Марина Цветаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
– Нет! – уже всхлипывала Ася. – Потому что Андрюша сказал, что ты умрешь и будешь нам показываться…
– Врет! врет! врет.
– …вся в белом. Правда, Муся, он говорил?
– Правда, Муся, что я не говорил? Что это она сказала?
– Во всяком случае – кто бы ни сказал, – а сказал, конечно, ты, Андрюша, потому что Ася еще слишком мала для такой глупости, – сказал глупость. Так сразу умереть и показываться? Совсем я не умру, а наоборот, мы все поедем к морю.
К Морю.
Все предшествовавшее лето 1902 года я переписывала его из хрестоматии в самосшивную книжку. Зачем в книжку, раз есть в хрестоматии? Чтобы всегда носить с собой в кармане, чтобы с Морем гулять в Пачёво и на пеньки, чтобы мойе было, чтобы я сама написала.
Все на воле: я одна сижу в нашей верхней балконной клетке и, обливаясь путом, – от июля, полдня, чердачного верха, а главное от позапрошлогоднего предсмертного дедушкиного карлсбадского добереженого до неносимости и невыносимости платья – обливаясь путом и разрываясь от восторга, а немножко и от всюду врезающегося пикея, переписываю черным отвесным круглым, крупным и все же тесным почерком в самосшивную книжку – «К Морю». Тетрадка для любви худа, да у меня их и нет: мать мне на писание бумаги не дает, дает на рисование. Книжка – десть писчей бумаги, сложенной ввосьмеро, где нужно разрезанной и прошитой посредине только раз, отчего книжка топырится, распадается, распирается, разрывается – вроде меня в моих пикеях и шевиотах – как я ни пытаюсь ее сдвинуть, все свободное от писания время сидя на ней всем весом и напором, а на ночь кладя на нее мой любимый булыжник – с искрами. Не на нее, а на них, ибо за лето – которая?
Перепишу и вдруг увижу, что строки к концу немножко клонятся, либо, переписывая, пропущу слово, либо кляксу посажу, либо рукавом смажу конец страницы – и кончено: этой книжки я уже любить не буду, это не книжка, а самая обыкновенная детская мазня. Лист вырывается, но книга с вырванным листом – гадкая книга, берется новая (Асина или Андрюшина) десть – и терпеливо, неумело, огромной вышивальной иглой (другой у меня нет) шьется новая книжка, в которую с новым усердием: «Прощай, свободная стихия!»
Стихия, конечно, – стихи, и ни в одном другом стихотворении это так ясно не сказано. А почему прощай? Потому что, когда любишь, всегда прощаешься. Только и любишь, когда прощаешься. А «моей души предел желаний» – предел, это что-то твердое, каменное, очень прочное, наверное, его любимый камень, на котором он всегда сидел.
Но самое любимое слово и место стихотворения:
Вотще рвалась душа моя!
Вотще – это туда. Куда? Туда, куда и я. На тот берег Оки, куда я никак не могу попасть потому что между нами Ока, еще в La Chaux de Fonds, в тетино детство, где по ночам ходит сторож с доской и поет: «Guй, bon guй! Il a frappй dix heures!»[45]45
Стража не спит! Пробило десять! (фр.)
[Закрыть] – и все тушат огни, а если не тушат, то приходит доктор или сажают в тюрьму; вотще – это в чуждую семью, где я буду одна без Аси и самая любимая дочь, с другой матерью и с другим именем – может быть, Катя, а может быть, Рогнеда, а может быть, сын Александр.
Ты ждал, ты звал.
Я был окован.
Вотще рвалась душа моя!
Могучей страстью очарован
У берегов остался я.
Вотще – это туда, а могучей страстью – к морю, конечно. Получалось, что именно из-за такого желания туда Пушкин и остался у берегов.
Почему же он не поехал? Да потому, что могучей страстью очарован, так хочет – что прирос! (В этом меня утверждал весь мой опыт с моими детскими желаниями, то есть полный физический столбняк.) И, со всем весом судьбы и отказа:
У берегов остался я.
(Боже мой! Как человек теряет с обретением пола, когда вотще, туда, то, там начинает называться именем, из всей синевы тоски и реки становится лицом, с носом, с глазами, а в моем детстве и с пенсне, и с усами… И как мы люто ошибаемся, называя это – тем, и как не ошибались – тогда!).
Но вот имя – без отчества, имя, к которому на могильной плите последние верные с непогрешимым чутьем малых сил отказались приставить фамилию (у этого человека было два имени, фамилии не было) – и плита осталась пустой.
Одна скала, гробница славы…
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон…
О, прочти я эти строки раньше, я бы не спросила: «Мама, что такое Наполеон?» Наполеон – тот, кто погиб среди мучений, тот, кого замучили. Разве мало – чтобы полюбить на всю жизнь?
…И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.
Вижу звездочку и внизу сноску: Байрон.
Но уже не вижу звездочки; вижу: над чем-то, что есть – море, с головой из лучей, с телом из тучи, мчится гений. Его зовут Байрон.
Это был апогей вдохновения. С «Прощай же, море…» начинались слезы. «Прощай же, море! Не забуду…» – ведь он же это морю – обещает, как я – моей березе, моему орешнику, моей елке, когда уезжаю из Тарусы. А море, может быть, не верит и думает, что – забудет, тогда он опять обещает: «И долго, долго слышать буду – Твой гул в вечерние часы…» (Не забуду – буду —)
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.
И вот – видение: Пушкин, переносящий, проносящий над головой – все море, которое еще и внутри него (тобою полн), так что и внутри у него все голубое – точно он весь в огромном ду неба хрустальном продольном яйце, которое еще и в нем (Моресвод). Как тот Пушкин на Тверском бульваре держит на себе все небо, так этот перенесет на себе – все море – в пустыню и там прольет его – и станет море.
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.
Когда я говорила волн, слезы уже лились, каждый раз лились, и от этого тоже иногда приходилось начинать новую десть.
__________
Об этой любви моей, именно из-за явности ее, никто не знал, и когда в ноябре 1902 года мать, войдя в нашу детскую, сказала: к морю – она не подозревала, что произносит магическое слово, что произносит К Морю, то есть дает обещание, которое не может сдержать.
С этой минуты я ехала К Морю, весь этот предотъездный, уже внешкольный и бездельный, бесконечный месяц одиноко и непрерывно ехала К Морю.
По сей день слышу свое настойчивое и нудное, всем и каждому: «Давай помечтаем!» Под бред, кашель и задыхание матери, под гулы и скрипы сотрясаемого отъездом дома – упорное – сомнамбулическое-и диктаторское, и нищенское: «Давай помечтаем!» Ибо прежде, чем поймешь, что мечта и один – одно, что мечта – уже вещественное доказательство одиночества, и источник его, и единственное за него возмещение, равно как одиночество – драконов ее закон и единственное поле действия – пока с этим смиришься – жизнь должна пройти, а я была еще очень маленькая девочка.
– Ася, давай помечтаем! Давай немножко помечтаем! Совсем немножко помечтаем!
– Мы уже сегодня мечтали, и мне надоело. Я хочу рисовать.
– Ася! Я тебе дам то, Сергей-Семёныча, яичко.
– Ты его треснула.
– Я его внутри треснула, а снаружи оно целое.
– Тогда давай. Только очень скоро давай – помечтаем, потому что я хочу рисовать.
Яичко давалось, но тут же и отбиралось, потому что у Аси, кроме камешков и ракушек, в резерве морской мечты не было ничего. Иногда я ее, за эти ракушки, била.
С Асей К Морю дробилось на гравий, со старшей сестрой Валерией, море знавшей по Крыму, превращалось в татарские туфли – и дачи – и глицинии – в скалу Деву и в скалу Монах, во все что угодно превращалось – кроме самого себя, и от моего моря после таких «давай помечтаем» не оставалось ничего, кроме моего тоскливого неузнавания.
Чего же я от них – Аси, Валерии, гувернантки Марии Генриховны, горничной Ариши, тоже ехавшей, – хотела?
Может быть – памятника Пушкина на Тверском бульваре, а под ним – говора волн? Но нет – даже не этого. Ничего зрительного и предметного в моем К Морю не было, были шумы – той розовой австралийской раковины, прижатой к уху, и смутные видения – того Байрона и того Наполеона, которых я даже не знала лиц, и, главное, – звуки слов, и – самое главное – тоска: пушкинского призвания и прощания.
И если Ася, кем-то наученная, говорила «камешки, ракушки», если Валерия, крымским опытом наученная, называла глицинии и Симеиз, я, при всем своем желании, не могла сказать – назвать – ничего.
__________
Но в самую последнюю минуту пришла подмога: первая и единственная морская достоверность: синяя открытка от Нади Иловайской из того самого Nervi, куда ехали – мы. Вся – синяя: таких сплошных синих мест и открыток я еще не видела и не знала, что они есть.
Черно-синие сосны – светло-синяя луна – черно-синие тучи – светло-синий столб от луны – и по бокам этого столба – такой уж черной синевы, что ничего не видно – море. Маленькое, огромное, совсем черное, совсем невидное – море. А с краю, на тучах, которыми другой от нас умчался гений, немножко задевая око луны – лиловым чернилом, кудрявыми, как собственные волосы, буквами: «Приезжайте скорее. Здесь чудесно».
Этой открыткой я завладела. Эту открытку я у Валерии сразу украла. Украла и зарыла на дне своей черной парты, немножко как девушки дитя любви бросают в колодец – со всей любовью! Эту открытку я, держа лбом крышку парты, постоянно молниеносно глядела, прямо жгла и жрала ее глазами. С этой открыткой я жила – как та же девушка с любимым – тайно, опасно, запретно, блаженно.
На дне черного гроба и грота парты у меня лежало сокровище. На дне черного гроба и грота парты у меня лежало – море. Мое море, совсем черное от черноты парты – и дела. Ибо украла я его – чтобы не видели другие, чтобы другие, видевшие – забыли. Чтобы я одна. Чтобы – мое.
Так, с глубоко– и жарко-розовой австралийской раковиной у уха, с сине-черной открыткой у глаз я коротала этот самый длинный, самый пустынный, самый полный месяц моей жизни, мой великий канун, за которым никогда не наступил – день.
__________
– Ася! Муся! Глядите! Море!
– Где? Где?
– Да – вот!
Вот – частый лысый лес, весь из палок и веревок, и где-то внизу – плоская серая, белая вода, водица, которой так же мало, как той, на картине явления Христа народу.
Это – море? И, переглянувшись с Асей, откровенно и презрительно фыркаем.
Но – мать объяснила, и мы поверили: это Генуэзский залив, а когда Генуэзский залив – всегда так. То море – завтра.
Но завтра и много, много завтр опять не оказалось моря, оказался отвес генуэзской гостиницы в ущелье узкой улицы, с такой тесноты домами, что море, если и было бы – отступило бы. Прогулки с отцом в порт были не в счет. На то «море» я и не глядела, я ведь знала, что это – залив.
Словом, я все еще К Морю ехала, и чем ближе подъезжала – тем меньше в него верила, а в последний свой генуэзский день и совсем изверилась и даже мало обрадовалась, когда отец, повеселев от чуть подавшейся ртути в градуснике матери, нам – утром: «Ну, дети! Нынче вечером увидите море!» Но море – все отступало, ибо, когда мы наконец после всех этих гостиниц, перронов, вагонов, Модан и Викторов-Эммануилов «нынче вечером» со всеми нашими сундуками и тюками ввалились в нервийский «Pension Russe» – была ночь и страшным глазом горел и мигал никогда не виданный газ, и мать опять горела как в огне, и я бы лучше умерла, чем осмелилась попроситься «к морю».
Но будь моя мать совсем здорова и так же проста со мной, как другие матери с другими девочками, я бы все равно к нему не попросилась.
Море было здесь, и я была здесь, и между нами – ночь, вся чернота ночи и чужой комнаты, и эта чернота неизбежно пройдет – и будут наши оба здесь.
Море было здесь, и я была здесь, и между нами – все блаженство оттяжки.
О, как я в эту ночь к морю – ехала! (К кому потом так – когда?) Но не только я к нему, и оно ко мне в эту ночь – через всю черноту ночи – ехало: ко мне одной – всем собой.
Море было здесь, и завтра я его увижу. Здесь и завтра. Такой полноты владения и такого покоя владения я уже не ощутила никогда. Это море было в мою меру.
Море здесь, но я не знаю где, а так как я его не вижу – то оно совсем везде, нет места, где его нет, я просто в нем, как та открытка в черном гробу парты.
Это был самый великий канун моей жизни.
Море – здесь, и его – нет.
__________
Утром, по дороге к морю, Валерия:
– Чувствуешь, как пахнет? Отсюда – пахнет!
Еще бы не почувствовать! Отсюда пахнет, и повсюду пахнет, но… в том-то и дело, что не узнаю: свободная стихия так не пахла, и синяя открытка так не пахла.
Настораживаюсь.
__________
Море. Гляжу во все глаза. (Так я, восемнадцать лет спустя, во все глаза впервые глядела на Блока.)
Черная приземистая скала с высоким торчком железной палки.
– Эта скала называется лягушка, – торопливо знакомит рыжий хозяйский сын Володя. – Это – наша лягушка.
От меня до лягушки – немножко: немножко очень чистой, очень светлой воды: на дне камешки и стеклышки (Асины).
– А это – грот, – поясняет Володя, глядя себе под ноги, – тоже наш грот, здесь все наше, – хочешь, полезем! Только ты провалишься!
Лезу и проваливаюсь, в своих тяжелых русских башмаках, в тяжелом буром, вроде как войлочном, платье сразу падаю в воду (в воду, а не в море), а рыжий Володя меня вытаскивает и выливает воду из башмаков, а потом я рядом с башмаками сижу и в платье сохну – чтобы мать не узнала.
Ася с Володей, сухие и уже презрительные, лезут на «пластину», гладкую шиферную стену скалы, и оттуда из-под сосен швыряют осколки и шишки.
Я сохну и смотрю: теперь я вижу, что за скалой Лягушка – еще вода, много, чем дальше – тем бледней, и что кончается она белой блестящей линеечной чертою – того же серебра, что все эти точки на маленьких волнах. Я вся соленая – и башмаки соленые.
Море голубое – и соленое.
И, внезапно повернувшись к нему спиной, пишу обломком скалы на скале:
Прощай, свободная стихия!
Стихи длинные, и начала я высоко, сколько руки достало, но стихи, по опыту знаю, такие длинные, что никакой скалы не хватит, а другой, такой же гладкой, рядом – нет, и все же мельчу и мельчу буквы, тесню и тесню строки, и последние уже бисер, и я знаю, что сейчас придет волна и не даст дописать, и тогда желание не сбудется – какое желание? – ах, К Морю! – но, значит, уже никакого желания нет? но все равно – даже без желания! я должна дописать до волны, все дописать до волны, а волна уже идет, и я как раз еще успеваю подписаться:
Александр Сергеевич Пушкин —
и все смыто, как языком слизано, и опять вся мокрая, и опять гладкий шифер, сейчас уже черный, как тот гранит…
__________
Моря я с той первой встречи никогда не полюбила, я постепенно, как все, научилась им пользоваться и играть в него: собирать камешки и в нем плескаться – точь-в-точь как юноша, мечтающий о большой любви, постепенно научается пользоваться случаем.
Теперь, тридцать с лишним лет спустя, вижу: мое К Морю было – пушкинская грудь, что ехала я в пушкинскую грудь, с Наполеоном, с Байроном, с шумом, и плеском, и говором волн его души, и естественно, что я в Средиземном море со скалой-лягушкой, а потом и в Черном, а потом в Атлантическом, этой груди – не узнала.
В пушкинскую грудь – в ту синюю открытку, всю синеву мира и моря вобравшую.
(А вернее всего – в ту раковину, шумевшую моим собственным слухом.)
К Морю было: море + любовь к нему Пушкина, море+поэт, нет! – поэт + море, две стихии, о которых так незабвенно – Борис Пастернак:
Стихия свободной стихии
С свободной стихией стиха, —
опустив или подразумев третью и единственную: лирическую. Но К Морю было еще и любовь моря к Пушкину: море – друг, море – зовущее и ждущее, море, которое боится, что Пушкин – забудет, и которому, как живому, Пушкин обещает, и вновь обещает. Море – взаимное, тот единственный случай взаимности – до краев и через морской край наполненной, а не пустой, как счастливая любовь.
Такое море – мое море – море моего и пушкинского К Морю могло быть только на листке бумаги – и внутри.
И еще одно: пушкинское море было – море прощания. Так с морями и людьми – не встречаются. Так – прощаются. Как же я могла, с морем впервые здороваясь, ощутить от него то, что ощущал Пушкин – навсегда с ним прощаясь. Ибо стоял над ним Пушкин тогда в последний раз.
Мое море – пушкинской свободной стихии – было море последнего раза, последнего глаза.
Оттого ли, что я маленьким ребенком столько раз своею рукой писала: «Прощай, свободная стихия!» – или без всякого оттого – я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием, не на жизнь Β на смерть.
И, в совсем уже ином смысле, моя встреча с морем именно оказалась прощанием с ним, двойным прощанием – с морем свободной стихии, которого передо мной не было и которое я, только повернувшись к настоящему морю спиной, восстановила – белым по серому – шифером по шиферу – и прощанием с тем настоящим морем, которое передо мной было и которое я, из-за того первого, уже не могла полюбить.
И – больше скажу: безграмотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказалась – прозрением: «свободная стихия» оказалась стихами, а не морем, стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются – никогда.
1937
ХЛЫСТОВКИ
Существовали они только во множественном числе, потому что никогда не ходили по одной, а всегда по две, даже с одним решетом ягод приходили по две, помоложе с постарше, – чуть-помоложе с чуть-постарше, ибо были они все какого-то собирательного возраста, – возраста собственного числа – между тридцатью и сорока, и все на одно лицо, загарное, янтарное, и из-под одинакового платочного – белого, и бровного черного края ожигало вас одинаковое, собирательное, око, тупилось в землю крупное коричневое веко с целой метелкой ресниц. И имя у них было одно, собирательное, и даже не имя, а отчество: Кирилловны, а за глаза – хлыстовки.
Почему Кирилловны? Когда никакого Кирилла и в помине не было. И кто был тот Кирилл, действительно ли им отец, и почему у него было сразу столько – тридцать? сорок? больше? – дочерей и ни одного сына? Потому что тот рыжий Христос, явно не был его сын, раз Кирилловнам – не брат. Теперь бы я сказала: этот многодочерний Кирилл существовал только как дочернее отчество. Тогда же я над этим не задумывалась, как не задумывалась над тем, почему пароход – «Екатерина». Екатерина – и всё тут. Кирилловны – и всё тут.
Острое ж звучание «хлыстовки», могшее бы поразить несоответствием с их степенностью и пристойностью, мною объяснялось ивами, под которыми и за которыми они жили – как стая белоголовых птиц, белоголовых из-за платков, птиц – из-за вечной присказки няни, ведшей мимо: «А вот и ихнее гнездо хлыстовское», – без осуждения, а так, простая отмета очередного с дачи Песочной в Тарусу этапа: «Вот и часовню миновали… Вот и колода видна: полдороги… А вот и ихнее…»
Ихнее гнездо хлыстовское было, собственно, входом в город Тарусу. Последний – после скольких? – спуск, полная, после столького света, тьма (сразу полная, тут же зеленая), внезапная, после той жары, свежесть, после сухости – сырость, и, по раздвоенному, глубоко вросшему в землю, точно из нее растущему бревну, через холодный черный громкий и быстрый ручей, за первым по левую руку ивовым плетнем, невидимое за ивами и бузиною – «ихнее гнездо хлыстовское». Именно гнездо, а не дом, потому что дом за всеми этими зарослями был совершенно невидим, а если и приоткрывалась изредка калитка, глаз, потрясенный всей той красотой и краснотой, особенно смородинной, того сереющего где-то навеса и не отмечал, не включал его, как собственного надбровного. О доме Кирилловн никогда не было речи, только о саде. Сад съедал дом. Если бы меня тогда спросили, чту хлыстовки делают, я бы, не задумываясь: «Гуляют в саду и едят ягоды».
Но еще о входе. Это был вход в другое царство, этот вход сам был другое царство, затянувшееся на всю улицу, если ее так можно назвать, но назвать так нельзя, потому что слева, кроме нескончаемого их плетня, не было ничего, а справа – лопух, пески, та самая «Екатерина»… Это был не вход, а переход: от нас (одинокого дома в одинокой природе) – туда (к людям, – на почту, на ярмарку, на пристань, в лавку Наткина, позже ― на городской бульвар), – средостояние, междуцарствие, промежуточная зона. И, вдруг, озарение: а ведь не вход, не переход – выход! (Ведь первый дом – всегда последний дом!) И не только из города Тарусы выход, – из всех городов! Из всех Тарус, стен, уз, из собственного имени, из собственной кожи – выход! Из всякой плоти – в простор.
Из всей Тарусы, верней, из всех «гостей», то есть сластей, чужих детей… я больше всего любила эту секунду спуска, входа, нисхождения – в зеленую, холодную, ручьевую тьму, миновения – серого нескончаемого ивово-бузинного плетня, за которым – так это у меня и осталось – все ягоды зреют сразу, клубника, например, вместе с рябиной, за которым всегда лето, все лето сразу, со всем, чту в нем красного и сладкого, где стуит только войти (но мы никогда не входили!), все тебе в руку сразу: и клубника, и вишни, и смородина, и, особенно, бузина!
Вот яблок не помню. Помню только ягоды. Да яблок, как ни странно в таком городе, как Таруса, где их в урожайный год Β каждый был урожайным! – на базар выносили бельевыми корзинами и их уж и свиньи не ели, – яблок у Кирилловн не было, потому что приходили они за ними к нам, в наш «старый сад», то есть нами состаренный и запущенный, с одичавшими ценнейшими сортами, полусъедобными, шедшими только на сушку. Но не они приходили за яблоками, не те, степенные, дулуокие, а оне, то есть ихняя Богородица с Христом, рыжим, худым, с раздвоенной бородой и глазами – теперь бы сказала: очень рвано одетым и босым, их Христос – с ихней Богородицей, старой, уже не янтарной, а кожевенной, кожаной, и хотя и не рваной, но все-таки страшноватой. Отношение у родителей к этим набегам было… судьбинное.
«Опять Христос приходил за яблоками…» или «Опять Богородица с Христом возле ходят…» Те не спрашивали, эти не запрещали. Богородица с Христом были вроде домашнего бедствия, положенной напасти, рока, унаследованного вместе с домом, потому что Кирилловны в Тарусе были раньше нас, раньше всех, может быть, даже раньше самих татар, ржавые ядра которых (?) мы находили в ручье. Это был не набег, а побор. Нужно, однако, прибавить, что, когда мы, дети, их за этим делом заставали, они, особенно Христос, все-таки сторонились, хоронились, уединялись за другую яблоню, где Богородица уже торопливо донабивала большой холщовый мешок. Не говорили они в такие минуты друг с другом ничего, да и нам бы в голову не пришло голосом подтвердить свое присутствие, мы как-то молчаливо условились, что они – не делают, а мы – не видим, что кого-то, либо их, либо нас, а может быть, и тех, и других – нет, что это все – так себе…
– Папа! Христа видели!
– Опять приходил?
– Да.
– Ну, и Христос с ним!..
Про унесенные яблоки родители не спрашивали, а мы не сообщали. Иногда мы рыжего Христа заставали тут же спящим в стогу сена. Старая Богородица сидела рядом и обвевала его от мух. Тогда мы, не сказав ни слова, на цыпочках, высоко подняв брови и глазами указывая друг другу на «находку», уходили, отходили к нашей «яме», где сидели, болтая ногами, косясь на всё-спящего и всё отгоняющую. Иногда няня не нам, а при нас говорила – бонне, что Христос этот горький пьяница и что опять его подобрали в канаве, но так как мы сами сидели в канаве, нас это не изумляло, слово же горький для нас объясняло пьяницу, вызывая во рту живую полынь (мы постоянно ели всё), после которой можно выпить целое ведро.
Иногда Христос пел, а Богородица подпевала, и нас совершенно не удивляло, что поет она больше мужским, а он – скорее женским, тонким, и не удивляло, во-первых, потому, что цветаевских детей ничто не удивляло, во-вторых же, потому, что она была темная и крепкая, а он – светлый и слабый, и получалось, что каждый поет именно своим голосом, себе в масть и в мощь, – как комар, например, и шмель. И шла в нашу зеленую канаву из яблонной зеленой дичи песня про какие-то сады зеленые… Мы даже никогда не задумывались (и сейчас не знаю), были ли они мать и сын, так же, как никогда не спросили не только родителей, но даже няни, которой не боялись, почему Богородица и Христос, и не потому, что мы верили, что это – те, с иконы (те – на иконе, а кроме того, все-таки – яблоки…) – не те, но и не не-те. Может быть, и сами имена внушали трепет – не может же каждый называться Богородицей и Христом! – и устанавливали какую-то их несомненность и неподсудность. Наше тогдашнее чувство рассуждало приблизительно так:
«Раз они воруют яблоки, то не совсем Христос и Богородица, но так как они все-таки Христос и Богородица, значит, не совсем воруют». Да и не воровали – брали, а скрывались, теперь вижу, не от нас (дети сами – нищие и воры), а от глаз. Так звери, так дети (и не только дети и звери, прошу верить!) не выносят, когда на них смотрят. Словом, для нас эта бродячая пара была не просто – люди, а если не настоящие те, то все-таки как-то – тоже. Жили (то есть ходили, про жизнь ничего не знаю) Христос и Богородица от других отдельно, и всегда вместе, никогда порознь, и я часто думала, на них глядя: «Так, должно быть, та Богородица ходила за тем Христом», – потому что она именно за ним ходила, именно по пятам, ровно настолько отставая, чтобы не наступить ему на пяту (босую). Ходила, и телом, будто поддерживала, – он весь был расслабленный, весь расстроенный, точно шел не туда, куда сам хочет, а куда нога хочет, да и нога-то не твердо знала, куда: то в колею, то о камень, то на кочку, а то вовсе без всякого смыслу – вкось. Так их встречали и на базаре, и по дорогам, и в лопушиных полях, на Оке… Но – как те, сестры, за яблоками никогда не приходили, так эти, мать и сын, ягод никогда не приносили, даже и подумать бы дико, что вдруг Христос – викторию принес! И, поскольку низко кланялись при встрече Кирилловны, постольку никогда не кланялась Богородица, про Христа и говорить нечего – не только взглядом, всем телом мимо глядел! – Барыня! Кирилны викторию принесли… Брать прикажете? Стоим в сенях, мать спереди, мы, по трусости, чтобы не выказать внезапной на лице жадности (бессознательное матерью преследовалось больше всего!) – за ней, чуть-чуть из-за ее бока вытягивая шею. Оторвешься, наконец, от клубничной россыпи и вдруг встретишься с только чуть поднятым от земли (мы были такие маленькие!) хлыстовкиным взглядом, с понимающей ее усмешкой. И пока пересыпают из решета в миску ягоды, Кирилловна (которая? всй одна! одна во всех тридцати лицах, под всеми тридцатью платками!), не отпуская все еще потупленными глазами уходящую спину матери, спокойно и неторопливо – в ближайший, смелейший, жаднейший рот (чаще – мой!) ягоду за ягодой, как в прорву. Откуда она знала, что мать не позволяет есть – так, до обеду, по многу сразу, вообще – жадничать? Оттуда же, откуда и мы, – мать нам словами никогда ничего не запрещала. Глазами – всё.
Кирилловны, удостоверяю это с усладой, меня любили больше всех, может быть, именно за эту мою жадность, цветущесть, крепость, – Андрюша был высок и худ, Ася мала и худа, – за то, что такую вот дочку они бы, бездетные, хотели, одну – на всех!
«А меня хлыстовки больше любят! – с этой мыслью я, обиженная, засыпала. – Асю больше любят мама, Августа Ивановна, няня (папа по доброте „больше любил“ – всех), а меня зато – дедушка и хлыстовки!» Поблагодарил бы меня чинный остзейский выходец за такое объединение!
Есть у меня из всех видений райского сада Тарусы одно самое райское, потому что – единственное. Хлыстовки нас всем семейством пригласили на сенокос, и, о удивление, изумление (мать не выносила семейных прогулок, вообще ничего – скопом, особенно же своих детей – на людях), о, полное потрясение, нас – взяли. Настоял, конечно, отец.
– Эту будет тошнить, – возражала поверх моей заранее виноватой головы мать, – непременно растрясет на лошадях и будет тошнить. Ее всегда тошнит, везде тошнит, совершенно не понимаю, в кого она. Папашу (так она звала того «дедушку») не тошнит, меня не тошнит, тебя не тошнит, наконец ни Лёру, ни Андрюшу, ни Асю не тошнит, а ее от одного вида колес уже тошнит.
– Ну, стошнит… – кротко соглашается отец, – стошнит, и вся беда… (И, явно уже думая о другом:) стошнит – и чудесно. (И, спохватываясь:) А может быть, и нет – на свежем воздухе…
– При чем тут свежий воздух? – горячится мать, заранее оскорбленная дорожным зрелищем. – Что вагон – что воз – что лодка – что ладно, на рессорах, и без рессор, на пароме, на ascenseur'e[46]46
Лифте (фр.).
[Закрыть] – всегда тошнит, везде тошнит, а еще морской назвали!
– Меня пешком не тошнит, – робко-запальчиво вставляю я. расхрабрившись от присутствия отца.
– Посадим лицом к лошадям, возьмем мятных лепешек, – уговаривает отец, – платье, наконец, на смену…
– Только я с ней рядом сидеть не хочу! Ни рядом, ни напротив! – раздражается Андрюша, давно уже мрачневший лицом. – Каждый раз меня с ней сажают, как тогда в вагоне, помнишь, мама, когда…
– Возьмем одеколону, – продолжает отец, – а рядом сяду – я. (Ты только, пожалуйста, не удерживайся, – конфиденциально, мне, – замутит – скажи, остановим лошадей, и слезешь, продышишься. Не на пожар ведь… А действительно странно: отчего тебя всегда тошнит? – И, примирительно: – Природа, природа. ничего с ней не поделаешь. Даже так можешь: «Папа, мне хочется сорвать во-он тот мак!» Соскочишь побыстрее и побежишь подальше – чтобы не расстраивать маму!)
Словом, поехали – и с тем самым моим маком в руке – доехали – до хлыстовского сенокоса, далеко за Тарусой, в каких-то их разливанных лугах.
– Ай Марина-малина, чего ж ты такая зеленая? Рано встала, голубка? Не проспалась, красавица? – Кирилловны – окружая, оплетая, увлекая, передавая из рук в руки, точно вовлекая меня в какой-то хоровод, все сразу и разом завладевая мной, словно каким-то своим общим хлыстовским сокровищем. Своих – ни папы, ни мамы, ни бонны, ни няни, ни Лёры, ни Андрюши, ни Аси, я в том раю не помню. Я была – их. С ними гребла и растрясала, среди них, движущихся, отлеживалась, с ними ныряла и вновь возникала, как та жучка в бессмертных стихах («впопыхах!»), с ними ходила на ключ, с ними разводила костер, с ними пила чай из огромной цветной чашки, как они, отгрызая сахар, с ними бы…
«Маринушка, красавица, оставайся с нами, будешь наша дочка, в саду с нами жить будешь, песни наши будешь петь…» – «Мама не позволит». – «А ты бы осталась?» Молчу. «Ну, конечно бы не осталась – мамашу жалко. Она тебя небось во-он как любит?» Молчу. «Небось, и за деньги не отдаст?» – «А мы мамашу и не спросим, сами увезем! – какая-то помоложе. – Увезем и запрем у себя в саду и никого пускать не будем. Так и будет она жить с нами за плетнем. (Во мне начинает загораться дикая жгучая несбыточная безнадежная надежда: а вдруг?) Вишни с нами будешь брать, Машей тебя будем звать…» – та же, певуче. «Не бойся, голубка, – постарше, приняв мой восторг за испуг, никто тебя не возьмет, а придешь ты к нам в гости в Тарусу с папашей и с мамашей, али с нянькой – небось каждый воскресный день мимо ходите, все на вас смотрим, вы-то нас не видите, а мы-то все-о видим, всех… В белом платье придешь пикеевом, нарядная, в башмачках на пуговках…» – «А мы тебя оденем в на-аше! – подхватывает та певучая неугомонная, – в черную ря-ску, в белый платочек, и волоса твои отрастим, коса будет…» – «Да что ты ее, сестрица, страшишь! Еще впрямь поверит! Каждому своя судьба. Она и так наша будет, – гостья наша мечтанная, дочка мысленная…»







