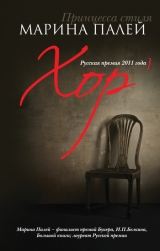
Текст книги "Хор"
Автор книги: Марина Палей
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Дети, Фред и Ларс, вели себя очень хорошо, и Андерс ими втайне гордился. Оба мальчика внешне были поразительно похожи на жену, и Андерса до слез умилял еще один вариант ее прекрасного облика, четко проступавший в лицах и повадках двух маленьких мужчин.
8.
За пасхальным столом речь повелась о том, что сегодня погода немножечко хуже, чем вчера. Но завтра, кажется, будет немножечко лучше той, которую мы имеем сегодня. А послезавтра, кажется, будет опять немножечко хуже.
Разговор плавно перетек на цены. Оказалось, что есть вещи дорогие, и таковых много. А есть очень, очень дорогие, таковых меньше, но это все равно плохо. Потому что, когда ты должен платить много денег, из своего кармана, это всегда глупо и очень для тебя плохо. Когда ты покупаешь недорогие вещи, это всегда для тебя лучше, так ведь? Гораздо, гораздо лучше. Но и недорогих не так много. Потому что все хотят купить подешевле, а? О, йа-а-а… И поэтому необходимо правильно делать свой выбор, хотя это трудно. Да, это оч-чень трудно. Зато если покупаешь вещь подешевле, такая покупка экономит твои деньги, и это для тебя хорошо. Йа, нату-у-у-урлих!.. Но надо при этом видеть и качество вещи. Потому что если качество вещи плохое, то это значит просто выбросить свои деньги на ветер! А ведь это же деньги! Йа, нату-урлих!.. Разве это не глупо, а? Просто подарить кому-то свои деньги!.. Тогда уж лучше купить вещь немножечко подороже. Потому что если покупаешь вещь немножечко подороже, но вещь хорошего качества, то это, в конечном итоге, будет для тебя, значительно дешевле, так? Йа, безусловно. Не так уж глупо, а? Хе-хе. И это экономит твои деньги, а? Йа, йа, хе-хе-хе. А если ты покупаешь сразу несколько вещей, по скидке, то это также экономит и твою энергию, а? О, йа-а-а-а… Потому что ты покупаешь вещи один раз, а не много раз. Йа… Йа… Если покупать вещи много раз, но помалу, то скидка меньше. А если скидка меньше, это глупо. Нату-у-у-урлих. Надо стремиться к тому, чтобы скидка была большой, так? Да, это правда. Каждый человек к этому стремится, ту-урлих. Потому что когда ты получаешь большую скидку, это экономит тебе больше денег. Маленькая скидка экономит тебе меньше денег, это ведь очень плохо, йа-а-а? Поэтому когда вещи большие, хорошие и с хорошей большой скидкой, это лучше всего.
9.
За столом шутили. Йохан, супруг Кристы, рассказывал, как на прошлой неделе, в ресторане, официант забыл включить в счет мороженое, и как он, Йохан, показав ему пальцем на пустые вазочки, сказал: «А за это, дружок, ты собираешься платить из своего карманчика, да?» Все очень смеялись, особенно хозяйка дома,а багровый Йохан, трясясь от смеха, все повторял: «Из своего карманчика, да?»
Затем было любимое блюдо Андерса: вареный, очень горячий, приятно горчащий witlof, *
[Закрыть] обернутый тонким срезом молодого сыра, нежно на нем таявшем, а поверх еще обернутый аккуратным розовым платочком ветчины (которую и склеивал с witlof этот плавно таявший сыр). На стол, кроме того, было поставлено блюдо с крупнонарезанным салатом и два флакончика с густым и пряным, фисташкового цвета, соусом.
Когда все закончили свои порции, было предложено взять добавку. Каждый гость, улыбаясь и перемигиваясь с другими, слегка покачал округленной кистью возле своей щеки, что означало heel lekker, delicious, leuk! **
[Закрыть] Наконец закончили и добавку. На десерт каждый получил свой кусочек шоколадного кекса с долькой апельсина.
Когда все закончили свой десерт, меврау ван Риддердейк, снова подчеркивая чужеродность жены Пима (которая уже седьмой год понимала по-нидерландски), снова сказала «Now we have Тhe Special Мoment» (у нее был типичный «steenkool Engels» ***
[Закрыть]); затем – легонько мазнув себе средним пальцем лоб, грудь, плечи, – оцепенела; снова легко и сухо перекрестилась; синхронно с ней все это проделали остальные.
*
[Закрыть]Витлоф. Распространённый гарнир. Салатный листовой цикорий, или эндивий. (Нидерландск.)
**
[Закрыть]Lekker(Нидерландск.) Вкусно. Delicious(Англ.) Здесь: восхитительно. Leuk(Нидерландск.) Здесь: классно, чудесно.
***
[Закрыть]«Каменноугольный английский». Так в Нидерландах иронично называют примитивный английский – имея в виду язык голландских простонародных эмигрантов (прошлых времён), которым те пользовались в Англии, нанимаемые, главным образом, в угольно-добывающую промышленность. (Прим. автора.)
10.
Закончив основную часть пасхальную трапезы, гости Бертыван Риддердейк неторопливо вернулись в гостиную – то есть со стульев вокруг обеденного стола, проплыв сквозь дверной проем, плавно перетекли на кожаный, упоительно пухлый диван и в мягкие кресла вокруг экономно сервированного кофейного столика.
Дети, по их просьбе, были отпущены в маленький садик, находившийся прямо за раздвижною стеклянною дверью. Взрослые сели: кто на диван, кто в пухлые кожаные кресла возле низкого столика перед камином. На столике уже стоял деревянный, оснащенный ручками, поднос с двумя горками чашек, маленькой сахарницей, молочником в форме гномика и блестящим металлическим кофейником. Отдельно на подносе располагалась чайная группа (особенно привлекательная для Андерса, никогда не пившего кофе): по случаю Пасхи в ней красовалась маленькая оранжевая жестяная коробка с английским чаем. Рядом стоял фарфоровый дельфтский чайничек (на боках которого маленькие синие конькобежцы раскатывали по белому, с блеском, озеру, а вдали торчали синие заячьи уши мельницы).
Меврау ван Риддердейк взяла чайничек, сняла крышку, открепила висящее на цепочке серебряное дырчатое яйцо и откинула его верхнюю половинку. Потом она вытащила из орехового (сильно потемневшего от старости) пенала дозировочную ложечку, открыла жестяную коробку, и, несколько раз зачерпнув этой ложечкой сухих ярко-черных чайных личинок (встряхивая при том ложечку после каждого зачерпывания, чтоб та не была с горкой), она осторожно пересыпала заварной чай в серебряное яйцо, наполнив его чуть меньше, чем наполовину. Затем она закрыла яйцо, прицепила его к краю отверстия, тем самым подвесив внутри чайничка, и налила в чайничек из другого, более крупного никелированного чайника, вскипевшую воду. Дельфтский чайничек она быстро закрыла крышкой и водрузила на фарфоровую, тоже дельфтскую, круглую подставку в виде крепостной стены, внутри которой, посверкивая сквозь маленькие бойницы-сердечки, горели, согревая свежеприготовленный чай, три круглых, плоских, как таблетки, парафиновых свечки, vaccines. А никелированный чайник она отнесла на кухню.
Затем, на пути из кухни, меврау ван Риддердейк подошла к ореховому буфету, отперла дверцу и, выложив из него в вазочку несколько мелких песочных печеньиц, мгновенно сочла их глазами.
Печеньиц оказалось десять.
Затем она, так же – молча, глазами, – сосчитала, сколько людей находится в гостиной.
Вместе с нею количество людей было равно девяти.
Она вернула одно печеньице в буфет и заперла дверцу на ключ.
11.
Вот здесь-то, в гостиной, это и произошло.
Андерс даже запомнил точное время, когда это случилось. Возвращаясь впоследствии к этой страшной картине, он отчетливо видел настенные часы с маятником, в темно-шоколадном футляре, висевшем между ореховым буфетом и двухметровым фикусом в зеленой кадке. Они были прибиты над тем же комодом, куда, пряча игрушки между вещами матери (перешедшими ей, в свою очередь, от ее матери и бабки), Андерс держал «на потом» – терявшие, по мере его взросления, жреческие атрибуты детского царства.
Когда это случилось, те же самые часы над комодом показывали восемнадцать минут девятого. (Андерс запомнил это так хорошо, потому что часы оказались именно тем предметом, на котором он остановил, не зная, куда его деть, свой ошарашенный взгляд.) Затем часы бухнули половину, и это словно отрезвило тех двоих, которые создали катастрофу: они рассмеялись и перестали. После этого Андерс, картинно ударив себя по лбу, сказал громким голосом, что детям надо бы лечь пораньше, они с утра нездоровы, и стал звать одеваться ничего не понявших, поднявших тут же отчаянный рев, детей. Под этот громкий отвлекающий рев, и свой, еще более громкий педагогический комментарий, стараясь не замечать растерянно-вопрошающего взгляда жены, он и ретировался на улицу.
12.
…Godverdomme, шагая к станции, восклицал про себя Андерс, это нельзя было сравнить ни с чем! Абсолютно ни с чем! Он быстро волок к станции изобретательно упиравшихся, полностью одинаковых мальчиков, по мальчику в каждой руке, а она шагала по другому берегу канала – значительно, даже демонстративно отстав, вздернув плечи и засунув руки в карманы плаща, что не было в ее привычке. Так они шли, разделенные каналом, до самой станции «Vlaardingen Centrum».
Буквально: «прокляни меня Бог». Переносно: «чёрт подери!» Однако это выражение в нидерландском несопоставимо сильнее, чем в русском – и, по степени «обсценности», а также эмоциональности, соответствует русскому мату. (Прим. автора.)
Водворенные в поезд и посаженные друг против друга, дети отвлеклись заоконным мельканием и наконец успокоились. Она, отвернув голову, тоже стала было смотреть в окно, но в другое, в противоположной стене вагона, хотя там вскоре ничего уже не было видно, кроме все четче проступавшего изображения их же самих. Тогда, чтобы это не выглядело подглядыванием, она стала смотреть в пол.
Андерс, как бы заботливо разглядывавший своих мальчиков, на самом деле оставался сидеть все еще там, в материнской гостиной, онемевший и ошарашенный; он продолжал пребывать именно там, судорожно и отчаянно пытаясь найти трезвое решение. Случившееся казалось ему беспрецедентным. Он поправил шарф одному сыну, и тут же, машинально, поправил его другому, – и вот, этим привычно удвоенным действием, он наконец осознал себя едущим в вагоне – и словно подтолкнул упиравшуюся память, которая на самом-то деле уже давно держала наготове повтор.
13.
В этом самом месте, за долгие годы размышлений, память Андерса наловчилась делать некий трюк – точнее, крюк – с невозмутимостью завзятого лицемера ловко обходя момент катастрофы. И поэтому – сразу после того, как Берта ван Риддердейк обнесла всех печеньем, четко назвав каждого по имени (раньше, при жизни мужа она всегда начинала с него, притворно-вкрадчиво произнося «Яааааннн?..», а затем, так же полувопросительно мяукая, вступала в контакт с остальными) – сразу же после того, как мать, следуя новому распорядку, поднесла печенья сначала жене Пима и самому Пиму (для ободрения и поощрения реабилитированных, а также демонстрации своей лояльности), затем мужу дочери и самой дочери, а уж потом жене сына, самому сыну и их сыновьям, которых специально позвали в дом, – итак, сразу после того, как Берта ван Риддердейк все это наконец проделала и завязался необременительный разговор (small talk) – Андерс – и это повторялось многократно – сразу же видел себя с женой и детьми уже в поезде из Влаардингена на Роттердам.
Защитное малодушие – главное свойство сынов и дочерей Божьих – то ли засветило на пленке его памяти, то ли «смыло» оттуда, то ли целенаправленно выстригло монтажными ножничками все неприятные, травматические эпизоды того особого, отдельно стоявшего вечера. И потому, когда Андерс в дальнейшем прокручивал эту зловещую пленку – точнее, когда пленка прокручивалась в его голове сама, самостоятельно, неизвестно откуда взявшаяся, и Андерс не мог ее ни остановить, ни убрать – ему, тем не менее (и как ни в чем ни бывало), показывали сначала, крупным планом, пол-амфитеатра фальшивых зубов его матери, обносившей печеньем гостей, а затем – сразу вслед за тем, встык, – Андерс уже видел жену, детей и себя все в том же поезде из Влаардингена в Роттердам.
Да, именно так. В Роттердаме, как всегда, они сделали пересадку. Поезд на Утрехт, едва отъехав от последних городских огней, вдруг остановился посреди темного поля. Дети дремали. Андерс потихоньку смотрел на отражение жены, которая, кажется, тоже спала, а может быть, притворялась.
Притворялась? Она не делала этого никогда. По крайней мере, Андерс так чувствовал. И очень в ней это ценил. Значит, надо ценить и эту ее, с позволения сказать, сегодняшнюю «откровенность»? Фортель, который она, вместе с женой брата, час назад отколола? Уж лучше бы она надела свое то, с дырою для сисек, потаскушечье платье! (О, святая Дева, о чем он, о чем!! как может он такое произносить даже мысленно?!..)
Андерс взглянул жене прямо в лицо. Она спала. Он принялся открыто разглядывать ее черты, знакомые до бесчувствия, которые, как он это понимал всем своим существом, не могут быть заменены ничьими другими до конца жизни – так же, как не могут быть заменены его собственные черты в ежеутреннем зеркальце для бритья. Ее и его черты могут только стареть, но не меняться по сути – зачитанный текст ветшающей книги. Зачитанный текст? Но эта ее выходка, мой Господь?! Это коленце, фортель?!
Поезд тронулся. Голова жены качнулась, и она открыла глаза.
Теперь – зевнув и поерзав, словно удобней устраиваясь на сиденье, – закрыл глаза Андерс. Но на изнанке его век только ярче вспыхнуло то, чего он отчаянно не хотел видеть.
14.
…Через несколько лет – точнее, лет через пять, когда он уже привыкнет к своему несчастью, как человек привыкает к отсутствию денег, еды, крова, глаз, ноги, близких, Андерс, мысленно переместившись в тот утрехтский поезд, вспомнит еще одну деталь, от которой, в момент этого видения, сон бесповоротно встанет где-то снаружи от его мозга.
В тот момент внезапной вспышки, озарившей это воспоминание, Андерс будет лежать в постели, рядом со спящей женой, и, закрыв глаза, играть в свою самую любимую игру, никому, кроме него самого, не ведомую: он будет восстанавливал в памяти одежки своей жены.
Механизм этого восстановления материи изничего никогда не был понятен даже ему самому. Он ни разу не давал себе какого-либо специального задания, вроде того, что сосредоточься, дескать, только на красных или только на серых вещах, только на летних или только на зимних – или так: только на платьях или только на блузках… Вовсе нет. Он не пытался вычленить из потока времени какой-то конкретный период жизни, предоставляя тем самым в помощь своей памяти подпорки тех или иных незабываемых происшествий. Он не пытался вызывать к жизни овеществляемое ничто дажекакими-либо заклинаниями или приемами, то есть переводить его в нечто, малодушно включая в процесс грубую работу условных рефлексов. Более того: он никогда не брался как-то «по-особенному» сосредоточиться на самом процессе этого восстановления, даже просто сосредоточиться – или хотя бы отделиться от лгущей, отвлекающей, бесперебойно крадущей секунду за секундой «реальности настоящего» (той самой «реальности настоящего», которая, как цыганка, отработанно задуривая клиента, – одновременно стягивает с его запястья золотые часы).
15.
Начал Андерс свою игру когда-то с того, что пытался восстанавливать в памяти вещи собственные – причем вперемешку, как получалось, – детские, взрослые, юношеские, подростковые… Но вскоре он понял, что восстановленная вещь, уже с новой волной времени, снова относится в никуда – тускнеет, расплывается, исчезает… Переключившись однако на вещицы жены (что было, к его сожалению, не так «волшебно», как охота за вещами своего детства – ведь знакомые наряды жены были ему доступней во времени), Андерс продолжал свои магические сеансы.
И вот он станет привычно лежать рядом с женой – верный, любящий муж – а другой человек – отдельный, абсолютно независимый, а может быть, даже и ни в чем не совпадающий с первым – станет пребывать бог знает где – там, где возрождается прошлое.
Таким образом Андерс навыуживал за несколько лет этой игры довольно объемный ворох жениных атрибутов – юбочек, платьев, туфелек, блузок, кофточек, свитеров, пальто, варежек – короче говоря, нарядов, которые он мог вспомнить с того времени, когда они вместе спаслись, – шляпок, шарфов (с конца сороковых их побывало у нее полно! она обожала легкие длинные шарфы, так что они были самым трудным для Андерса «заданием»); он воскресил как-то шубу из серенького каракуля, хотя это как раз не составило труда: шуба, за все эти годы, была у жены одна и воспринималась тогда, как нечто живое (даже заполучила имя: Grijsje); после нее жена стала носить только драповые пальто с меховыми воротниками. Андерс, улыбаясь, удивляясь себе, вспоминал даже ажурные чулочки, которые стоили кучу денег и покупались крайне редко, и конечно, рвались, и он ясно видел на некоторых из них (будто прозрачная стена времени явилась увеличительной линзой) даже поломку узора, резкую и уродливую, обусловленную вынужденной починкой.
Средств в их семье, начиная с пятидесятых, появилось достаточно (спасибо Америке, как с весьма двойственным чувством говорили окружающие),но, несмотря на это, жена с внешней легкостью переняла традиционную в их кругу скорбную и непреложную скуповатость, а потому (и, конечно, в силу природного дара) без каких-либо затруднений значительно усовершенствовала свои навыки в шитье, вязании, даже вышивании (проделывая эти чудеса домоустройства ловко, весело, виртуозно) – так что выглядела она, к гордости Андерса, как принцесса. Скромная, как принято в Королевстве, и оттого вдвойне прекрасная.
Он наслаждался, вытаскивая из небытия, – да, из полного, безнадежного, казалось бы, небытия, разнообразные, имевшие только ее запах, предметы; он научился восстанавливать их до таких мелочей, что отчетливо видел на ее одежках, скажем, двенадцатилетней давности не только фактуру самого материала, но мелкие особенности пуговиц, или плохо скрытые следы перелицовки (к примеру, на желтом драповом пальто), или едва заметную потертость от узкого кожаного ремешка на платьице из темно-каштанового, в крупный рубчик, вельвета, или штапельные нити, еще торчавшие из клетчатого подола свежеподрубленной юбки.
16.
Той ночью, в июне тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, как раз после того, как они отметят одиннадцать лет со дня свадьбы, Андерсу придет богатый улов. Он неожиданно выудит из небытия темно-лиловую, в черных капроновых кружевах, шелковую camisole, привезенную им для жены из Марселя (это была одна из первых в его карьере деловая поездка за рубеж).
Но сразу вслед за тем, после такого, казалось бы, мирного начала, перевозбужденная память сыграет с ним жестокую шутку. Сначала ничего не подозревавший Андерс даже почувствует – не носом, но мозгом – запах этой французской camisole: легкий аромат ванили, лилии и гиацинта; жена, спиной к Андерсу, будет стоять перед трюмо, сняв с себя по его просьбе это платье, с узором и запахом анютиных глазок, малоуместное из-за большого выреза на груди, и, пока она так будет сначала стоять, а потом примется искать в платяном шкафу подходящую замену (Андерс в первые годы их супружества никак не мог привыкнуть, что ее платьица, блузки, юбочки – все это разнообразно-прелестнoe, капризноe, милое, женское – тесно, даже бок о бок, висит вместе – да, вместе с его вещами; часто, когда ее не было рядом, он открывал дверцы шкафа, садился напротив и, как деревенский дурачок, неотрывно любуясь, тихо смеялся), – пока она примется искать замену, Андерс, на экране памяти возьмется потихоньку – не как законный муж, а как гимназист, краснеющий от волнения подросток, – разглядывать ее точеную, словно не тронутую родами фигурку, – она, эта фигурка, будет обтянута лиловым, в черном кружеве, шелком, – вот жена энергично, с совещательным выражением повернет к нему голову, – густые, отливом в платину, гладкие волосы (снова отросшие после того, как она состригла косу), – гордые полудлинные волосы, своей упругой силой отщелкнув с затылка черепаховую заколку, тяжким шлемом спадут ей на плечи.
…Наконец жена выбрала, в тон к глазам, длинное платье тончайшей темно-синей шерсти. В этом строгом наряде, в каком она словно бы родилась, ее фигурка казалась такой тонкой, такой беззащитно грациозной, что хотелось плакать. Жена приколола к левому плечу маленькую серебряную розу. Вот эта самая брошечка, которую жена потом потеряла, про которую Андерс, казалось, забыл, бесконтрольной своей иголкой резко и глубоко вонзилась ему прямо в мозг. Память, рванув узду, взвилась, как ужаленная, и Андерс вдруг увидел знакомый уже эпизод из другой точки: да, именно это платье, с этой розочкой, было на жене тогда, еще до их нахождения в поезде Роттердам-Утрехт – и даже раньше – еще до их нахождения в поезде Влаардинген – Роттердам – и раньше, раньше – да, раньше, а именно: в гостиной его матери, на Пасху тысяча девятьсот пятьдесят первого года, когда, неожиданно подсев к жене Пима, жена Андерса обняла ее за плечи – и запела.
И, почти сразу, жена Пима точно и сильно подхватила песню. Она сделала это так просто, будто они – жена Андерса и жена Пима – пели вместе ежедневно, привычно – так же естественно, как дышали. Более того, они пели совместно так, будто были дружны, взаимно любимы, даже родны. (А ведь дело обстояло как раз наоборот, и Андерс отлично знал это!)
Они пели так, будто осознали свое неизбывное, свое сладостное сиротство в этом непостижимом мире.
Они пели только для Бога.
Словно в последние минуты своей земной жизни.
А иногда они пели так, будто привычный земной мир виделся им каким-то иным. Наверное, таким же, каким был внутри них самих.
Они были слитны нерасторжимо.
Они пели.
17.
…Андерсу выпало особенно жестокое испытание, потому что он не знал их языка. Если б он знал язык, на каком они пели, он бы, возможно, еще мог защититься. Ведь в песне, которую принято называть народной, слова существуют лишь для того, чтобы как-то прикрыть душераздирающий смысл мелоса. В силу гибельной тайны, которой всегда обладает мелодия песни, ее словесный покров простодушно, как может, пытается отвлечь, отвлечь, увести слушающего в сторону от ужаса, то есть от истинного содержания: ох, ве-е-есел я, ве-есе-е-ел – в но-о-онешний ве-е-ечер!!!.. ох… ро… зычка… алая-а-а… Ну и весел, ну так что? – а на самом деле это про такое-то уж про отчаянное, про такое-то уж отпетое, лютое веселье смертника, когда до петли – шаг. (Да, может, он уж и сделан – иначе откуда там эта «розычка» похоронная?) Или – еще не легче: лютики-цветочки, зелены садочки, черемуха белая, ягодка спелая, в огороде репка, во поле береза… Вроде бы, все нормально, все пребывает на предписанных Богом местах, – а мелодия, отдельно и внятно, плачет-сиротится, жалится-вздыхает – о том, что счастья нет и не будет в помине, что и быть-то счастья не может, а есть лишь безнадежная тоска-разлука, лишь прощание на веки вечные; да и что такое жизнь человечья? печенка овечья. (Или, по словам классика, вот она, тройная формула существования: неизбежность, недостижимость, невозвратность.)
А если слова, в целомудренном своем милосердии скрывающие смысл песни, в силу каких-то причин (чужой язык) не могут отвлечь – влекомого к боли – сердца? Тогда пойманный – без наркоза, весь как есть, голышом – оказывается подставленным чудовищному, ни с чем не сравнимому разрушению. Мелодия песни, воспроизведенная голосом человека, проникает слишком глубоко – она, как пуля со смещенным центром тяжести, рвет человечье нутро по всем направлениям, и, покуда уж не оголит его до самого основания, не разворотит полностью, – до тех пор не успокоится.
18.
Андерс совсем не был к этому готов. Его мать, у которой, несмотря на формальный переход в вероисповедание мужа, кальвинизм был очень силен (пожалуй, именно он, без каких-либо примесей, и составлял ее скудную, плоскую, несгибаемую суть), – его мать, формально обращенная в католицизм супруга (а на деле, своей беспрекословной протестантской постностьюнивелировавшая его личность так же добросовестно и успешно, как это делает асфальтовый каток), – меврау ван Риддердейк воспитывала детей в том непреложном духе, что петь-де уместно в гимназии (на уроке пения, под руководством учителя пения); можно и даже нужно петь – по нотам, в кирхе или соборе (где существуют специальные, предназначенные именно для пения, моменты службы); не возбраняется также иметь приличное хобби, а именно: занятия в хоровой группе, где люди совершенствуют свои навыки в пении по нотам, и эти навыки затем применяют в кирхе или соборе (в особый момент богослужения, предназначенный непосредственно для пения). Он никогда не слышал, чтобы дома, кто-либо из членов семьи, пел. Пело иногда радио, радиоприемник, но на студии петь вполне уместно, потому что это работа людей, которые получают за нее деньги и платят из них налоги.
19.
Один раз, он это хорошо помнит, пели гости.
Весной тысяча девятьсот тридцатого года отмечался сорокалетний юбилей его отца, Яна Хендрика, – в том же самом Влаардингенском доме. Это был год некоторых перемен: отцу предложили службу старшего бухгалтера в роттердамском порту; купив себе подержанный желтый Renault, он уезжал в свой офис до самой ночи; Барбара, заканчивая уже предвыпускной класс женской гимназии, пристрастилась к написанию стихов (тайное стало явным): двенадцатилетний Пим, напротив того, из-за беспробудной своей тупости в гуманитарных предметах, был из гимназии переведен в обычную школу; десятилетний Андерс посвятил свободное время моделированию яхт; в помощь меврау ван Риддердейк, для ухода за пятилетней Кристой, была нанята oppas: *
[Закрыть] Лили, молоденькая вольнослушательница Королевских курсов живописи (которая, кроме того, взялась давать бесплатные уроки рисования для Барбары).
Итак, гости, их было шестеро (drie steltjes) **
[Закрыть], съели по кусочку маленького апельсинового кекса, выпили по наперсточку домашней наливки и, со значительными лицами, выстроились полукругом. Один из них, видимо, избранный главным на этом мероприятии, объявил сидевшим на диване хозяевам, что сейчас их вниманию будет представлен «малюсенький сюрпризик». И, хотя хозяевам было абсолютно понятно, о каком именно «сюрпризике» шла речь (все участники секстета уже держали ноты, и на листах большими черными буквами было отпечатано название псалма), они принялись – как бы ничего не понимая – делать домиком брови, по-коровьи вывертывать губы, в изумлении надувать щеки, с придурковатым видом переглядываться – и, пускать в оборот главный компонент их политеса – самоуничижительное похехекивание, которое должно было переводиться как «ах, что вы, что вы, мы не стоим подарков». После этого ритуала, длившегося, в целом, минуты две (так как хористы похехекивали ответно – причем так же, с подчеркнутым смущением, по-коровьи вывертывая губы, – что должно было означать «ax, вы стоите гораздо, гораздо большего, чем наше скромное любительское пение»), – итак, после этого неизменного ритуала, лица, запланировавшие петь, на протяжении одной минуты добросовестно манипулировали своими голосовыми связками, строго контролируя регламентированную воодушевленность. Лица у них были сосредоточенные, как у налоговых чиновников, – но, вдобавок к тому, они были скромные и благостно умиленные – как у порядочных, всеми уважаемых, никогда не знавших нравственных колебаний людей, которые сейчас исполняют свой честный долг, а, возвратившись в свои дома, удовлетворенно поставят соответствующую галочку в своем богоподотчетном гроссбухе.
*
[Закрыть]Няня. (Нидерландск.)
**
[Закрыть]Три парочки. (Нидерландск.)
После этого культурного (и, кстати, что немаловажно, бесплатного,) приложения к десерту – родители прилично поаплодировали, поохали, понадували щеки, вперебивку и как бы изумленно квохча «lekker!.. lekker!.. leuk!..», мелко поблеивая «perfe-e-ect!. perfe-e-ect!..», а участники секстета снова, сообразно своему положению, прилично похехекали.
20.
Анди, говорит он себе, боже, боже! Разве это твои глаза, твои уши? Что произошло? Почему? Зачем? Твоя душа свой прочной, надежной, как корабельный канат, пуповиной, изначально и навсегда привязана к этой намывной, бедной земле – к рукотворным польдерам, растительность которых лишена запаха (словно оскоплена на корню), – к этим дамбам, кажущимся иностранцам (а теперь и тебе) воплощением сумасшедшей инженерной мысли марсиан-осьминогов, – к этим скудным полям, где горизонт обрывается на расстоянии вытянутой руки; твоя душа навеки принадлежит этим ландшафтам, сумрачной, словно нищей, погоде этих ландшафтов, а главное – она принадлежит обитателям этих ландшафтов. Коротка пуповина, короток твой поводок – а при этом глаза твои смотрят на родную твою землю, на самое твое гнездо, на дом твоего детства – так отчужденно, с такой далекой, словно уже за границами жизни, дистанции! Поводок-пуповина, как ни рвись, не отпускает – но и дистанцию отчуждения, как ни старайся, не сократить… Андерс, Андерс! Как это могло с тобою случиться? Почему? Зачем?
Анди, говорит он мысленно, вернись к себе, прежнему! Как? Никто не знает, как именно. Но ты постарайся, Анди! Сейчас… Сейчас… Надо предельно сосредоточиться… Вот, например, по поводу жены… Если бы я был прежним, то есть до встречи с ней, что бы я подумал в связи с выходкой этой женщины?
Я бы подумал: бывают, конечно, к примеру, пьяные. Взять хоть бы футбольных фанатов: нахлещутся пивом, как свиньи, а потом горланят бог знает что – и песни, и не песни. Но ведь сейчас для таких случаев – например, в Амстердаме – впереди толпы – беснующейся, ревущей, готовой крушить материальные ценности – на расстоянии трехсот от нее метров – едет специальный отряд конной полиции, оперативно разбирающий стеклянные конструкции трамвайных и автобусных остановок, а сзади толпы, тоже на расстоянии трехсот метров, следует другой специальный полицейский отряд, который эти же конструкции оперативно собирает. Так что от такого пения никто и ничто не страдает, как если бы люди и вовсе не пели.
Однако моя жена не была в тот момент пьяной! (Она не бывала даже навеселе – никогда.) И та, которая с ней пела, жена брата, тоже пьяной совсем не была! А это еще хуже. Если б они были пьяны, к ним можно было бы отнестись снисходительней. Но они не были пьяными, не были даже навеселе! Так что же тогда?..
Нет, это понятно: у каждого человека есть свои темные стороны… животные проявления… Но ведь существует вполне определенное место и время, где и когда эти стороны позволено проявлять! Если тебе так уж охота поглядеть канкан, или, скажем, вывернуться наизнанку, то есть сплясать его на столе самостоятельно, так иди в соответствующее заведение, благо таких после войны развелось, как блох! Но отплясывать канкан (а это было куда разнузданнее канкана) – но выворачиваться наизнанку – в приличном доме, перед матерью и родственниками собственного мужа! Что ты этим хотела сказать?! Что именно, in godsnaam *
[Закрыть], ты хотела?!








