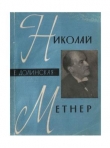Текст книги "Верещагин (Кончерто гроссо)"
Автор книги: Марина Королева
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Но сейчас звонила не тетка, а именно брат.
– Профессор, дорогой, – он тоже называл меня так, и мне в этом всегда чудилась ирония, – я женюсь. Придешь на свадьбу?
Лучшего времени для этого сообщения он выбрать не мог. Я? На свадьбу? За длинный стол с салатами? «Горько» кричать? Безумие. Я все это ненавидел. Хотя, может, мне сейчас самое время крикнуть «горько», да погромче, это, по крайней мере, будет правдой.
Ничего этого я, конечно, ему не сказал.
– Поздравляю, брат, – я тоже всегда называл его не по имени, платя за Профессора той же монетой. – Поздравляю от души. Прийти только никак не смогу, у меня поездка.
Какая поездка, куда поездка? Никуда я особенно не ездил. Но надо же было что-то сказать.
– Ну, жаль, – расстроился брат, – жаль. Тем более не виделись давно.
– А кто невеста? – спросил я просто так, для порядка, чтобы его не обижать.
– Пришел бы – и познакомились. Теперь только при удобном случае. Хорошая девчонка, в университете встретились.
Значит, математик. Ну, правильно, вот я же выбрал пианистку.
– Извини, никак не получится, родной мой. Но подарок с меня!
Я положил трубку. В доме было тихо. Странно: незначительный какой-то звонок – и так вывел меня из равновесия. Как будто я сидел в яме и слышал голоса сверху: люди ходили мимо, смеялись, назначали свидания, пели, плакали, целовались, а я знал: никогда, никогда, никогда я не выберусь к ним. Надо бы крикнуть, но у меня не было на это сил. А может, моя роль мне действительно нравилась, как говорила моя жена.– Никогда, – сказал я вслух. И вернулся в кабинет, к своему киношному заказу. Другой работы у меня теперь не было. Моя собственная формула – со временем ты всё поймешь, – кажется, потеряла надо мной власть, она не действовала больше. Время шло, как ни банально это звучит, а ничего не происходило. Год, два, три – все было так же, все были те же, и я был тот же.
Нет, конечно, сын рос, мать старилась и болела, жена сменила работу, ушла в большое музыкальное издательство. Мы жили в том же доме, у меня был тот же кабинет, только книг стало еще больше, они как будто поставили себе цель вытеснить меня отсюда. Ну, это уж дудки, это было единственное место на земле, где я хотя бы иногда бывал – нет, не счастлив, но спокоен.
После памятной дачной истории жена сильно изменилась. Сначала она еще несколько раз попыталась со мной объясниться, попросить прощения, но я молчал в ответ и уходил, я даже закрывал свой кабинет на ключ. Однажды она хотела зайти и обнаружила, что дверь заперта. Такого раньше у нас не бывало, двери на ключ никто не закрывал. Жена рванула дверь, потом еще, еще. Я молчал. Тогда она начала колотить в нее кулаком:
– Открой, слышишь? Немедленно открой! Открой мне! Не смей запираться от меня!
Я молчал. Слышал, что вышла мать, постояла в коридоре и, видимо, вернулась к себе. Сына, к счастью, не было дома.
Жена продолжала стучать, я слышал, что она плачет. Я молчал. Постепенно все стихло. Когда я вышел на кухню, где-то через час, жена была у себя, под дверью не было полоски света. Спит. Ну, или не спит, не все ли мне равно, говорил я себе, возвращаясь в кабинет.
Сын на следующий день вернулся из школы раньше обычного, мы вместе пообедали (то есть у меня это был завтрак). Мне показалось, что он смотрит на меня с упреком. Или показалось? Мать ни о чем не спрашивала.
Жена же с этого дня стала другой. О вине своей больше не говорила, да и вообще заговорить со мной не пыталась, если не было срочных домашних вопросов, вроде затерявшегося ключа или сломанного телефона. Но на все это хватало нескольких слов: «да», «нет», «не знаю», «знаю», «вчера», «сегодня», «завтра». А со временем, но очень, очень нескоро, мы даже стали разговаривать, своеобразно, но все-таки разговаривать. Так, как будто между нами было что-то или кто-то: так, должно быть, разговаривают с родственниками в тюрьме через стеклянную перегородку, в присутствии охраны. Я называл это «все наладилось».
И тут умерла мать.
Я, конечно, знал, что когда-нибудь это случится, она все больше и больше времени проводила в больницах, Доктор наш, как я теперь понимаю, пытался мне намекнуть, к чему все идет. Но я не слышал намеков. Мать должна была оставаться со мной, всегда! Любой: больной, очень больной, лежачей, слепой, глухой – любой, но оставаться. Как же я без нее? Я не давал ей умереть, держал ее мертвой хваткой, все требовал каких-то процедур, каких-то операций… Вот после очередной такой операции, на которой я настоял, она и умерла.
Я не могу вспоминать эти дни. Доктор твердил мне, что я ни в чем не виноват, никто не мог предвидеть такого исхода. Да не думал я ни о какой вине, как же он не понимал! Я и ходил-то с трудом, я не знал, как переживу эти похороны. И еще мне страшно было подумать, что за жизнь будет у меня после похорон. Один, один, один, стучало у меня в голове.
Народу было немного, всего-то несколько человек, кроме нас. Конечно, тетка. Брата не было – как сказала мне тетка, «они уехали в Юрмалу, но на сорок дней придут обязательно». Кто они? – не понял я. А, ну да, брат женился. Все это было как в тумане. Я поддерживал плечом материн гроб и думал: кончена жизнь, вот теперь действительно кончена.
Поминки были дома, за круглым столом в материной комнате. Говорить я не мог, и вообще скоро ушел к себе, поставил Моцарта, «Реквием» (немногое, что я вообще могу слушать из чужой музыки), лежал, курил. Заглянула жена, подошла, попробовала погладить по плечу, я не дал. Люди скоро разошлись.
Мы начали жить без матери. В доме как будто брешь пробили, дом накренился и затаился – так бывает, когда корабль на секунду беззвучно зависает, прежде чем пойти ко дну.
Три дня, девять, двадцать, тридцать, сорок…На сороковой день я съездил к матери на кладбище, а жена собрала поминки. Сначала в дверь зашла тетка, потом брат, потом она. Жена была на кухне, так что на звонок вышел я.
Когда она зашла, я услышал звук: буммм!.. Как будто яблоко упало, так бывает по ночам в садах, в полной тишине. Этот звук всегда кажется оглушительным, пугает, мешает спать: буммм! Я даже оглянулся в коридоре, не упало ли у нас что, посмотрел на тетку и брата, вдруг они тоже слышали. Непохоже. Но я-то слышал!
Когда я припоминаю теперь этот вечер, мне кажется, что в нем, в общем, не было ничего примечательного. Вот разве что этот звук. С теткой и братом мы, как водится, обнялись, а она назвала мне свое имя (я еще подумал, что оно ей не шло), я поцеловал ей руку, она, как мне показалось, этого испугалась, да и прошли в комнату, за круглый материн стол. Посмотрел на брата: брат был как брат, только первые залысины появились, рановато в тридцать-то лет. Впрочем, для математика – а его считали талантливым математиком – в самый раз.
За столом, как это всегда случается на поминках, сначала было тихо, напряженно-тихо. Я ненавижу эту неловкость, что на поминках, что на свадьбах, мне всегда хочется поскорее ее нарушить, но я сдерживался как мог. После первых двух рюмок пройдет. Я пока наблюдал.
Нет, ее лицо не было мне знакомо, мы совершенно точно нигде не встречались, не могли встречаться, она была совсем девчонка, а где я, кроме консерватории, встречал молодых девушек? То-то. Но она казалась мне очень знакомой. Она в мою сторону почему-то смотрела мало, разговаривала с женой, но когда вдруг посмотрела, я поймал взгляд внимательный и прямо-таки пронзительный. В этот момент я снова услышал звук: буммм!.. И еще раз, дальше и тише: буммм! Да что ж такое?! Снова огляделся по сторонам, никто никакого беспокойства не проявлял. Тут меня осенило: не внутри ли у меня этот звук? С сердцем, что ли, нелады начались… Я вдруг решил, что напьюсь сегодня, сильно напьюсь. Жена как будто уловила мои мысли, попыталась отодвинуть большую бутылку коньяка подальше от меня. Пришлось встать и вернуть бутылку на место.
Поминки шли своим чередом, все по кругу сказали о матери хорошие слова. Я тоже попытался было, но в горле встал давно забытый бугристый шар, я закашлялся и вместо того, чтобы заговорить, выпил беззвучно уже которую рюмку коньяку. Все немного помолчали, застолье продолжилось.
Потом – и в этом тоже не было ничего примечательного – оно распалось на маленькие компании: тетка обсуждала что-то с женой, брат – с нашим Доктором. Внутри у меня разливалось тепло от выпитого коньяка, стало хорошо и спокойно, вдруг захотелось поговорить. Она сидела молча, но, казалось, совершенно не скучала: вслушивалась в разговоры, обводила взглядом стены с фотографиями. Взгляд скользил и в какой-то момент снова остановился на мне. Я сделал все, чтобы его удержать, потому что мне надо было успеть сказать, и я успел:
– Послушайте, хотите мой кабинет посмотреть? Пойдемте, я покажу.
– Я пойду? – спросила она у брата, то есть у своего мужа. – Ты не хочешь?
– Иди, конечно, я сто раз там был, а тебе будет интересно. У него там такая берлога… ух! Книг – уйма. То, что ты любишь.
Мы вошли, я оставил дверь полуоткрытой. Она сначала остановилась в некоторой растерянности – в кабинете ступить было негде, приходилось пробираться узенькой тропкой от входа к роялю, а потом к письменному столу. И везде книги, книги, штабеля книг, ноты, картины и рисунки, многим из которых не хватало места на стенах, их приходилось держать просто за стеклами книжных полок.
Я видел, что она под впечатлением.
– Вот это да. Я никогда ничего подобного не видела.
И вдруг без всякого перехода:
– Вы меня не помните?
Я опешил.
– Разве мы встречались раньше? Нет, не помню.
– Ну конечно. Вы и не могли запомнить, сколько у вас было таких поступающих.
– А куда вы поступали? – Я правда не помнил.
– В училище. Сдавала вам сольфеджио.
– Не поступили? Завалили?
– Не завалила, четверку получила. Но дальше сдавать не стала, не захотела.
– Родной вы мой, так почему же вы мне тогда не…
Я чуть не сморозил страшную глупость: я хотел спросить – почему вы не сказали мне тогда, что вы жена моего брата?
– А, ну да, ну да. Конечно, конечно…
Мне стало смешно. Ей тоже.
– Так значит, вы не помните.
Я рад был бы сказать ей, что помню и помнил все это время (даже такая бредовая фраза пронеслась у меня в голове), но чего не было, того не было. Нет, я не помнил.
– Ну и ладно. Тогда показывайте книги!
Даже если она не улыбалась, глаза все равно смеялись. В них била ключом какая-то веселая жизнь, страшно от меня далекая. Но мне было с ней легко, вот что. Она легко говорила, легко запрокидывала голову, а на меня смотрела по-прежнему внимательно, пристально, изучая. Серьезный взгляд серьезной ученицы. Странно, меня эта пристальность совсем не напрягала. Я усадил ее за свой письменный стол, как поступал иногда со студентами, и начал носить ей книгу за книгой. Уже трижды в кабинет заглядывала жена. Дважды заглянула тетка. Потом зашел брат:
– Нам пора, пожалуй. Завтра на работу.
Она посмотрела на него вопросительно:
– А что, поздно уже?
– Да вы третий час тут сидите.
Я не поверил: как третий час? Взглянул на свои старые напольные часы. Да, точно.
Вот, пожалуй, еще одна странность: я не заметил, как прошло время. Спроси меня, о чем мы говорили с ней, я не отвечу. Помню, что был оживлен, возбужден, как бываю иногда на особо удачных занятиях со студентами, и тогда они признаются мне, что не заметили времени. Что ж, как выяснилось, она и была по сути моя студентка, несостоявшаяся студентка. Могла бы ею быть. Этим я себя и успокоил. И еще тем, что много выпил, тут немудрено потеряться во времени. Захотелось еще выпить.
Они засобирались. Я пошел проводить их в прихожую. Мать была бы довольна, она любила, когда в доме гости, подумал я. Поймал себя на том, что впервые за эти сорок дней не чувствую за грудиной ледяной глыбы, которая подступает к самому горлу.
Тетка, брат. Она.
– Ну, до свидания!
Я поцеловал ей руку на прощанье, как и при встрече.
И вот тут, когда она уже повернулась ко мне спиной и выходила к лифту, я услышал – нет, не звук упавшего в саду яблока, я услышал тихий, высокий, нежный скрипичный звук. Он сопровождал ее до самого лифта и стих только тогда, когда кабина гулко двинулась вниз.
Я еще постоял в дверях, услышал, как хлопнула дверь подъезда. Звук больше не повторялся.
Я прошел в материну комнату и допил коньяк, прямо так, из бутылки. Стало совсем хорошо. Я даже улыбнулся, кажется. В коридоре столкнулся с женой, она смотрела на меня очень внимательно. Наверное, оценивала, насколько я пьян. Я постоял секунду и пошел к себе.
В эту ночь ко мне вернулся «Верещагин». Я жалел, что нет партитуры, но, с другой стороны, я почти всё помнил. Пробежался по первой части, Andante, потом по Allegro vivace, отточил немного третью, Toccata, с замирающим сердцем ожидая, что будет происходить с тем самым не поддающимся мне куском, где появляется Она. Я точно знал теперь, что это скрипка, и только скрипка, знал, в какой тональности… Но мелодия не шла. И это был первый раз, когда я не пришел от этого в ярость! Вспомнил мать, ее голос, шаги, погладил рукой халат на двери. Едва дополз до топчана – и уснул.
* * *
Мы возвращались домой от Профессора, как называл его мой муж. Свекровь шла чуть впереди, мы с ним отставали на несколько шагов.
– Ну и как тебе у них? – спросил муж.
Я помолчала. Мне трудно было подобрать слова.
– Знаешь, у них очень необычный дом, я не видела таких.
– Да что там необычного, – проворчал муж, – обычный интеллигентский бардак. Убраться бы там не мешало. Такое впечатление, что пыль к ним самосвалами свозили. И на кухне все черное.
Он был чистюля, до педантизма. Я, впрочем, тоже терпеть не могла бардака в доме. Но этот (и дом, и бардак) был все-таки особенным, так мне показалось. И кабинет, весь в полумраке, если не сказать во мраке, с нависающей медной люстрой, весь от пола до потолка заставленный, заложенный, забитый книгами и нотами, стены, завешанные настоящими картинами, а не дешевыми репродукциями… Я вспомнила обои в полоску в нашей квартире. А я-то думала, что по-другому и быть не может.
– И Профессор ваш необычный, – сказала я вдруг. – Интересно, какую музыку он пишет.
– Так какие проблемы? – он пожал плечами. – Теперь я вас познакомил. Если будут у него концерты – сходишь. Мать говорила, его нечасто играют, но бывает. Ты же ходишь в консерваторию? Ну вот и пойдешь, билеты он для тебя оставит.
Да, я ходила, эта привычка у меня осталась с детства.
– Ну вот, а тут ему только позвонить. Он будет рад. Не думаю, что на его концертах много зрителей, – усмехнулся муж.
– Слушателей.
– А, какая разница! Это слова всё, слова. По словам ты у нас специалист, я в этом ничего не понимаю, я больше по числам.
Числа нас и познакомили.
Про музыкальное училище я действительно заставила себя забыть после той четверки по сольфеджио. «Никакой музыки больше», – мне пришлось повторить это себе много раз, прежде чем я перестала ежедневно заниматься, что делала до этого всю сознательную жизнь, с первого класса музыкальной школы.
Оставалась ерунда – понять, что я буду делать дальше. Задумалась было о журфаке, но тут вмешалась любимая учительница литературы.
– Деточка моя, ну зачем на журфак? Как же я не люблю журналистов! Вечно у них на одно слово правды три слова вранья… Вот на филологический – другое дело, станете хорошим критиком.
Слово «критик» меня пугало. Я стала искать дальше и нашла математическую лингвистику.
Это название насторожило родителей. Нет ли тут какой идеологической диверсии? Они как раз вернулись из очередной загранкомандировки и нашли меня, как сказал отец, «совершенно отбившейся от рук», хотя к их рукам прибиться мне было просто некогда, даже если бы я захотела: вся их жизнь проходила в таких командировках. Мы оставались с бабушкой. Они приезжали в отпуск раз в год и за это время судорожно пытались заново со мной познакомиться и хоть как-то скорректировать те искривления, которые я, по их мнению, допустила. Понятно, что таких искривлений становилось все больше, особенно идеологических. Я-то никаких искривлений не замечала, они и были моя жизнь.
Так вот, математическая лингвистика. Месячного отпуска родителям хватило, чтобы смириться с этим названием, и они отбыли в очередную командировку. К счастью, бабушке смиряться не требовалось, таких слов она не заучила бы ни за что.
Я поступила, чудом проскочив экзамен по математике, которого боялась как огня. Поступила – и тут уж настала моя очередь приходить в ужас. Теперь я, совсем как моя бабушка, обмирала при словах «дефиниция», «корреляция», «дихотомия», «сонорность». Как моим родителям, мне понадобился чуть ли не месяц, чтобы свыкнуться с тем, что я уже здесь, это теперь моя жизнь на пять лет и все эти слова тоже мои, деваться некуда.
Чего я ни за что не сказала бы своим идеологически выдержанным родителям, так это того, что факультет оказался насквозь диссидентским. Мы учились по затертым ксероксам уехавших, а потому запрещенных лингвистов. Их учебники были изъяты из всех библиотек, и один бог знает, как их вообще сохранили. Никто на факультете в жизни не вступил в партию. Были уехавшие, были уезжающие, были те, кто собирался уезжать. Те, кто оставался, и здесь жили как в отъезде, пересекаясь с окружающим миром только в случае крайней нужды. Преподаватели, понижая голос, иногда передавали друг другу то «привет от Жолковского», то «привет от Бори, помнишь, Бори Гройса»…
Они, как и мы, были уверены, что это навсегда.
Я помню тот день, на первом курсе. В аудиторию вошла Ариадна (так мы все ее звали), прямая, с пучком совершенно седых волос на затылке, обвела нас своим прозрачно-голубым взглядом и спросила:
– Вы уже знаете?
Мы или не знали, или не поняли, о чем она.
– Он умер.
Он – это тогдашний вождь, который, конечно, давно уже дышал на ладан, но всем казалось, что он никогда не умрет, так и будет вечно произносить свои бессмысленные речи, больше похожие на жевание тянучек. Он будет делать вид, что произносит речи, а мы будем делать вид, что слушаем, если перифразировать известный анекдот.
Я помню и то, что мы сделали в ответ. Мы закричали «ура» и зааплодировали.
Ариадна улыбнулась, но как-то грустно.
– Милые дети, – сказала она, снова обводя нас взглядом, медленно, останавливаясь на каждом, – если бы вы жили в России долго, как я, то знали бы, что все перемены здесь всегда только к худшему.
И мы приступили к старославянским текстам. Ариадне мы, конечно, не поверили. Мы очень хотели перемен.
Пока, в ожидании, надо было просто учиться и сдавать экзамены. Например, математику. О, вот что стало моим настоящим кошмаром. В названии «математическая лингвистика» я предпочла не заметить первое слово, решив, что как-нибудь справлюсь. Теперь это слово надвигалось на меня каждую сессию, закрывая небо! Матлогику я кое-как сдала, с трудом, но сдала и теорию вероятностей. А вот на линейной алгебре застряла, и надолго. Я сдавала этот несчастный зачет, всего лишь зачет, целых пять раз!
Надо сказать, и преподаватель был не рядовой. Он входил на очередную лекцию, не обращая на нас никакого внимания, не здороваясь, проходил к доске, вставал к нам спиной и начинал писать: слева направо, убористо, строка за строкой. Когда он исписывал доску, то стирал это и опять начинал сверху. Иногда что-то бормотал. Потом звенел звонок, и он немедленно останавливался – закончил или не закончил. И тут же, не глядя на нас, выходил. Мы всерьез спорили, не робот ли он, тем более вместо одной руки у него был протез. Кстати, этой рукой (на протезе была черная перчатка) он и писал.
Предчувствия у нас были самые нехорошие. Как мы будем сдавать ему зачет?! Вся тетрадь была у меня исписана его формулами, которые я аккуратно копировала с доски, но что мне было с ними делать? Выучить невозможно, понять – тем более.
Боялись мы не зря. Впрочем, были среди нас математические гении (только так я могла называть тех, кто понимает линейную алгебру), они и сдали роботу зачет в первых рядах. Потом пошли такие, как я. Четырежды повторялась одна и та же история: я начинала отвечать на вопрос билета, робот слушал, удовлетворенно кивал, потом мы доходили до какой-нибудь формулы, и он спрашивал:
– А вот здесь что?
Я немедленно сбивалась. Я могла рассказывать только подряд, по своей записи. И тут он переключался на урчание, а потом сразу на визг:
– Нет! Вы не знаете! Вон!
И я уходила. Сессия давно закончилась, прошли каникулы, шел второй семестр, а я все пыталась сдать линейную алгебру.
На пятый раз я пришла сдавать этот треклятый зачет, совершенно уверенная, что все повторится. И вдруг вместо нашего робота в аудиторию вошел совсем другой человек – молодой, в очках. Главное, он был все-таки точно человек, с человеческими повадками и без устрашающего протеза. В остальном – ну, математик…
– Аспирант, наверное… – прошептала моя подруга, которой тоже не удавалось пробить эту стену под названием «линейная алгебра».
Молодой человек поздоровался, разложил на столе билеты, назвался и сказал, что сегодня по просьбе своего профессора зачет будет принимать он, профессор на конгрессе.
Я взяла билет, начала готовиться. Подошла моя очередь. Я села напротив экзаменатора. Не знаю, что выражал мой взгляд – отчаяние? мольбу? – но он долго не прерывал мой заученный ответ. Потом все-таки прервал:
– А вот здесь у вас что?.. – он показал пальцем строчку.
Я запнулась.
– Ну, что? – спросил он мягко. – Вы же знаете, я уверен. Ну?..Он смотрел на меня с такой надеждой, как будто это ему, а не мне надо было во что бы то ни стало сдать эту мерзость! Но я уже поняла: нет, я не сдам ее, никогда. Теперь на лице у меня точно было отчаяние. Я положила перед ним свою тетрадь, исписанную формулами.– Вот. Я была на всех занятиях. Не пропустила ни одного. Я всё записывала. Я сделала всё, что могла. Но я ничего не понимаю в вашей линейной алгебре! Я ни за что ее не сдам, ни за что. Извините. Я пойду.
Он посмотрел на меня очень внимательно. Потом бросил взгляд на аудиторию. Нет, никто не слышал моей эскапады, все готовились к своим билетам.
Я выскочила в коридор и только там вспомнила, что забыла зачетку и тетрадь на столе у аспиранта (если он, конечно, действительно был аспирант). Ну и ладно, подумала я, все равно подругу собиралась ждать. Торопиться теперь мне было некуда, я вообще не знала, чем заканчиваются истории с несданными зачетами – может, меня уже завтра исключат. Заходить в аудиторию снова мне не хотелось. Нет, потом, подругу попрошу забрать.
И тут дверь открылась. Вышел наш аспирант. Огляделся по сторонам, подошел ко мне.
– Вот ваша тетрадь, я посмотрел, все конспекты в порядке.
– Я знаю.
– А вот зачетка. У вас там пятерки в основном, да?
– Есть и четверки, но мало. В основном по математике, – сказала я тихо.
– Я и говорю, зачетка у вас хорошая. Ну, успехов вам. Рад был познакомиться.
Он помедлил секунду, кивнул и вернулся в аудиторию.
Я плохо понимала, что он мне сказал. Хорошая зачетка – это ирония, что ли? Для того, кому грозит исключение из университета, это в самый раз.
Я механически пролистала свою зачетку: отлично, отлично, отлично, хорошо, отлично, отлично… И на страничке зачетов вдруг увидела: «Линейная алгебра – ЗАЧЕТ». Сегодняшнее число и подпись.
Подруга, которая вышла следом, и тоже с зачетом (надо надеяться, более заслуженным), наверняка решила, что со мной что-то не так: я сидела в коридоре на корточках, у стены, и, раскачиваясь, смотрела в раскрытую зачетку. Я просто не могла оторвать взгляд от этой страницы.
На следующий день наш вчерашний экзаменатор ждал меня у выхода с факультета. То есть мне и в голову поначалу не пришло, что он ждет меня. Потом, когда он направился прямиком ко мне, очень испугалась: вдруг он передумал? Он это понял, засмеялся:
– Да нет, что вы, что вы! Зачет ваш вполне заслуженный. Я вот посмотрел расписание ваших занятий и решил к вам зайти. Я провожу вас, не возражаете?
Поворот был неожиданный, но я не возражала, он мне, в общем, понравился. Да и потом, никакого романа у меня на тот момент все равно не было, ну, целовались как-то с однокурсником в кино, да и всё. Мы пошли к метро.
С этого дня он провожал меня домой каждый день, и я незаметно для себя втянулась в эти провожания, не успев спросить себя – хочу ли я этого на самом деле? Родители тогда уже вернулись из последней своей командировки, осели здесь, мы жили теперь все вместе. Но то, что в детстве казалось мне несбыточным счастьем – мама, папа, бабушка и я в одной квартире, – сейчас обернулось раздраем. Нам было поздно учиться жить вместе. Поэтому домой я приходила только ночевать, отсиживаясь в библиотеке, в общежитии у однокурсников, сбегала в театр на лишний билетик или в консерваторию.
В этом смысле Математик оказался мне очень кстати. Теперь было кому проводить меня домой, если я поздно возвращалась. Да и вообще – внимание взрослого мужчины (как выяснилось, не аспиранта уже, а преподавателя!) мне льстило, надо это честно признать. Я уж не говорю про зачет по линейной алгебре…
День на третий мы поцеловались, и целовались с тех пор часто и много, везде, где придется: на бульварах, на улицах, в метро, в подъезде. Целоваться с ним мне нравилось, я даже стала думать, не любовь ли это. Он-то был влюблен, без всяких сомнений, это понимала даже я, с ничтожным моим опытом по этой части, но предпочитала об этом не задумываться.
Был апрель, любимый мой апрель, с его вечными лужами, от которых остро пахло весной и которые обещали скорое лето. Мы с моим Математиком шли от универа к метро – я же говорю, он был педантичен, не пропускал ни дня, – и я время от времени перескакивала через лужи на одной ножке, как прыгают в классики. Я только что сдала зачет по очередному спецкурсу, страшнее той самой линейной алгебры впереди ничего не предвиделось, мне оставался какой-нибудь год учебы…
– Послушай-ка, а выходи за меня замуж! – услышала я за спиной.
Это было, мягко говоря, неожиданно. Мы и знакомы-то были месяц, не больше. Тем не менее это не показалось мне таким уж абсурдом. Замуж… а что, это забавно!
– Ты серьезно? – рассмеялась я.
– Ну да. Я тебя люблю и все такое. Выходи за меня замуж, а? – повторил он.
Я перепрыгнула еще пару луж. Безмятежное настроение улетучилось. Все-таки это было серьезное предложение, и мне надо будет что-то отвечать, смешками тут не отделаешься.
– Никто не будет любить тебя так, как я, – вдруг сказал он.
Это было красиво сказано, а я это тогда еще ценила. Пока мы дошли до метро, я почти готова была сказать «да», но молчала. То есть мы продолжили какой-то незначительный разговор, совсем посторонний, а я тем временем оценивала ситуацию. Если кратко, я не слишком понимала, что будет означать это «замуж», но точно знала, что это означает выход на свободу из родительского дома. А это было уже очень много! Так, саму по себе, они бы меня не отпустили, а здесь такой благовидный предлог: девушка выходит замуж. Запретят? Глупости, я все равно уйду.
Когда мы подходили к моему дому, продолжая перескакивать в разговоре с темы на тему, я уже все решила.
– Так что ты скажешь? – спросил он меня перед подъездом, когда я собиралась уже попрощаться.– Ну да, я согласна. Все закрутилось, и очень быстро. Жениться решили, когда закончится сессия, во время каникул. Дальше надо было сказать родителям. Я предполагала, что они будут убиты, но не думала, что так. Выслушав все их «куда ты спешишь» и «подожди хотя бы годик», я привела Математика к нам. Он пришел, с букетом красных гвоздик, которые я поставила в вазу на пианино (почему я до сих пор помню эти гвоздики?). Математик им не понравился – но им бы никто тогда не понравился! Я сказала, что решение окончательное, мы женимся, и точка.
Математик познакомил меня со своей мамой – потому что выход на свободу от своих родителей предполагал переход в их с мамой квартиру. Да и просто потому, что надо же познакомиться. Мама была забавная, не без странностей, как все художники, пусть и неудавшиеся, но главное – мы с ней друг другу понравились. Она много читала, ходила, как и я, по театрам, как бы между прочим сказала мне, что есть у нее племянник («знаете, деточка, композитор, серьезный композитор»), и посмотрела на меня значительно.
Мы с Математиком договорились, что свадьба будет самая маленькая и скромная, без всяких платьев-фаты, представить всё это на себе, а себя в машине с куклой на бампере я могла, наверное, только выпив водки, которую никогда не пробовала. Он не возражал, он и сам терпеть не мог находиться в центре внимания. Позвали человек пятнадцать, включая родителей и бабушку, которым впору было траур надевать, такие у них были лица. Мама Математика шепнула мне, что звали и ее племянника-композитора, но он в отъезде.
– Ничего, познакомитесь потом как-нибудь, – сказала она и снова посмотрела на меня значительно. Как будто я так уж хотела с ним знакомиться. Помню, что на свадьбе не испытывала ничего, кроме жгучего стыда (за что? почему?) и желания, чтобы все поскорее закончилось. А ведь предстояло еще и… Это невероятно, но факт: мы с Математиком до сих пор только целовались, иногда очень долго, взахлеб, пробуя на вкус, как у нас это получается. Целовались – и ничего больше. Можно было бы сказать, что «больше» нам было попросту негде, но даже в те времена, без квартир и гостиниц, этого стоило только очень сильно захотеть. Однако я этого избегала, как могла, а Математик не настаивал.
И вот, уехав от гостей, мы остались вдвоем в его комнате, впервые. В комнате, куда я накануне уже перевезла какие-то свои вещи.
Уже в эту ночь я поняла: это какая-то ошибка. Что я здесь делаю? Мне смертельно захотелось домой, к родителям, даже со всеми их постоянными поучениями, и к бабушке, которая любила меня вообще без всяких оговорок. Я пошла в ванную, умылась очень холодной водой, присела на табурет… Да ладно, сказала я себе, не возвращаться же, в самом деле! Что я скажу родителям? Что я ошиблась? И потом, наверняка так со всеми бывает после свадьбы (интересно, с чего я это взяла?), хочется в прежнюю жизнь, жаль ушедшего детства. Это пройдет, я привыкну. На второй день это не прошло, на третий тоже. На четвертый я съездила в гости к родителям, но ничего им не сказала. Мне тогда легче было умереть, чем признать, что я ошиблась. Вскоре мы уехали на море, там было уже полегче, море я всегда любила, а когда вернулись – пора было готовиться к занятиям, и мне, и Математику, это отвлекало. Как ни странно, мы продолжали жить вместе, мне и в голову не приходило, что можно просто взять и уйти. Тем более что постепенно я и правда начала привыкать – и к новому дому, куда более скромному, чем наш, и к Математику, и к странностям его мамы. С ней мы скорее подружились, иногда вместе куда-нибудь выходили. Математик выходов не любил, он все вечера проводил в основном на диване. Он даже книг не читал, просто лежал и смотрел в потолок, когда возвращался с кафедры. Когда я спрашивала, что он делает, то получала ожидаемый ответ: