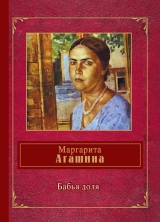
Текст книги "Бабья доля (сборник)"
Автор книги: Маргарита Агашина
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Маргарита Агашина
Бабья доля (сборник)
© Агашина М. К., наследница, 2014
© Каплер А. Я., наследница, 2014
© Агашина Е. В., составление, 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ( www.litres.ru)
* * *
Маргарита Агашина – о себе
Я родилась 29 февраля 1924 года в Ярославле. У нас, на левом берегу Волги, не было высоких городских зданий. Деревянные домики с палисадниками, со скамеечками у ворот, дворы, заросшие густой муравой, – раздолье ребятишкам. Отец мой тогда ещё учился в медицинском институте в Ленинграде. Мама работала, каждое утро уезжала за Волгу на маленьком пароходике «Пчёлка».
Помню первую песню, которую услышала: я лет до трёх без песен не засыпала, и вот бабушка, не имевшая никакого музыкального слуха, укачивала меня одной-единственной песней:
Все платочки приносила,
одна шаль осталася.
Всех хороших прилюбила,
одна шваль осталася.
Такой же бесслухой была и мама, но она же научила нас с сестрой взрослой песне:
Спускается солнце за степи,
вдали золотится ковыль…
Вспоминаю первые стихи, над которыми горько плакала, – «Орина, мать солдатская». Я ещё не умела читать и только слушала. И вот мама доходила до строк:
Мало слов, а горя реченька,
горя реченька бездонная…
И тут я каждый раз заливалась слезами. Некрасова дома читали много. Все любили его и даже тихо гордились тем, что мы, как и он, ярославские: мы же происходили оттуда, из некрасовских мест, отцовская деревня Бор – рядом с Грешневом. О Некрасове и его стихах у нас всегда говорили с восторгом, нежностью. Я благодарна за это своей семье и судьбе. Потому что уверена: если бы в детстве я вот так же сильно полюбила другого поэта, я писала бы потом совсем другие стихи. А может быть, и совсем не писала…
Оба моих полуграмотных деда стихов не писали, но были, по-моему, поэтами. Дед по матери – Иван Большаков, по деревенскому прозвищу Ванька Мороз, был весёлым, лихим парнем. Отслужив службу в царской армии, он вернулся в родные места только затем, чтобы жениться, и сразу уехал в Москву. Бабушка, кстати, говаривала, вспоминая: «Я и замуж-то вышла не за Ваньку Мороза, а за Москву». Дед служил дворником, рассыльным, кондуктором на железной дороге. Однажды, получив новую форму, на изнанке фуражки он написал: «Не тронь, дурашка, – не твоя фуражка!» Дед по отцу – Степан Агашин – в сосновый порог своего дома вбил подкову – верил, наверное, что принесёт она счастье его детям. Детей было восемь, и на всех одни валенки.
Я думаю: вот от той озорной фуражки и от печальной этой подковы и пошла моя судьба.
Дед Иван в своё время всеми правдами и неправдами сумел добиться, чтобы его дочь – моя мама – бесплатно окончила гимназию и стала учительницей. Отец же, врач, получил высшее образование один из всех своих сестёр и братьев и, конечно, при Советской власти. Он прошёл в своей жизни четыре войны: рядовым солдатом – Гражданскую, был ранен в 19-м году в местечке Гнилой Мост под Витебском, потом, уже военным хирургом, Финскую и Отечественную – от июля 41-го и до окончания войны с Японией.
Привольное было у меня детство, хоть и в городе я родилась. Каждое лето ездили мы в Бор. И как же всё это помнится! Воблой и рогожей пахли пристани, на Бабайках покупали нам землянику – от неё белое молоко в тарелке становилось то голубым, то розовым. Пароходик шлёпал колёсами; у берегов, по колено в воде, стояли коровы – белые морды, чёрные очки. А там – Красный Профинтерн, четыре версты до Бора. Отцовский дом, огород, чёрная баня, за огородом луг – ромашка, иван-да-марья, колокольчики, а по лугу – речка Ешка, полтора метра шириной…
Потом мы перебрались на Среднюю Волгу, в теперешнюю Пензенскую область. И опять рядом красота: поляны незабудок, дубовые леса и осинники, полные грибов, заросли папоротника, а в них, под каждым кружевным листом, земляника, – не ягодка-две, а сразу пригоршню наберёшь.
Затем жили мы далеко в Сибири, в тайге, в центре Эвенкийского национального округа, на фактории Стрелка Чуни. Отец зиму и лето кочевал по тайге с охотниками и оленеводами. Мама учила эвенкийских ребят в первой, только что открытой, школе. Над входом в школу – там, где теперь обычное «Добро пожаловать!», – висел плакат: «Рыба, пушнина, финансы, ликбез – вот четыре боевых задачи второго квартала». Запомнились наши дороги – зимой, на оленях через всю тайгу, от Стрелки до Туры. Ехали недели. Везли мешки мороженых пельменей. Ночевали в палатке.
В те детские годы много я видела красоты – и среднерусской, и северной, таёжной. И люди рядом были прекрасные – простые, добрые, верные. Твёрдо знаю: там, на Севере, я впервые была счастлива оттого, что все были вместе. Всё это и сейчас помню.
Но как-то так шла судьба и складывался характер, что не вся эта разная, счастливая, щедрая красота и даже не экзотика толкнули к первым стихам.
Первые, серьёзные по чувству, стихи написала я, когда отец вернулся с Финской войны. Стихи были об этом. Их напечатали в областной пионерской газете и даже грамоту какую-то мне за них прислали. Это произошло уже в маленьком городе Тейкове Ивановской области, где я кончала среднюю школу и где нашу семью застала Великая Отечественная война…
Сначала мы проводили на фронт отца и учителей. Потом ребят-старшеклассников. Я окончила курсы сандружинниц и работала в госпитале. Училась в девятом классе в третью, вечернюю, смену. В Тейкове и окрестных лесах и сёлах стояли тогда, как и везде, воинские части. В каждом тейковском доме жили лётчики и десантники. И, конечно, у каждой тейковской девчонки был свой десантник. Они приходили к нам на школьные вечера, а мы – к ним в землянки, в пригородный лес, с самодеятельными концертами. И я читала свои стихи:
Когда штурвал сожмёт рука пилота,
окутав поле дымкой голубой,
вас унесут стальные самолёты
в далёкий путь, в суровый трудный бой…
О поэтических достоинствах стихов лучше промолчать. Но мне в последующей жизни довелось выступать, пожалуй, больше чем надо. И ни одна аудитория не принимала меня так горячо.
К этому времени я уже знала, что есть в Москве Литературный институт, и, конечно, мечтала в нём учиться. Но шла война, и вызов в Москву давали только технические вузы. Мне было всё равно – какой технический, и я выбрала просто институт с красивым названием: Институт цветных металлов и золота. Два года училась на горном факультете, сдавала, с грехом пополам, всякие технические сложности, вроде сопромата и теоретической механики, но весной 45-го, не окончив второго курса, ушла в Литературный институт имени Горького.
Нас на курсе числилось двенадцать человек, и только один был прозаиком – остальные писали стихи! Сначала я попала в семинар Веры Звягинцевой. Был такой «девичий» семинар, который как-то тихо, сам по себе, распался. Меня вызвали на творческую кафедру и предложили – на выбор – два семинара: Михаила Светлова и Владимира Луговского. Светлова я, конечно, знала – «Гренаду», «Рабфаковку», «Двадцать лет спустя»… Мне стало страшно. Боже мой, я – к Светлову?.. И я не сказала, а выдохнула:
– Уж лучше к Луговскому!
Словно это было меньше, проще, чем Светлов. Но я тогда просто не знала ни стихов, ни даже имени Луговского.
Владимир Александрович Луговской – это было то, что нужно моему характеру, моей вечной застенчивости. На его шумных семинарах, где доброжелательные, но безжалостные собратья по перу громили друг друга, не выбирая выражений, особенно доставалось авторам «тихих» стихов. А тише меня была только Танечка Сырыщева. Владимир Александрович сам читал наши тихие стихи, громко читал. И подчёркивал голосом то, что этого заслуживало.
Много раз потом, после института, я встречала его в Центральном доме литераторов, в издательствах. Каждый раз замирала, как на семинарах. И так ни разу и не сказала, как я ему тогда была благодарна.
Да и только ли ему?.. В те счастливые времена нам преподавали Павел Антокольский, Константин Паустовский, Михаил Светлов, Александр Яшин, Константин Федин, Лев Кассиль. Нас учили лучшие профессора Московского университета. Конечно, это было счастье! И единственное, о чём я всю жизнь жалею, это то, что большую половину этого счастья я пропустила мимо ушей: я никогда не была прилежной ученицей.
Но – общежитие! Этот послевоенный холодный, голодный полуподвал знаменитого дома Герцена, где круглые сутки, в будни и в праздники – на подоконниках, в углах, на лестнице, за столами – громко и вдохновенно, не сомневаясь в своём божьем даре, молодые восторженные личности читали, подвывая, свои стихи, – это был еще один институт! Добровольные слушатели тут же громили только что рождённый шедевр, и ты отходил, убитый, думая о том, что у тебя не так и что же тебе делать дальше. Да, это была великая школа. И пройти её было не так легко…
Первое доброе слово от институтских ребят – такое долгожданное и строгое – я услышала осенью 1947 года на нашем традиционном вечере одного стихотворения. Я читала тогда «Хлеб 47-го». Конечно же, памятна и дорога по-светловски неповторимая похвала, несколькими годами позже данная Михаилом Аркадьевичем двум моим стихотворениям:
– Всегда пишите «Варю» и «Юрку»! И я буду вас нежно любить и подавать вам пальто…
В 1950 году я окончила институт. Моя дипломная работа – поэма «Моё слово» – получила отличную оценку. Она была напечатана в журнале «Октябрь» в 1951 году. Тогда же её перевели в Болгарии, а потом в Корее. За эту поэму в 1952 году меня приняли в Союз писателей. И до сих пор я получаю добрые письма читателей об этой своей первой, по сути, работе и удаче.
Первая книга – сборник стихов «Мое слово» – вышла в 1953 году в издательстве «Молодая гвардия». Потом – «Бабье лето» (1956), «Сорок трав» (1959), «Стихи о моем солдате» (1963), «Девичник» (1972), «Песня» (1974), «Платок» (1975), «В каждой песне – береза…» (1984) и другие в разные годы, в издательствах Москвы и Волгограда.
С 1951 года я живу в Волгограде. Его судьба, его люди, его матери и вдовы, его стройки, дороги, его необъятные, нелёгкие поля – все это учило и учит меня жить, быть там, где все, горевать и радоваться вместе со всеми, не жалеть себя, оставаться самой собой. Благодарю судьбу за все годы, прожитые в этом городе, дорогом и любимом. За все выпавшие мне встречи. За все добрые слова, сказанные мне моими земляками.
…Если бы я жила в другом городе, я писала бы совсем другие стихи. А может быть, и совсем не писала.
1985
Что было, то было…
Песни
«Что было, то было…»
Что было, то было:
закат заалел…
Сама полюбила —
никто не велел.
Подруг не ругаю,
родных не корю.
В тепле замерзаю
и в стужу горю.
Что было, то было…
Скрывать не могла.
Я гордость забыла —
к нему подошла.
А он мне ответил:
– Не плачь, не велю.
Не ты виновата,
другую люблю…
Что было, то было!
И – нет ничего.
Люблю, как любила,
его одного.
Я плакать – не плачу:
мне он не велит.
А горе – не море.
Пройдет. Отболит.
1965
Растёт в Волгограде берёзка
Ты тоже родился в России —
краю полевом и лесном.
У нас в каждой песне – берёзка,
берёза под каждым окном.
На каждой весенней поляне
их белый живой хоровод.
Но есть в Волгограде берёзка —
увидишь, и сердце замрёт.
Её привезли издалёка
в края, где шумят ковыли.
Как трудно она привыкала
к огню волгоградской земли,
как долго она тосковала
о светлых лесах на Руси, —
лежат под берёзкой ребята —
об этом у них расспроси.
Трава под берёзкой не смята —
никто из земли не вставал.
но как это нужно солдату,
чтоб кто-то над ним горевал.
И плакал – светло, как невеста,
и помнил – навеки, как мать!
Ты тоже родился солдатом —
тебе ли того не понять.
Ты тоже родился в России —
берёзовом, милом краю.
Теперь, где ни встретишь берёзу,
ты вспомнишь берёзку мою,
её молчаливые ветки,
её терпеливую грусть.
Растёт в Волгограде берёзка.
Попробуй, её позабудь!
1966
Солдату Сталинграда
Фатеху Ниязи
Четверть века назад
отгремели бои.
Отболели, отмаялись
раны твои.
Но далёкому мужеству
верность храня,
ты стоишь и молчишь
у святого огня.
Ты же выжил, солдат!
Хоть сто раз умирал.
Хоть друзей хоронил
и хоть насмерть стоял.
Почему же ты замер —
на сердце ладонь,
и в глазах, как в ручьях,
отразился огонь?
Говорят, что не плачет солдат:
он – солдат.
И что старые раны
к ненастью болят.
Но вчера было солнце!
И солнце с утра…
Что ж ты плачешь, солдат,
у святого костра?
Оттого, что на солнце
сверкает река.
Оттого, что над Волгой
летят облака.
Просто больно смотреть —
золотятся поля!
Просто горько белеют
чубы ковыля.
Посмотри же, солдат,
это юность твоя —
у солдатской могилы
стоят сыновья!
Так о чём же ты думаешь,
старый солдат?
Или сердце горит?
Или раны болят?
1967
«А где мне взять такую песню…»
Г. Ф. Пономаренко
А где мне взять такую песню —
и о любви, и о судьбе,
и чтоб никто не догадался,
что эта песня – о тебе?
Чтоб песня по свету летела,
кого-то за сердце брала,
кого-то в рощу заманила,
кого-то в поле увела.
Чтобы у клуба заводского
и у далёкого села,
от этой песни замирая,
девчонка милого ждала.
И чтобы он её дождался,
прижался к трепетным плечам…
Да чтоб никто не догадался,
о чём я плачу по ночам.
1967
Подари мне платок
Ивану Данилову
Подари мне платок —
голубой лоскуток.
И чтоб был по краям
золотой завиток.
Не в сундук положу —
на груди завяжу
и, что ты подарил,
никому не скажу!
…Пусть и лёд на реке,
пусть и ты вдалеке.
И платок не груди —
не кольцо на руке.
Я одна – не одна.
Мне тоска – не тоска,
мне и день не велик,
мне и ночь не горька.
Если ж в тёмную ночь,
иль средь белого дня
ни за что ни про что
ты разлюбишь меня, —
ни о чём не спрошу,
ничего не скажу,
на дарёном платке
узелок завяжу.
1970
Лирика
Даже узкая дорога может на две разойтись
Письмо
Первый снег летит, едва заметен,
в золотой, отжившей век, листве.
Вдруг откуда-то рванулся ветер
и, кружась, понёсся по Москве.
И вступают с ветром в поединок,
гордые холодной красотой,
два дождя: серебряный – снежинок
и кленовых листьев – золотой.
…Где-то в дальних дрезденских аллеях,
о которых в письмах пишешь ты,
в октябре деревья зеленеют
и цветут июльские цветы.
Пусть цветут!
Тебе они чужие,
и с тоскою думать ты привык
о кленовом золоте России,
о холодной осени Москвы…
1945
«Там чужой, незнакомый лес…»
Там чужой, незнакомый лес,
незнакомых рек берега.
Ты живёшь на чужой земле
и идёшь по чужим лугам.
Ты мне пишешь о той стране
и тоской не коришь судьбу.
Только просишь:
«Хоть что-нибудь
напиши о России мне».
1946
«У лесных застенчивых фиалок…»
У лесных застенчивых фиалок
вдруг смелеет запах по ночам…
Подошёл – и лёгкий полушалок
разметал по дрогнувшим плечам.
Пусть на нём, и ласковом, и ярком, —
голубые чистые края.
Но твоим приветам и подаркам
не умею радоваться я.
Не тебя, хорошего, мне жалко,
и не мне мила твоя гармонь.
И пушистым краем полушалка
не согреть холодную ладонь.
1946
«Задохнувшийся пылью цветок…»
Задохнувшийся пылью цветок
почему-то забыт на окне.
Никогда не узнает никто,
что сегодня почудилось мне.
Никому не скажу про беду
или, может быть, радость мою.
Я любимое платье найду
и любимую песню спою.
Заплету по-другому косу,
распущу на виске завиток…
И куда-нибудь прочь отнесу
задохнувшийся пылью цветок.
1946
«Говорят, что время правит веком…»
Говорят, что время правит веком,
и что есть счастливая звезда…
Я ждала такого человека,
чтобы с ним остаться навсегда.
Пусть приходит, не сказав ни слова.
Пусть не взглянет – обернусь сама.
Только где увидеть мне такого,
чтобы я влюбилась без ума?
Говорят, что есть большие двери,
прячущие что-то от меня.
Я хочу во многое поверить,
даже если не смогу понять.
Я, наверно, страшно верить буду,
верить сердцем, вопреки уму!
Только где найти такое чудо,
чтобы я поверила ему?
1946
В дороге
Ветер снегом вагон забрасывал,
разозлясь за стеклом окна…
Вот она, сторона Некрасова,
ярославская сторона!
Как в стихах его – не кончается
бесконечных покосов ширь;
над болотом шумят-качаются
ропотливые камыши;
возле леса, от снега белого,
спит деревня, белым-бела;
от колодца обледенелого
тропка тихая пролегла;
поросли лопухом-репейником
задымлённые стены риг.
И мне кажется коробейником
подошедший к окну старик.
Он, во мне угадав нездешнюю,
зорким глазом прильнёт к стеклу,
скажет, окая: «Скоро Грешнево…»,
не спеша запахнёт тулуп,
станет медленно подпоясывать…
Ветер плачется, ночь темна.
За окном сторона Некрасова,
ярославская сторона.
1946
«Я опять убегу!..»
Я опять убегу!
И на том берегу,
до которого им не доплыть,
буду снова одна
до утра, дотемна
по некошеным травам бродить.
Возле старой ольхи,
где молчат лопухи,
плечи скроются в мокрой траве.
И твои, и мои,
и чужие стихи
перепутаются в голове.
Я пою про цветы,
потому что и ты
на каком-нибудь дальнем лугу
ходишь, песней звеня.
И напрасно меня
ждут на том,
на другом, берегу!
1947
«Одна в поле греча…»
Одна в поле греча,
а от пчел нет житья!
Одна в году встреча,
да и та не моя.
И песни, и речи —
не отстанут друзья.
Одна в году встреча,
да и та не моя.
1947
«Я об этом не жалею…»
Я об этом не жалею
и потом жалеть не буду,
что пришла я первой к пруду,
что поверила тебе я.
Тонко-тонко,
гибко-гибко
никнут вётлы над прудами…
Даже первая ошибка
забывается с годами.
Я об этом не жалела,
что вчера тебя встречая,
ничего не замечая,
я в глаза твои смотрела
долго-долго,
много-много.
А теперь ресницы – вниз…
Даже узкая дорога
может на две разойтись.
1947
«Ты уходишь в синий вечер…»
Ты уходишь в синий вечер…
Ветер с поля пахнет гарью,
носит семя спелой гречи,
гнёт к ногам иван-да-марью.
Ветер может всё на свете!
А сегодня мне понятно:
ты уйдёшь!
И даже ветер
не вернёт тебя обратно.
1947
«Я раздвину занавеси окон…»
Я раздвину занавеси окон,
я все двери настежь распахну,
чтобы ты издалека-далёка
увидал сейчас меня одну.
Пусть влетит холодный ветер в двери,
волосы и платье теребя…
Я хочу, чтоб ты навек поверил
в то, что мне не выжить без тебя.
1947
«На высоком берегу…»
На высоком берегу
я стою.
Эту песню берегу —
не пою.
Кто-то бегает в пыли
босиком.
Улетают журавли
косяком.
Отцветает бересклет
у плетней.
Разгорается рассвет
все сильней.
Тихий вечер,
коноплю теребя,
помнит-знает,
как люблю
я тебя.
1947
«Ты меня неразгадкой не мучай…»
Ты меня неразгадкой не мучай:
ты сказал, что однажды в году
и берёза бывает плакучей,
не стыдясь, у людей на виду.
Я встречала плакучие ивы,
горем гнутые поросли лоз,
помню жгучие слёзы крапивы,
но не знала плакучих берез.
А сегодня примчались к берёзе
невесенние тёмные грозы,
и катились в зелёную озимь
золотые холодные слёзы.
1947
«Снова до рассвета…»
Снова до рассвета
песня по равнине:
«Как бы мне, рябине…
Как бы мне, рябине…»
Снег ко мне на плечи
ветром нанесло.
Никого навстречу
нету, как назло.
Медленней и строже
зимняя заря.
Промелькнёт прохожий
возле фонаря.
И опять ни звука
на моей дороге.
Будет та же скука,
той же быть тревоге.
Той же быть кручине,
те же сны приснятся…
«Как бы мне, рябине,
к дубу перебраться?»
1947
Август
Поздний август пришел без оглядки,
задохнулся, устал, заспешил.
Он осинам бордовые латки
на зелёные платья нашил.
Под еловые сизые лапы
побросал с перехлёстом дождей
сыроежек лиловые шляпы
и косматые губы груздей.
Взбудоражил тихоню Ветлугу,
приподнял и размыл берега;
разметал по колхозному лугу
молодые крутые стога.
В палисаднике вянет крушина,
жернова захлебнулись зерном.
На дороге буксует машина,
до отказа гружённая льном.
1947
Хлеб 47-го
Может быть, забудется и это:
как, проклятым полымем паля,
жгло хлеба засушливое лето,
и от боли трескалась земля.
Как в домах – больным, по уговору —
береглась последняя трава,
и сухую липовую кору,
скрежеща, мололи жернова.
Но запомню: проливные грозы,
золочёный колос у плеча,
длинные, скрипучие обозы
в бубенцах и лентах кумача;
и вчера, увидя море хлеба,
на колени став у поля ржи,
на голос, поднявши руки в небо,
плакала старуха у межи.
1947
Стихи о детстве
1
Мне ни правдами, ни сказками
не забыть такой поры…
Там звенящими салазками
кто-то падает с горы.
Там блестят и пахнут шишками
начала январей.
Там боялась я с мальчишками
ловить нетопырей.
Там ветра поют тростинками
у маленькой реки,
и под тонкими осинками
сидят боровики.
Там сугробы пахнут вёснами
(звончей, ручей, журчи!),
а под мартовскими соснами
токуют косачи;
а метелями крылатыми,
когда вокруг темно,
ходит серый волк с волчатами
под мамино окно;
и, рванув цепями тряскими,
воют псы у конуры…
Мне ни правдами, ни сказками
не забыть такой поры!
2
…А вечер пришёл, и посёлок улёгся,
и тучи закрыли луну и звезду.
И я воровала лиловые флоксы
в заросшем малиной соседском саду.
В гривастой траве – ни дорожки, ни следа,
в обнимку с крапивой стоят лопухи.
Я ночью однажды из окон соседа
услышала: кто-то читает стихи.
И я пробиралась вдоль мокрого сада,
и боль, и дыханье в груди затая,
и слышала в окнах: «Гренада, Гренада!»
И снова: «Гренада, Гренада моя!»
Я, тесно прижавшись к некрашеной стенке,
забыла на клумбе чужие цветы,
забыла, что жжет от крапивы коленки,
забыла, что очень боюсь темноты!
…Расходятся тучи; протяжно и звонко,
горласто и долго орут петухи.
А в мокрой крапиве босая девчонка
дрожит от росы и бормочет стихи.
3
И прибегал зелёный май!..
И мы бросали дневники!
И в роще около реки
Тебе кричала я:
– Поймай!
Мальчишка мой,
мальчишка мой!
Поймай мне майского жука!..
Мы возвращались с полутьмой
из зарослей березняка.
И ты, сбивая с трав росу,
качал берёзку в две руки,
и мне в косынку и косу
вцеплялись майские жуки.
Потом забылся школьный класс
и пыльный город у реки,
и не боятся больше нас
смешные майские жуки.
Но, как и ты года назад,
забросив скуку дневников,
мой маленький вихрастый брат,
конечно, ловит тех жуков.
И я пишу письмо домой,
и я прошу издалека:
– Мальчишка мой!..
Братишка мой,
поймай мне майского жука.
4
Тихо шепчутся страницы,
в лампе горбится фитиль…
В дальний путь за Синей Птицей
вышел маленький Тиль-Тиль.
Окна настежь, двери настежь,
словно вдаль из-за угла
за большим крылатым счастьем
ночь мальчишку позвала.
Словно был за темной дверью
путь к заветному гнезду,
словно птица в синих перьях
ждёт его в своем саду.
Тихо шепчутся страницы
синей стаей легких птиц…
На подушке сон гнездится,
не поднять уже ресниц.
И пускай ему приснится,
что лежит у ног его
дальний путь за синей птицей,
птицей детства моего.
5
На окне в геранях тонко-тонко
солнце перепутало лучи.
За окном больничная трёхтонка
и на ней – знакомые врачи.
Были все какие-то другие;
стыл обед в кастрюлях на шестке.
Синий том «Военной хирургии»
спрятался в отцовском рюкзаке.
Мама становилась всё бледнее.
Грузовик сигналил со двора.
Из-за окон крикнули:
– Пора!..
Стало всё яснее и страшнее.
Громкие тяжелые рыданья,
всё слилось, ни взгляда, ни лица;
кто-то крикнул:
– Дочка, до свиданья! —
голосом любимого отца.
Отмелькала лугом Волчья Яма.
Грузовик скрывается за рвом…
Никогда не плакавшая мама
слёзы вытирала рукавом.
Встала у открытого окна,
плача и других не утешая,
и сказала медленно:
– Война…
Хорошо, что ты уже большая…
1948








