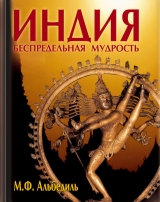
Текст книги "Индия: беспредельная мудрость"
Автор книги: Маргарита Альбедиль
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
О брахманических текстах, комментариях и толкованиях деталей ритуалов можно было бы говорить еще много, тем более что свод их, традиционно распределяемый по четырем ведам, весьма обширен. Но нам важнее подчеркнуть, что они не менее сложны и многообразны, чем тема, которой они посвящены, – ритуал жертвоприношения.
Богатая ритуалистическая традиция не отмерла вместе с древними текстами; под ее воздействием складывалось мировоззрение индийцев. Так, с ритуалистикой оказались тесно связаны традиционные индийские науки: астрономия была необходима для выбора времени жертвоприношений; геометрия – для устройства алтарей; индийская логика приспосабливалась в первую очередь к объяснению ритуальных процедур; о фонетике, грамматике и других лингвистических штудиях в связи с потребностями ритуала уже говорилось. По ритуальной модели строились города и писались политические трактаты, по ней же строились отношения между людьми. И сама жертва стала пониматься расширительно: ее разновидностями стали считаться кормление брахмана; угощение, предлагаемое гостю; различные дарения и раздачи, причем не только имущества, но и части личности, если можно так выразиться. Так, аскетизм рассматривается как форма жертвы собою, самопожертвования. И вся жизнь человека стала расцениваться как непрерывная цепь жертвоприношений, заключительным актом которой является сожжение тела усопшего на погребальном костре.Жертвоприношение стало универсальной и всеобъемлющей метафорой, позволяющей с ее помощью осмысливать все происходящее в мире, включая и жизнь человека, которая становилась, таким образом, тотально сакрализованной. Об этом свидетельствует, например, один из интереснейших текстов «Брихадараньяка-упанишады», передающий так называемое учение о пяти огнях (Панч-агни-видья):
...
Поистине тот мир, Гаутама, это жертвенный огонь. Солнце – его топливо, дым – солнечные лучи, день – его пламя, страны света – угли, промежуточные стороны – искры. На этом огне боги свершают приношение веры, из этого приношения возникает царь Сома.
Поистине, Гаутама, Парджанья (грозовой ливень) – это огонь, год – его топливо, облака – дым, молния – пламя, удары грома – угли, град – искры; на этом огне боги свершают приношение царя Сомы; из этого приношения возникает дождь.
Поистине, Гаутама, этот мир – огонь, земля – его топливо, огонь – дым, ночь – пламя, луна – угли, звезды – искры; на этом огне боги свершают приношение дождя; из этого приношения возникает пища.
Поистине, Гаутама, мужчина – это огонь, открытый рот – его топливо, дыхание – дым, речь – пламя, глаз – угли, ухо – искры; на этом огне боги свершают приношение пищи; из этого приношения возникает семя.
Поистине, Гаутама, женщина – это огонь, лоно – его топливо, соблазнительная речь – дым, детородные части – пламя, введение внутрь – угли, наслаждение – искры; на этом огне боги свершают приношение семени; из этого приношения возникает зародыш. Он живет, сколько живет, когда же он умирает, его несут к погребальному огню; его огонь – и есть огонь, топливо – топливо, дым – дым, пламя – пламя, угли – угли, искры – искры. На огне боги свершают приношение человека, из этого приношения возникает человек, имеющий цвет сияния…
Итак, жертвоприношение – базовая, объяснительная метафора духовной индийской культуры. Без подобных метафор не обходится ни одна культура. Так, в Европе XVIII в. порождающей метафорой стал механизм, а математизированная механика получила статус науки наук. Все мироздание представляли как гигантский механизм, который заводил Бог-«часовщик». В следующем столетии не менее завораживающую силу обрел образ организма, и черты проявления живого целого, проходящего путь от рождения до смерти, усматривали в самых разных явлениях. В XX в. моделью для понимания многих явлений стал язык. Во всех случаях действует принцип метафоры – того организующего и направляющего начала, которое и создает своеобразную интеллектуальную «оптику». Выбор той или иной метафоры сам по себе интересен, так как он обычно отвечает глубинным интересам людей той или иной культуры и наилучшим образом характеризует их отношение к миру.
Ритуал жертвоприношения – и реальный, и символический – создавал, таким образом, почти всеохватную сеть отождествлений и уподоблений, так что и весь мир, и вся человеческая жизнь воспринимались как постоянно длящееся жертвоприношение. Со временем именно жертвенно-ритуальная деятельность стала ведущей формой поведения, которая во многом определила специфический тип индийской культуры.
«То – это ты»
Одно из величайших духовных открытий, подаренных Индией миру, запечатлено в упанишадах – текстах, примыкающих к брахманам и названных индийской традицией «завершением вед», ведантой. Открытие это – подход к пониманию бытия как единого целого, как проявления некоего высшего духа. Представляется, что подобное миропонимание естественно и органично вырастало из прошлой архаики, из главной темы ведийских риши, соответствующей космогоническому мифу о появлении всего видимого многообразия вещей из некоего мирового первовещества путем его дробления, дифференциации.
Если в европейских культурах истинность – обычно синоним однозначности и недвусмысленности, если наше религиозное сознание обычно стремится различать правильное понимание религии – догму или ортодоксию – и осуждает все остальное как ложное – ереси, то в Индии религиозное сознание воспринимает мир иначе, а именно: разные символы указывают на одно и то же – на то высшее, запредельное, что невозможно выразить словом. Это высшее, каким бы именем мы его ни обозначили – Бог, Абсолют или еще как-нибудь, может быть одновременно и единым, и множественным. Мир не разделен непроницаемыми преградами на разные предметы и явления, действительные или воображаемые. Нет, все это – грани некой невидимой целостности, как дробящиеся капли в фонтане, имеющие единую суть – воду.
Вот как подводит к этой мысли своего сына Шветакету один из мудрецов, риши Уддалака Аруни, один из главных персонажей «Чхандогья-упанишады». Шветакету, по обычаям того времени проучившийся 12 лет у знатоков вед, возомнил себя ученым, и отец решает сбить с него спесь, спросив, известно ли юноше наставление, благодаря которому «неуслышанное становится услышанным, незамеченное – замеченным, неузнанное – узнанным». Оказывается, что Шветакету этого не знает, а наставление это важно, поскольку благодаря ему все узнается, «подобно тому как по одному комку глины узнается все сделанное из глины, ибо всякое видоизменение – лишь имя, основанное на словах, действительное же – глина… как по одному куску золота узнается все сделанное из золота, ибо всякое изменение – лишь имя, основанное на словах, действительное же – золото… как по одному ножику… узнается все сделанное из железа, ибо всякое видоизменение – лишь имя, основанное на словах, действительное же – железо» (пер. А.Я. Сыркина).
Шветакету предполагает, что его почтенные наставники не знали этого наставления, и просит отца наставить его. Уддалака выполняет просьбу сына, причем его педагогическим мастерством нельзя не восхититься. Сначала он говорит о разных мнениях относительно происхождения мира, утверждая, что вначале все было сущим, хотя некоторые считают, что вначале все было несущим: здесь отсылка к ведийскому гимну, в котором утверждается, что вначале все было не-сущим. «Как из не-сущего возникло сущее? Нет, дорогой, вначале все это было сущим, одним, без второго». Далее, по его мнению, это сущее пожелало размножиться и сотворило жар, а тот, в свою очередь, – воду, а та – пищу. Затем он рассказывает о трех видах живых существ; о трех образах огня, солнца, луны и молнии, – красном, белом и черном; о 16 частях человека; о природе сна; о том, как все сущее после смерти возвращается в то, что было вначале одним, без другого. Для убедительности Уддалака Аруни прибегает к эксперименту и говорит сыну:
...
– Принеси сюда плод ньягродхи.
– Вот он, почтенный.
– Разломи его.
– Он разломан, почтенный.
– Что ты видишь в нем?
– Эти маленькие семена, почтенный.
– Разломи же одно из них.
– Оно разломано, почтенный.
– Что ты видишь в нем?
– Ничего, почтенный.
И он сказал ему:
...
Поистине, дорогой, вот – тонкая сущность, которую ты не воспринимаешь; поистине, дорогой, благодаря этой тонкой сущности существует эта большая ньягродха. Верь этому, дорогой. И эта тонкая сущность – основа всего существующего. То – действительное, То – атман. Ты – одно с тем (тат твам аси).
Далее Уддалака велел Шветакету положить соль в воду и прийти к нему утром. Когда Шветакету пришел, Уддалака попросил его принести ту соль, которую он вчера положил в воду, но Шветакету не нашел соли, так как она растворилась. Тогда Уддалака сказал:
...
– Попробуй-ка эту воду сверху – какая она?
– Соленая.
– Попробуй со дна – какая она?
– Соленая.
– Попробуй с середины – какая она?..
– Она все время одинакова.
Отец сказал ему:
...
Поистине, дорогой, ты не воспринимаешь здесь Сущего, но здесь оно есть. И эта тонкая сущность – основа всего существующего. То – действительное, то – атман, то – это ты, о Шветакету.
Итак, вся эта великолепная и разноликая вселенная, весь этот пестрый мир, вся эта сложная жизнь, все эти не похожие друг на друга люди – не что иное, как проявления единого духа. Не правда ли, непривычная картина? Нет грехопадения, нет противопоставления духа и плоти, нет Бога и Дьявола, как нет и мучительной необходимости выбирать между божественными Небесами и грешной землей. Наконец, нет противопоставления догмы и ереси, а есть «одна истина, которую мудрецы называют разными именами».
Каким же образом индийцы пришли к этому открытию? Однозначно ответить на этот вопрос трудно, если вообще возможно. Можно лишь очень схематично, контурно попытаться обозначить магистральное направление развития мысли в поздневедийский период, то есть в VIII–VI вв. до н. э., когда создавались ранние упанишады. По всей вероятности, направлений этих было два: с одной стороны, брахманистский ритуал жертвоприношения, точнее, его внешняя, обрядовая сторона, невероятно громоздкая, усложненная и не всегда понятная даже самим брахманам, омертвевала и окосневала, к тому же со временем ведийский язык становился все менее понятным для большинства людей и темным даже для некоторых жрецов. Во внутренней же, символической стороне ритуала развитие шло дальше, углубляясь и открывая все новые горизонты.
Кстати, упанишады были созданы в период, особый для всего человечества, который К. Ясперс назвал «осевым временем»: именно тогда возникло и выразило себя и в мысли, и в слове новое по сравнению с предшествующей мифологической эпохой ощущение личностного, экзистенциально окрашенного отношения к бытию. В упанишадах отчетливо ощущается эта «смена парадигм», когда центр интересов и устремлений из мира небесного, божественного, сакрального перемещается в мир земной, человеческий, профанный. Как писал индийский ученый Р.Н. Дандекар, «позиция безропотного принятия постепенно уступила место вопрошанию… Учители упанишад переместили акцент с формы религии на ее истинный дух. Ритуализм брахман уступил место спиритуализму упанишад».
В этом же направлении, одновременно и независимо друг от друга, действовали в Индии основатели буддизма и джайнизма, а также первые греческие философы, израильские пророки, творцы зороастризма в Иране, конфуцианства и даосизма в Китае. Плоды их духовного творчества, дошедшие до нас, составили в совокупности некий всечеловечески значимый завет, и обретение его смысла – задача, нами, кажется, даже не осмысленная во всем объеме.
Арии, колонизовавшие к этому времени северо-запад Индии, осваивали междуречье Ганги и Джамны, которое стало называться Арьявартой, «Страной ариев», Брахмавартой, «Страной брахманов», и Мадхьядэшей, «Срединной землей». Сдвиги, происходившие в их жизни, были весьма значительны. Национально и культурно однородная масса ведийских арьев сменилась национально разнородной и пестрой в культурном отношении средой, которая вобрала в себя потомков пришельцев и множество аборигенных индийских народов, стоящих на разных ступенях развития; формировалось многоукладное и чрезвычайно пестрое индийское общество. Сложившаяся к тому времени ведийско-брахманистская религия также не оставалась неизменной, скрещиваясь с автохтонными неарийскими верованиями и древними культами, ассимилируя местные и создавая новые божества. Складывались первые протогосударственные образования, и потомки некогда пришедших на новые земли арьев жили теперь совсем в иных условиях, нежели их предки, скотоводы-кочевники. На смену простому и суровому племенному быту приходила городская цивилизация с удобствами и даже роскошью, хотя особо ярких цивилизационных достижений тогда, пожалуй, еще не было заметно.
Безвозвратно ушло в прошлое время поэтов-священников, провидцев-риши, способных заразить аудиторию восторгом перед чудом и тайной бытия. Им на смену пришли жрецы-профессионалы, эрудиты и знатоки тонкостей ритуала, которые стали монополистами священного знания. Жреческая и придворная культура древней Индии создавала благоприятные условия для процветания жреческих школ, учителя которых вели диспуты друг с другом, а правители первых государств не только с удовольствием присутствовали на состязаниях знатоков, но и охотно созывали их, а также не гнушались и сами получать наставления у мудрецов. Так, мудрец Яджнявалкья, мастер спора и проповеди, чьи поучения запечатлены в «Брихадараньяка-упанишаде», был признанным победителем на диспутах эрудитов и мудрецов при дворе легендарного царя Джанаки, виртуозно и уверенно отвечая на трудные вопросы брахманов. Наставлял он и самого Джанаку – о посмертном пути мудреца, о природе атмана, о достижении совершенства.
Некоторые брахманы, следуя традиции, делившей жизнь на стадии ученика, домохозяина, лесного отшельника и аскета, вырастив детей и дождавшись внуков, уходили в лес и предавались там размышлениям о жизни и смерти, о путях духовного совершенствования и о тому подобных вопросах, которые мы называем вечными. В тихих лесных обителях изучали разные науки, главным образом связанные с пониманием вед: грамматику, риторику, этимологию, астрологию и т. п., но высшим знанием считалось знание о жизни. Для индийских мудрецов периода упанишад знание – это не владение техническими тонкостями ритуала, а одно из средств для освобождения от тягот этого бренного, преходящего мира, и потому никакое знание не имеет ценности, если оно не ведет к этому освобождению и не помогает в конечном итоге разорвать тяжелые путы бесконечной цепи рождений и смертей. Высшее знание ценно тем, что оно обязательно ведет к изменению способа человеческого существования, как утверждается в «Брихадараньяка-упанишаде»: «Веди меня от небытия к бытию. Веди меня от тьмы к свету. Веди меня от смерти к бессмертию». Всякое же иное, частное знание рассматривается мудрецами как второсортное и далеко не самое важное.
Учителя-наставники беседовали со своими учениками, которые сидели рядом, у их ног, и внимали мудрым речам. Эти беседы, как и словесные состязания диспутов, и сложились в упанишады, название которых этимологически истолковывается как «сидение у ног Учителя». Участниками бесед, запечатленных в них, могут быть как учитель с учеником, так и муж с женой, и отец с сыном, и царь с подданным, собеседниками могут оказаться брахманы, кшатрии, боги, демоны и даже животные; сроки же подобных бесед, как и их форма, могут быть самыми различными, в том числе и шокирующими с точки зрения современного читателя. Так, например, Яджнявалкья сопровождает свои поучения и наставления в истинном знании проклятьем своему оппоненту, Видагхе Шакалье, угрожая, что у него отвалится голова, если он не ответит на вопрос. Тот не способен ответить на вопрос, и у него в самом деле отваливается голова. Вероятно, тексты такого рода заключали в себе, говоря словами Л.С. Выготского, «аффективное противоречие», которое «в завершительной точке, как бы в коротком замыкании, находит свое уничтожение».

Илл. 37. Омовение как священнодействие. Паломник в водах Ганги
Сокровенное знание, передаваемое от учителя к ученику, запечатлено примерно в 200 упанишадах, создававшихся в течение длительного периода и образовавших особый класс текстов. В большинстве случаев они анонимны, но иногда отдельные фрагменты и даже целые тексты освящены именем того или иного авторитета, как, например, упомянутые Яджнявалкья или Уддалака.
К упанишадам можно подходить по-разному и истолковывать их с тех или иных позиций, каждый раз находя интересные смыслы: их символика и гносис кажутся неисчерпаемо глубокими. Так, упанишады могли служить как бы своеобразным «учебным пособием», помогая адептам традиции восходить по пути истинного знания, и диалоги учителя и ученика моделировали перестройку сознания тех, кому они предназначались. В упанишадах можно видеть и практические способы, и приемы созерцания, против которых выступал брахманизм и которые позже были развиты в йоге. В них можно находить ритуально-мифологические пласты, истоки философии, отзвуки мистериальных тайных знаний и многое другое.
Но в упанишадах можно видеть, как полагал Ауробиндо Гхош, и «средство выражения вдохновения», и тогда нужно признать, что они были написаны «для искателей, которые уже знакомы с идеями ведийских и ведантийских провидцев или даже имели некоторый личный опыт переживания истин, опираясь на который они, в свойственном им стиле, обходятся без точно выраженных ходов мысли и без развития подразумеваемых понятий… Предполагается, что читатель или, скорее, слушатель идет от озарения к озарению, подтверждая свою интуицию и сверяясь со своим опытом, не подчиняя идеи приговору логического разума». Потому и способ изложения в упанишадах может показаться современному читателю, выросшему в другой традиции, нарочито бессистемным и непоследовательным. Однако с этим можно поспорить: дело в том, что они имеют и системность, и последовательность, но они скорее интуитивные, чем логические, как отмечал С. Радхакришнан, считавший, что упанишады представляют собой «первоначальные наброски философской системы». То же, что мы воспринимаем как беспорядочность, скорее относится к особенностям языка и функционирования текстов внутри духовной традиции.
Содержание упанишад действительно разнообразно. В них запечатлены различные космогонические теории, натурфилософские концепции, воззрения на психологическую и физиологическую деятельность человека и его жизнедеятельные начала, орудия восприятия и т. д. В упанишадах изложено и учение о посмертной судьбе человека, символическое учение о двух путях и пяти огнях и другие важные знания, позже получившие дальнейшую разработку в разных религиозно-философских школах. Но все они соотносятся с основополагающей идеей упанишад – тождеством атмана и брахмана.
Брахман описывается самыми разными способами: он – творческое начало и зародыш всего сущего; он – высшая и непосредственная реальность; он – высшее начало, из оплотнения которого возник мир со всем, что в нем находится. Трудно или даже невозможно найти ту формулу, которая включала бы все значения, придаваемые брахману в упанишадах: он – вне времени и пространства, вне причинно-следственных связей и отношений, вне субстанций; он внеположен проявленному, феноменальному миру и свободен от любых качеств и действий, и потому описать его с помощью каких-нибудь терминов или признаков невозможно; он невыразим и непостигаем в рамках привычного логического мышления. Отождествления и аналогии, относящиеся к нему в упанишадах, заняли бы не одну страницу. Он идентифицируется то с огнем, то с речью, то с жертвой, то с ведами. Точнее всего он определяется апофатически: невидим, неслышим, непостигаем, не то, не то…
Можно сказать, что брахман понимали как вечную и неизменную первооснову всего сущего, как важнейший принцип всякого существования, как онтологическую основу мира. «Поистине, от чего рождаются эти существа, чем живут, рожденные, во что они входят, умирая, то и стремись распознать, то и есть брахман», – говорится в «Тайттирия-упанишаде». Брахман может быть невоплощенным, и тогда он един, и воплощенным, и тогда он множествен, ибо «все это есть брахман». Но также «все это есть атман».
Атман, другое ключевое понятие упанишад, – слово не менее широкого и всеохватного значения. Слово это уже встречалось в «Ригведе», и там оно означало «ветер»: главным проявлением одушевленности в Древней Индии, как и в других странах, считалось дыхание; именно с ним связывали представление о высшей сущности, о духовном. «На нем выткано небо, земля и воздушное пространство вместе с разумом и всеми дыханиями», – сказано в «Мундака-упанишаде».
Атман в упанишадах понимается как основа индивидуального существования, как душа мира, как дыхание, как символ единства человека и мира; он меньше ядра просяного зернышка и больше всех миров. В ранних упанишадах слова «атман» и «брахман» часто понимаются как синонимы, но позже за словом «атман» закрепляется значение, соответствующее понятию внутреннего духовного зеркала, отражающего единство неохватного мира.
В одной из старейших упанишад, «Брихадараньяке», учитель наставляет ученика, что надо почитать как брахмана «того, который в солнце». Но ученик, оказавшийся проницательнее учителя, возражает: он почитает солнце «как главу всех существ, как царя», но это – не брахман. Учитель предлагает почтить луну как брахмана, и опять ученик отказывается сделать это. Тогда учитель перечисляет пространство, ветер, воду, звуки, тень. Ученик каждый раз восхваляет их, но отказывается признать в них брахмана. Тогда учитель и ученик меняются ролями, и учитель просит ученика поучить его. Ученик говорит, что брахман, как и атман, не ограничиваются каким-нибудь одним предметом или существом. Они находятся во всех существах, будучи в то же время отличными от них.
В другом диалоге царь спрашивает мудреца, какой же свет имеет человек. «Свет солнца, о царь», – отвечает мудрец. Царь продолжает расспрашивать и задает вопрос, какой цвет имеет человек после захода солнца. И слышит в ответ, что тогда светом ему служит луна, а после захода солнца и луны светом ему служит огонь; после того, как зайдут солнце и луна и погаснет огонь, светом ему служит речь.
Но царь не унимается и вопрошает, какой же свет служит человеку, когда нет ничего из перечисленного. Что остается человеку в полной темноте и в полном молчании, наедине с самим собой? Имеет ли он опору в самом себе? Есть ли у него внутренний источник жизни, или он целиком зависит от окружающего?Да, есть такой источник, это – атман, свет внутри сердца, творческая суть души. «Атман служит ему светом», – отвечает мудрец на последний вопрос царя. Атман находится во всех частях тела, но отличается от них; он находится в глазу, но отличается от глаза; он находится в коже, но отличается от кожи и т. д. Он – сущность всех сущностей, качество всех качеств. В «Чхандогья-упанишаде» мудрец Шандилья говорит:
...
Вот мой атман в сердце, меньший, чем зерно риса, чем зерно ячменя, чем горчичное семя, чем просяное зерно, чем ядро просяного зерна; вот мой атман в сердце, больший, чем земля, больший, чем воздушное пространство, больший, чем небо, больший, чем эти миры. Содержащий в себе все деяния, все желания, все сущее, безгласный, безразличный – вот мой атман в сердце, это брахман. Кто полагает: «Уйдя из жизни, я достигну его», у того, поистине, не будет сомнений.
С осознанием тождества своего внутреннего «я» с атманом (=брахманом) в упанишадах связывается высшее состояние человека:
...
Кто знает: «Я есмь брахман», тот становится всем. И даже боги не могут помешать ему в этом, ибо он становится их атманом.
Атман, внутренний правитель, изнутри правит всеми существами, и потому человек, в совершенстве владеющий собой, сравнивается с искусным колесничим, который способен обуздать коней-чувства, тогда как владелец колесницы – атман, тело – колесница, разум – поводья, а предметы восприятия – пути чувств-коней.
Атман описывается как то, что находится внизу, наверху, позади, спереди, справа, слева, «атман – весь этот мир». Таким же образом описывается и брахман: это – нечто бесконечное, что находится внизу, наверху, позади, спереди, справа и слева, «оно – весь этот мир». Атман, заключенный в душе каждого, равен брахману, который и есть реальность, и человек един со всем миром и всеми существами, населяющими его. Ну а наше маленькое, поверхностное «эго» принадлежит к царству иллюзий, майи. Но сколько бы правильных и умных слов ни говорилось, они не способны раскрыть истину, они могут только подвести к ее познанию. В упанишадах четко сформулирован постулат об идентичности атмана и брахмана; тем самым упанишады показали путь к освобождению от обрядов и ритуалов и к достижению знания напряженными духовными усилиями.
Однако эта мудрость, эта высшая реальность раскрывается человеку чаще всего в самые напряженные минуты жизни или перед лицом смерти. Когда истощается тело от старости или от болезни и наступает час смерти, все жизненные силы собираются вокруг неуничтожимой, переселяющейся основы человека – души:
...
Подобно тому как надзиратели, судьи, возницы и деревенские старосты собираются вокруг отъезжающего царя, так и все жизненные силы собираются в час конца вокруг этого атмана, когда человек испускает дух.
Но все, что происходит с человеком в смертный час и позже, – только одно из проявлений космической игры атмана-брахмана:
...
Подобно тому как золотых дел мастер, взяв кусок золота, придает ему другой, более новый, более прекрасный образ, так и этот атман, отбросив это тело, рассеяв незнание, претворяется в другой, более новый, более прекрасный образ…
В «Катха-упанишаде» именно Яма, царь смерти, раскрывает юному брахману Начикетасу высшее знание, когда тот попадает в его обитель, потому что его отец Ваджрашравас разгневался на сына во время жертвоприношения и сказал, что отдаст его в жертву богу смерти. Яма предлагает Начикетасу исполнить три его желания. Первое желание Начикетаса – успокоить гнев отца, второе – поведать ему о «небесном огне», знание которого ведет в высший мир, а третье желание – узнать, что ждет человека за порогом смерти. Яма колеблется, но потом все же рассказывает юному брахману о путях знания и незнания, о высшей реальности, постигаемой не рассудком, а созерцанием. Говорит он и о символике мистического слога ОМ, и о постижении высшего атмана, истинной сущности человека, которая остается после того, как отпадут все его внешние оболочки.
С этими представлениями связано и другое важное учение упанишад – учение о карме (буквально «деяние»), которое ответило на вопрос о посмертной судьбе человека. Оно выросло из древних учений о двух путях после смерти: те, кто постиг высшее знание о тождестве атмана и брахмана, идут после смерти «путем богов» в высший мир, где души их приобщаются к вечному блаженству. Те же, кто не постиг высшее знание и ограничивался предписанной обрядностью, идут «путем предков» и вновь возвращаются к земной юдоли, попадая в круговорот бытия – сансару, чтобы прожить новую жизнь. Итак, упанишады, продолжая предшествующую религиозную традицию и не отвергая ритуала как такового, выдвигают на первый план внутренний, символический ритуал, путь духовного совершенствования и священное знание его тайн.
В конце ведийского периода сложилось учение о четырех ашрамах – стадиях жизни, через которые должны проходить члены высших каст; оно прослеживается по текстам упанишад. После обряда инициации наступала первая стадия – ученичества, когда юноша жил в доме учителя и вел суровую, полную воздержаний жизнь. По окончании этого периода он возвращался домой, женился, заводил свою семью и вступал в стадию домохозяина. В третью стадию, лесного отшельника, можно было переходить, достигнув преклонного возраста и увидев детей своих детей, а также выполнив «тройной долг»: жертвоприношение – по отношению к богам; рождение сыновей – по отношению к предкам; ежедневное чтение вед – по отношению к риши. Совершив все необходимое в границах предписанного социокосмического порядка, можно было удаляться в лесную обитель, очищать душу от страстей и привязанностей и предаваться аскезе. Лес при этом не обязательно понимать буквально – как место, заросшее деревьями. Скорее имеется в виду безлюдное пространство, лишенное признаков цивилизации. И, наконец, в глубокой старости, познав суетность и тщетность земного бытия, надлежало стать странником и порвать все земные узы. Третья и четвертая стадия не всегда разграничены; иногда они сливаются в одну.
Соответственно этим четырем возрастам человека формировались и главные жизненные установки или четыре цели, называвшиеся в совокупности «четырьмя благами», чатурбхадра или чатурварга. Первая из них, дхарма, то есть «нравственный закон», «долг», «добродетель», предполагала исполнение религиозных обрядов, общественных и семейных дел и т. п. Эта цель распространяется на все стадии жизни. Вторая, артха, «суть», «польза», связывалась с материальными ценностями, с благополучием и их правильным, то есть одобренным традицией, использованием. Эта цель преобладает во второй стадии жизни. Третья цель, кама, «любовь», понимаемая прежде всего как стремление к чувственным удовольствиям, также присутствует только во второй стадии. И наконец, четвертая, мокша, «освобождение» – избавление от уз бытия, выход из сансарного круговорота рождений и смертей, ассоциируется с последними этапами жизни.
Для каждого периода жизни предлагались также установка деятельности, особый тип поведения и предпочтительный круг чтения. Циклы ведийского канона соотносились со стадиями жизни таким образом: веды-самхиты предназначались для учеников, которые должны были их штудировать, но сохраняли свою значимость для первых трех стадий жизни; брахманы ассоциировались главным образом со стадией домохозяев, которые должны были руководствоваться их предписаниями в исполнении обрядов; третья стадия соотносилась с араньяками, а четвертая – с упанишадами, которые практически изучались во всех стадиях, но провозглашенная ими программа реализовывалась на последней стадии.
В доктрине четырех возрастов жизни выразилось свойственное индийцам стремление к установлению сложных и детализированных классификаций, которые, оперируя устойчивыми, замкнутыми и упорядоченными терминологическими группами, отражают разные стороны действительности. Сополагаясь друг другу, эти группы образуют изоморфные ряды, так что каждая из них отражает то или иное явление или объект окружающей действительности на разных уровнях.








