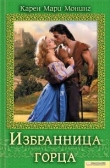Текст книги "Женщина и мужчины"
Автор книги: Мануэла Гретковска
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
– Я боюсь его депрессии. Мне одной было трудно, а уж если ребенок… Что я сказку ребенку? «Папочка у нас больной и недееспособный»?
– Возможно, его депрессия – однократный эпизод и больше никогда не повторится…
– Мне и этого хватило… Люди меняются… Я не знаю, что у него внутри, кто он на самом деле. Мне это все слишком дорого стоило. Я больше не хочу.
– И ты тоже говоришь о деньгах, как Юлек.
– Я?
– «Мне это все слишком дорого стоило».
– Павел, не придирайся к словам, я не твоя пациентка. Ты не вылечишь меня. Никто меня не вылечит. Я взрослая. Я знаю, чего хочу.
– Хочешь ребенка?
Клара не ответила. Да он и не слушает ее, а только переспрашивает, проверяет, как когда-то перед сессией проверял, хорошо ли она подготовилась. Со времен учебы изменилось только то, что теперь он на месте экзаменатора, – восседает на своем троне врача весь такой важный, среди полок с книгами, встроенных в стены довоенного каменного дома, и предлагает пациенту одноразовые платочки. Использованные валялись на плетеном ковре с тибетским узором. Пять, шесть… Клара насчитала десять. Десять засморканных, заплаканных свидетельств ее поражения.
– То, что у тебя есть деньги, – замечательно, – ласково заметил Павел.
– Да, сейчас это важно.
– Важнее, чем Юлек и Яцек? – усомнился Павел.
– Важнее всего ребенок. А у этих…свои проблемы.
– Клара, беременность не может быть местью.
– Местью за что? За их идиотизм и трусость?
Он погладил ее по голове.
– Клара, у меня найдется для тебя комната, и она всегда в твоем распоряжении. Днем и ночью. Рядом парк, дорожка для матерей с колясками.
Она наконец заметила, что машинально выдергивает нитки из пледа, и смяла их в комок. Детская коляска – это уже что-то очень конкретное.
– Я скучаю по нему. Ненавижу – и скучаю. Это все гормоны, да?
– Разновидность любви.
Он редко употреблял само это слово – «любовь». Идеал любви, некогда воспетый в стихах и легендах, был для него фантастичен и потому неубедителен. А то, как упавшую с пьедестала святости любовь ныне пытаются реанимировать в сериалах и эстрадных шлягерах, и вовсе не укладывалось в какой-либо литературный жанр. Прежде напряжение страсти удовлетворялось в мягких мещанских гостиных, а теперь требуется разрядка еще и в психотерапевтических кабинетах. Когда к Павлу приходили несчастные влюбленные, он, не обнаруживая своего цинизма, выслушивал их, посматривая на насекомых под стеклом. Тела, четко разделенные на голову, туловище и брюшко. Природа, руководствуясь первобытным чутьем, абсолютно правильно разделила мышление, пищеварение и наслаждение размножения. А у млекопитающих, увы, брюшко соединено с туловищем. Хуже того: человек всегда претендовал на главенство разума, силился подчинить ему телесные порывы. Но в любовном безумии, как и в психозе, влечения вырываются наружу – выпячивается брюшко! В своеобразном психическом «мешочке» годами накапливаются обиды и комплексы. Пытаясь соединить потребности брюшка с голосом разума, несчастные изгибаются в самые уродливые психологические фигуры. А все для того, чтобы, отбросив прочь ограничения, налагаемые здравым рассудком, изведать счастье червей и насекомых. Ощутить экстаз самца богомола, которого пожирает самка, наслаждение фиговой мушки, умирающей тут же после совокупления.
– Гормоны беременности? – Павел задумался, разламывая скорлупку фисташкового ореха. Цвет орешков гармонировал с зеленоватыми обоями, выбранными по английскому каталогу, – вот она, вершина мещанского уюта. – Гормоны – наши суфлеры, жаль только, что мы разучились понимать их язык, – процитировал он свое излюбленное определение. Такие определения подобны плацебо: в них нет смысла, но они подходят к большинству случаев, с которыми имеешь дело.
– Но ведь мы – существа более сложной организации, нежели животные. – Клара знала о его увлечении эволюционной психологией.
– Мы слишкомсложные существа. Именно поэтому я и упрощаю.
– Тогда скажи мне, почему я не сделала ничего, чтобы удержать Юлека? Я его, можно сказать… выбросила… – Она махнула рукой и опрокинула коробку с платочками.
– И твоя мать не боролась за отца…
– Павел, если тебя бросают, за что тут бороться? Возвращать кого-то – значит, обращать в свою веру… Разве любовь – это религия?!
Собака, не привыкшая, чтобы на ее хозяина кричали, настороженно приподнялась, потревожив спящих щенков. Те запищали, пытаясь снова отыскать утраченные соски.
– Извини. – Клара запихнула платочки обратно в коробку. – Павел, я реву от страха.
– На то я и есть, – присел он перед ней на корточки.
– Ты меня экзаменуешь.
– Нет, я только задаю вопросы, на которые ты сама должна найти ответы и принять решение.
– Ладно.
Спазм в желудке, мучивший ее несколько дней, кажется, прошел.
– Но я могу сделать тебе подарок. Вот этот зарезервирован специально для тебя. – Павел вынул из «манежа» щенка, больше всего похожего на мать. – Дети легче воспитываются, когда в доме есть собака.
– Ага, я с животом и собака. Подтирать за ним лужи, гулять…
– Нам не к спеху, – проговорил он от имени щенка, – мы подождем. Пока что твой песик будет у меня. Как же нас зовут? Нас зовут… – Он приподнял мордочку щенка, словно тот ожидал Клариных предложений.
– Не хочу я собаку!
– Нехочуйский. Ну, старик, фамилия у тебя уже есть, а до имени еще дорасти надо, – вернул он щенка обеспокоенной Пати.
Павел проводил гостью в прихожую, которую переделал из коридора, отвоевав его у соседей в судебном порядке. Он помог Кларе надеть пальто, сам застегнул пуговицы и продел под воротником кремовый шарф. Раньше он был любезен с Кларой, время от времени – галантен, но замашек опекуна она за ним еще не замечала.
– Ах да, чуть было не забыл. – Он вернулся в комнату и принес справочник, раскрытый на нужной странице, придавленной лупой.
– Твои знакомые лечат сумамедом вовсе не зубы.
– Да не болтай почем зря…
– Чутье подсказывает мне, что это хламидиоз. – Он указал в книге подчеркнутое место: «Болезнь, передающаяся половым путем…»
Клара могла и не читать – помнила. У нее промелькнула та же мысль, когда Иоанна дала ей прочитать листок-вкладыш к антибиотику. Но она склонна была поверить скорее в собственную медицинскую некомпетентность, чем в то, что кто-то из Велицких был неверен в браке. Марек, конечно, перец еще тот, но перец на привязи: католические проповеди сделали свое дело. Иоанна во время учебы гуляла с двумя-тремя парнями одновременно, но после брака ее любвеобильность нашла себе выход в чрезмерной материнской любви.
– Вот загадка, – захлопнул Павел справочник. – Супруги в одно и то же время принимают сумамед, и у них нет ни ангины, ни бронхита, ни рожи. Дополнительный вопрос: кто кого заразил?
Клара оперлась спиной на мягкую стену. Звуконепроницаемые пластины под тиснеными обоями гарантировали сохранность врачебной тайны и защиту от шумного вмешательства соседей. Приглушенные таким образом голоса приобретали интимные нотки.
– Это невозможно. Если их знать… Она бы никогда не изменила мужу.
– Иоанна? – Павел иронически усмехнулся. – Да? – Он был уверен, что речь идет об Иоанне. – Наводящий вопрос: почему лекарство от венерической болезни прописывает дантистка? Ты ее видела?
Клара пожала плечами:
– Мимолетно.
– Этого достаточно. Мы правильно оцениваем человека в первые три секунды, все остальное только сбивает с толку. Расскажи, какое было первое впечатление.
– Фифочка, женские прелести напоказ: выпяченный зад, грудь вперед, бабета… – увлеклась Клара описанием.
– Дальше, дальше, – поощрял ее Павел. – Какие ассоциации?
– Задница, грудь, бабетта, ну… многоэтажный торт… – Клара слушала себя с возрастающим удивлением: откуда в ней столько ехидства? А вот и вывод: – Многоэтажный торт… свадебный торт?
Вот он – предмет мебели, ради которого ее муж разрушил дом, оставил семью и детей. Кровать…
Иоанна лежала на кровати, обложившись подушками, будто запасами жира на черный день, на время голода, когда она будет по нему выть.
Под боком – поднос, накрытый льняной салфеткой, на котором успокоительные настойки и коробочка ксанакса, которую привезла Клара. Дети у матери. Иоанна должна прийти в себя, приготовиться к возвращению Марека.
Они должны попробовать еще раз. Она встанет, накрасится, оденется. Выйдет из спальни. Мать привезет детей. Марек, как обычно, войдет через террасу, и они сядут за стол обедать. Страх потери вновь объединит их в семью. Они снова привыкнут к самовосстанавливающемуся счастью повседневности – к тому самому счастью, которое Марек в один прекрасный день, вернувшись с работы, разрубил своим признанием:
– Я влюбился. Ухожу. – Казалось, собственная искренность удручила его.
Чашка выскользнула из рук Иоанны, смазанных кремом, – она только что вскапывала в саду грядки.
Это было самое ужасное мгновение в ее жизни. Чашка из серии «Мария», купленная много лет назад, кувыркнулась в воздухе, ушком вниз – как головка ребенка, который занимает правильную позицию перед выходом из матки. Падение было неминуемым, как родовые схватки, – после них уже ничего не будет так, как прежде.
Иоанну били судороги – все ее тело содрогалось в панике. От чего защищаться? Что спасать? Звон разбитой чашки вырвал ее из оцепенения. Неведение и самообман рассыпались, разлетелись на множество острых ранящих осколков.
– Влюбился… – безотчетно повторила она.
– Да.
– В кого? – Из-под халата видны были ее короткая девичья сорочка и босые ноги.
– Это не важно.
Он не снимал пальто, не разувался, как обычно делал дома, а стоял словно чиновник, взывающий к закону – на этот раз к закону о своей свободе.
– Ты спятил? Мы женаты, у нас дети… а ты – «не важно»?!
– Она здесь ни при чем. Она ни в чем не виновата.
– Кто? В чем?
«Он защищает другую, заступается за нее? Она для него важнее?» – Иоанна чувствовала себя ограбленной – у нее украли ее привилегии. Ей еще хуже, чем тем арабским женщинам, которые каждую минуту готовы принять мужнин приговор: «Я тебя прогоняю». И они убираются прочь, обвешанные украшениями, которых никогда не снимают, – единственным полагающимся им имуществом. Имуществом Иоанны был ее брак.
– Я заберу некоторые вещи, поговорим потом. – Он даже не взглянул на нее – не бросил ей этой милостыни.
– Ничего ты не заберешь и никуда не пойдешь. Скажи мне…
Мысленно она пыталась соединить разрозненные обрывки подозрений, словно разбитый фарфор. Эльжбета. Частично она заняла их дом уже тем, что постоянно фигурировала в разговорах: «Эльжбета советует то, Эльжбета советует это, Эльжбета сказала, Эльжбета рекомендовала, да неужели же Эльжбета не разбирается?» С новыми белыми зубами Марек помолодел. Он стал больше работать, у него пропало желание нежничать, заниматься любовью.
– Скажи мне, это она? – спросила Иоанна, указывая пальцем на его рот.
Охотнее всего она бы кулаком выбила ему зубы, выдрала бы их вместе с корнями.
– Да.
– Ты сошел с ума. Эта скурвленная бабища?!
Марек съежился – бич оскорбления задел и его.
Иоанна быстро классифицировала в голове эмоции, отделяя их от здравого смысла. «Если оскорблять, бросаться на него с кулаками, это только облегчит ему бегство. Вопль: "Убирайся!" тоже усугубит дело – в суде он скажет, что я выгнала его из дому. Стоп… В каком суде? Развода не будет. Он сошел с ума».
– Марек, раздевайся, садись… Это твой дом, ты не должен никуда уходить.
– Нет, я все сказал. Я не буду тебе лгать.
– А дети? Их тоже уже…
– Как-нибудь договоримся. Я буду их забирать на время или здесь видеться… Они поймут. В школе столько детей, у которых родители…
– «Договоримся»? С Богом ты тоже договоришься? Он отпустит тебе все грехи на исповеди?
Марек ушел в ванную. Иоанна встала под дверью.
– Давай пригласим ксендза, – поскреблась она в дверь.
Она сумеет сама себе быть адвокатом. Марек не слушает жену, но ведь он пока еще еемуж!
Иоанна заглянула в ванную. Марек собирал туалетные принадлежности. Его коричневый портфель, всегда полный бумаг, был пуст и, как вакуумный шлюз между ее миром и миром другой женщины, втягивал в себя зубную щетку, бритву…
– Останься, сядем и поговорим, как люди… После двадцати лет брака не уходят вот так, без причины, Марек, приди в себя!
– Я никуда не исчезаю, я буду на телефоне. Так будет лучше, честнее. И мне не нужен ксендз, я буддист.
– Что? Ты ведь ходишь в костел…
В воскресенье они были на мессе. Он не принял причастия, что удивило Иоанну, но у них там в «Opus Dei» свои порядки, подумала она тогда и не стала задавать вопросов. Разве можно сменить веру за одну неделю? А жену – за один день?
– Буддизм не запрещает ходить в костел. Названия – лишь ограничения, накладываемые на дух. – Он произносил слова машинально, думая о чем-то другом. – Буддизм – это не выбор, это необходимость.
– Чья постель, того и религия? [90]90
Аллюзия к сентенции «Cuius regio, eius religio» («Чья власть, тогой религия») – одно из положений договора, заключенного между императором Карлом V и германскими князьями (Аугсбургский мир, 1555 г.).
[Закрыть]Таков твой выбор?
Просто сказать «это она переделала тебя» означало бы признать ее преимущество. Иоанна решила вообще не упоминать об Эльжбете, об этой сволочной бляди, которая подлизывалась к ней, притворялась другом семьи и выпытывала домашние секреты. Небось она терлась об него сиськами, когда «поправляла пломбочки», гладила его по щеке: «У меня не бывает больно, я не отягощаю себе карму чужим страданием. Я буддистка, это скорее философия, чем религия».
– До этого нужно дорасти. – Он оставлял позади жену как низшую, изжитую форму своего развития.
Иоанна чувствовала, как в ней поднимается ярость. Сейчас она была способна разорвать его в клочья. Но потерять контроль над собой означало потерять очки. Потом, вместо того чтобы разговаривать, она вынуждена будет извиняться, и у него появится преимущество… Да оно у него уже есть: это ведь он диктует условия, сообщает, когда придет и что будет делать дальше. Прежде чем он ушел, Иоанна вынудила его согласиться на сеанс брачной терапии. [91]91
Брачная терапия – довольно популярная в Европе мера, к которой прибегают порой супруги, чувствуя разлад в отношениях. Чаще всего «брачным терапевтом» служит психолог. В религиозных обществах брачная терапия может проводиться под эгидой общины верующих и носить религиозный характер.
[Закрыть]
На пороге Марек огляделся, не забыл ли чего. Фотография понтифика покрылась каплями влаги, стекающей с лиловых веток сирени, срезанных Иоанной после дождя и поставленных в вазу на серванте.
«Ты знаешь, с каким трудом я на это решился, – мысленно обратился Марек к Папе. – Я весь изломан – Габрыся, мальчики… Иоанна не сделала мне ничего плохого, я ее люблю. А то, что я тебя не послушал… Что ж, я сам себя не слушаю. Говорю себе: Марек, останься… и ничего не выходит. Ты же видишь – это сильнее меня».
– Я пошел, – тихо сказал он на прощание Иоанне.
– Чем я могу вам помочь? – вежливо спросила врач.
Ее не замаскированная одеждой полнота, пожилой возраст, очки в старомодной коричневой оправе растрогали Иоанну, у которой и так глаза были на мокром месте. Эта женщина была похожа на ее бабушку. Бабушка приводила малышку Асю в свой овощной магазин, брала ее на руки, утешала, когда она капризничала. Взрослая Иоанна, спускаясь в подвал и вдыхая запах гниющей моркови и проросших картофельных клубней, словно возвращалась в свое пронизанное солнечной беззаботностью детство.
Открытые взору молочно-веснушчатые плечи психоаналитика, казалось, поощряли к тому, чтобы, как ребенку, припасть к ней на грудь и поведать свои отнюдь не детские проблемы.
– Слушаю вас. Чем я могу помочь?
Нескольких фраз Иоанны, едва сдерживавшей рыдания, и нескольких неохотных ответов Марека хватило для того, чтобы врач смекнула: шансов у этой пары нет.
– Если вы, – она обратилась к Мареку, – считаете, что приходить ко мне не было смысла, то почему же все-таки согласились прийти?
– Жена настояла, – признался он, поправляя галстук.
С тех пор как Марек влюбился в Эльжбету, в ее гладко выбритую киску, он нечасто говорил правду. Но вот сказал – и смелость, долго подавляемая необходимостью изворачиваться перед законной супругой, внезапно проснулась.
– Никаких поучений я слушать не стану, поскольку ничего нового не узнаю. Это напрасная трата времени и денег! – выкрикнул он в лицо Иоанне. – Вот, пожалуйста, – выхватил он из внутреннего кармана пиджака бумажник и отсчитал половину гонорара. – Прошу вас. Большего вы, пани, не заслуживаете.
Лишняя жена и ненужная врач остались одни в просторном кабинете – слишком много места, и в то же время слишком тесно. То же ощущение, с уходом Марека, преследовало Иоанну и дома. Она бродила по одноэтажному коттеджу, перебирала вещи, откладывала в сторону те, что он не успел забрать. На верхней полке раздвижного шкафа она нашла папское благословение их брака, оправленное в рамочку. Серийная продукция Ватикана, рассчитанная на пилигримов. В заготовленный бланк с факсимильной подписью и печатью Иоанна Павла оставалось лишь вписать имена. «Подождал бы несколько лет – и можно было бы вписать другое имя»… Иоанна бросила благословение в черный пакет.
А еще в шкафу мог быть кнут… Иоанна случайно нашла его после Пасхи, когда искала весенние ботиночки Мацека. Придвинула лестницу – и наткнулась на загадочную коробку. Изнутри выпал чек из секс-шопа.
– Марек, что это?
– Ох… – Он смешался. – Надо же было тебе это выискать…
– Зачем это?
Кнут был витой, из черной кожи, к концу сужающийся до толщины ремешка.
– Ну… понимаешь… – Пробуя бич, Марек хлестнул себя по пальцам.
– А-а, вам приказали, да? – сочувственно спросила она.
Соседка рассказывала ей, что мужчины, принадлежащие к «Opus Dei», практикуют самобичевание – такую умеренную разновидность умерщвления плоти, призванную вырабатывать самодисциплину и стойкость. Впрочем, кнут из шкафа вскоре исчез. «А я ему поверила, идиотка. Покаяние, как же. Да ведь он тогда уже увлекся буддизмом и вовсю забавлялся с этой блядью. Самому Мареку мысль о порке кнутом и в голову бы не пришла – он за двадцать лет супружеской жизни не выдумал ничего пикантнее шлепков по заднице. А у той девки – кнуты, черные кожаные прибамбасы… Да с кем же я жила, Господи?!.»
Иоанна, волоча пакет с мусором, подумала, что рамка пригодится ей для кондитерской. Она вставит в нее диплом за победу в конкурсе на самые вкусные пончики. Иоанна вынула из-под стекла благословение, разорвала его и смяла.
Она хотела было сорвать с серванта и поблекшую фотографию Иоанна Павла, но потом решила оставить. «Вот, посмотри-ка, Святой Отец, – сунула она понтифику под нос растерзанную картонку, – Бог создал женщину, а с мужчиной напортачил. Прости меня, – перекрестилась она кулаком и пренебрежительно махнула рукой. – Во что же он верил? – это я о Мареке. – Оставил меня и самого Христа… ради расфуфыренного идола?»
Иоанна никогда особо не жаловала ни обряды, ни ксендзов. Она исповедовала мужицкие устои предков: духовенству не верить, а Иисуса с Марией чтить. Иисус был истиной, а Марек предпочел абсолютную ложь. Все это время он лгал вовсе не для того, чтобы избавить от страданий ее, Иоанну; он лгал, защищая себя, лгал для собственного удобства. А в тот вечер, произнеся «ухожу», он, не церемонясь, вывалил прямо в доме остатки их рухнувшего брака – убирай, мол, сама, копайся во всем этом, ищи свою вину.
Иоанна не могла ему простить гордыни, с которой он уходил, притворно пытаясь скрыть ее под маской сожаления. Он получил свободу, он остался невредим. Как же, уходит ведь мужчина, а женщина всегда остается брошенной.
«Как бы ты посмотрела на четвертого ребенка?» – усыплял он ее хлороформом лжи. Иоанна помнила биологический кружок в лицее, где лягушек сначала усыпляли хлороформом, а потом делали вивисекцию, вскрывая их подрагивающие тельца. У Клары это ловко получалось, а Иоанне было противно. Потому она и расторгла их детский обет – всегда быть вместе, отказалась от медицины и выбрала юриспруденцию. Искать правду, находить резоны нравилось ей больше, чем копаться во внутренностях.
И с Мареком она не упустила своего. Недавно они подписали у нотариуса временное соглашение, регламентирующее их обязанности по отношению к детям и выплату алиментов. Развод – дело дорогостоящее, пока что он никому не нужен.
Иоанна благословляла свою идею насчет кондитерской. «Сладкие словечки» приносили ей доход, кроме того, ее голова была занята делами, а не только смакованием своего горя. Продавалось все, до последнего пирожного; Иоанне пришлось нанять еще одну продавщицу.
Домашние обязанности также вынуждали Иоанну держать себя в форме – не станешь же плакать при детях! Накануне она отправила старших на каникулы и осталась вдвоем с Мацюсем. Выкупав его и уложив спать, Иоанна целовала его теплое тельце: «У тебя нет папы, но у тебя будет кое-что получше – намного лучше… правда, я сама еще не знаю кто…»Если верить Монике Зелинской относительно «шрама, оставшегося от матери», не мешало бы выяснить: какой лее шрам остается от отца? От отца, который разрубает семью, отрезает себя от нее? «Шрам на мозге», – ехидно предложила бы Иоанна, имея в виду глупость Марека.
Сынишка доверчиво вжался в нее, а она лежала и размышляла: что же из него вырастет? Станет ли он настоящим мужчиной? Впрочем, все признаки настоящего мужчины закладываются у ребенка до третьего года жизни, а потом он только растет, не так ли? Нет уж, она воспитает его иначе. Мудрее.
Вот взять Михала. Раньше Иоанна гордилась тем, что он похож на отца. Теперь – нет. «Моя кровь!» – повторял, бывало, Марек, когда Михал упрямо стоял на своем, стремился к спортивным подвигам, которые явно превышали его возможности. «Твоя кровь?! Не кровь здесь твоя, а только сперма!» – заорала бы сейчас Иоанна. Но она видела результаты отцовского воспитания. Их сходство нервировало ее уже тем, что Михал принял сторону отца. Казалось, он делает Иоанне одолжение, оставаясь жить дома.
– Это ранний бунт, вызванный слишком ранним столкновением со взрослой жизнью, – сказал Павел, когда Иоанна спросила у него совета, как ей вести себя со старшим сыном.
Мацюсь принялся ныть. Иоанна покачала его, пощекотала маленькие ножки, которыми он перебирал, куда-то торопясь во сне.
Зазвонил домофон.
– Яцек Вебер, – доложил охранник.
Иоанна надела поверх пижамы легкий халат. Единственной причиной, по которой к ней мог явиться Яцек, да еще и без предупреждения, могла быть Клара.
– Я проезжал мимо. Возвращаюсь из Кракова, – вошел он через открытую террасу.
Иоанна давно его не видела. Яцек похудел, сгорбился, говорил в замедленном темпе. Через плечо у него висели сандалии.
– Посидим здесь, снаружи? – опередил он Иоанну, которая уже собиралась пригласить его в дом. – Приятная ночь.
– Ладно, – пошла она раздвинуть двери спальни, чтобы слышать Мацюся. – Комары кусаются, зажги свечку. Спички в цветочном горшке.
Яцек достал спички из горшка. Иоанна вернулась с бокалами, нанизанными на пальцы, которые позвякивали друг о дружку. Початая бутылка вина, из которой Иоанна попивала вечерами, стояла под плетеным ивовым креслом.
– Все еще охотишься? – спросила она, заметив, как Яцек всматривается в небо.
– Что? Что, прости?
– Метеоры, – напомнила она.
– А-а, нет. Просто так таращусь. Я не пью, у меня лекарства, – остановил он ее, прежде чем она успела налить вино и во второй бокал.
Иоанна и не догадывалась, каких усилий ему стоило притащиться сюда, убедить себя в том, что разговор – не пытка. Антидепрессанты, которые он снова принимал, действовали еще не в полную силу. Еще не был соткан прочный кокон из нервных соединений, который отделил бы его от собственного гниющего и разлагающегося «я». После встречи с инвесторами Яцек почувствовал себя лучше и свернул с краковской трассы, намереваясь заехать к Иоанне, чтобы узнать от нее что-нибудь о Кларе. Но, выйдя из машины и дойдя до дома Велицких, он утратил мотивацию – потерял ее подобно тому, как теряют сознание от усталости. Яцек опустился на каменные плиты террасы, еще сохранявшие солнечное тепло, и теперь заставлял себя говорить ни о чем.
– Когда-то люди думали, что небо стеклянное и небесные тела, сталкиваясь, звенят вот так, – он толкнул ногой столик, и бокалы снова зазвенели.
Иоанна ждала вопросов, упреков… Клара объясняла ей, что депрессия – это душевная болезнь. Если это действительно так, то у Яцека – легкая форма сумасшествия. Он всегда был немного сумасшедшим, а, утратив с возрастом робость, перестал скрывать свои навязчивые идеи. Как же, а боязнь штрих-кодов? И почему он ушел из процветающих «Польских подворий», чтобы строить никому не нужные «умные дома»?
– «Травки» хочешь? – Иоанне самой хотелось. Всего пара затяжек – и им обеспечен более или менее приятный вечер.
Она прикурила от коптящей свечи. Последнее время, чтобы не сломаться, она прибегала к небольшим дозам средств, способных отодвигать действительность ровно на столько, чтобы можно было без опасений сделать следующий шаг. Вино, «травка», ксанакс создавали иллюзию такой безопасности. А какая разница? Раньше она ведь тоже жила иллюзией, хотя была убеждена, что это и есть ее настоящая жизнь.
«Травку» Иоанне дала Габрыся, и расслабиться она позволяла себе лишь перед сном.
– Возьми, я не могу смотреть, как ты мучаешься, – вручила дочка ей свой запас. – У меня потому и есть, что я сама не дымлю, – успокоила она Иоанну, которая уже вознамерилась прочитать ей свою материнскую проповедь. – У всех есть.
– А Марек… не против? – Яцек слегка затянулся и отдал самокрутку.
– Марек? Он ушел. Клара тебе не говорила?
– Говорила, но я не думал, что все настолько серьезно…
– Во-от как? – попыталась она улыбнуться, но улыбка вышла жалкая. – А у тебя как дела? – поймала она себя на нечаянном ехидстве.
– То же самое, что у тебя. Я не знаю почему. У нее кто-то есть…
Яцек почувствовал себя глупо: его слова она может воспринять как жалобу.
Иоанна поняла, что он и не думает у нее что-то выпытывать.
– Не знаешь почему? Думаешь, я знаю? – Ей было трудно усидеть в кресле. Яцек поджал ноги, позволяя ей пройти. – «Кто-то другой» – это достаточное основание? Глупая зубодерша? И это – причина? По свету шатаются тысячи шлюх. Я не знаю, почему люди уходят из семьи. Может быть, без причины?! – Она споткнулась о железный столик и упала на колени.
– Ушиблась? – Яцек пододвинул к ней шезлонг.
– С-с-с, щиколотка. – Она попыталась встать и снова опустилась на землю, потирая ногу. – Ничего, пройдет.
Они умолкли. По поселку тихо проезжали респектабельные автомобили. Откуда-то издалека доносился смех, откуда-то – музыка, будто чужие дома не могли вместить переполнявшую их радость и выпускали излишек через окна и двери. На светлом блестящем халате Иоанны виднелись пятна земли и крови от ссадины на руке.
Яцек пошел за перекисью.
– Не разбуди Мацека, – попросила Иоанна. – Можешь переночевать у меня. Перекись в кухне на подоконнике.
Рядом с пластиковой бутылочкой стояли фотографии детей. А вот один старый снимок – Клара, он сам, Яцек, Иоанна с Габрысей – у Габрыси недостает передних зубов. Когда-то они все вместе ездили в горы. Эта фотография закрывала другую. Яцек отогнул уголок – Марек с грудным младенцем.
– Эй, ты нашел?!
Он полил Иоанне перекисью на содранную кожу.
– С ногой все нормально, – повертела она ступней. – Надо же, я разбила колено. Господи, когда я последний раз разбивала себе колено? В начальной школе. Мы залезали на железные гаражи и прыгали вниз.
– А мы ходили по Луне.
– Как это?
– Честно.
– Дану…
– Ложишься на землю – вот растянись, – он лег подле Иоанны, – ноги вверх, как для «велосипедика», – и пожалуйста. Вот тебе и прогулка по Луне.
Иоанна выпрямила ноги и стала повторять вслед за Яцеком. Ее широкие брюки опали, обнажив икры. Яцеку захотелось дотронуться до стройной женской ноги, провести пальцами по тонкой щиколотке до ступни. Он мог бы сделать это под предлогом того, что Иоанна ушиблась, – проверить, не растянула ли она связки. Ему хотелось почувствовать напряженные сухожилия под тонкой колеей. Растрепанные волосы Иоанны почти касались его головы.
Иоанна не занималась спортом со времен молодости, и состояние, которое она испытывала, больше напоминало ей чувственную истому.
– Я вступила в Млечный Путь.
Он склонился над ней:
– Нет, это Дракон. Что-то его заслоняет.
– Флаг. Бесит меня этот флагшток, – сказала она, поднимаясь. – Его молено выкопать?
Яцек взошел на холмик, в который был вмонтирован шест.
– Солидная конструкция. Болты, бетон. Наверняка метра на полтора вглубь.
– Что, экскаватор нужен? – переспросила Иоанна. – Онобещал забрать его после каникул. Что мне, все лето на это смотреть?
– Можно его иначе убрать. – Яцек постучал по древку. – Пила у тебя есть?
– Электрическая, – похвасталась Иоанна, готовая уже сейчас, прихрамывая, бежать в гараж.
– Не ночью лее!
– А ты найдешь время заскочить ко мне как-нибудь?
– Можно будет утром… Так я могу переночевать? – Его энергия куда-то испарилась, душа будто снова провалилась в какую-то яму.
– Конечно. Хочешь – в гостиной, хочешь – в какой-нибудь из комнат детей, они уехали. Где тебе удобно.
Она пошла к плачущему Мацюсю.
Яцек выбрал диван в гостиной – ближе всего к террасе. Он сидел, сгорбившись, и думал о том, что потратил слишком много сил: четыре часа вел машину, потом разговаривал с Иоанной…
– Ты плохо себя чувствуешь? – спросила она, принеся ему постель.
– Я не в форме.
Иоанна, не привыкшая к проявлениям мужской слабости, почувствовала себя в некоторой растерянности.
– Это все не мое дело, – извиняющимся тоном произнесла она.
Дурачась там, на террасе, они будто отодвигали самый важный для обоих спор – спор друг с другом и спор каждого с самим собой. «Почему мы ничего не знали, черт побери, пусть хоть кто-нибудь что-нибудь сделает!..»
– Ты симпатична мне, Иоася, не волнуйся, не для того я приехал, чтобы тебя допрашивать. Это у меня… вырвалось. Знаешь, я все время об этом думаю.
– Знаю. Я тоже. Доброй ночи.
…Она проснулась с ощущением, что что-то не так. За спущенными жалюзи пели птицы – именно те птицы, которые должны петь в июне на рассвете. Иоанна не различала их. Соловей? Жаворонок? Помнила она только чудного самца сойки. Бежевый, с голубыми крыльями, он подражал услышанным звукам: кошачьему мяуканью, вороньему карканью, человеческому смеху. Только что в своих руладах он изобразил нечто напоминающее автомобильную сирену и умолк. Мацюсь посапывал Иоанне в ухо. Она открыла глаза. Рядом с Мацеком, свернувшись клубком, спал Яцек. Он даже не разделся – накрылся одним пододеяльником.
Перед сном Иоанна приняла символическую дозу ксанакса, крошку от таблетки – не могла же она погрузиться в беспробудный химический сон, когда рядом маленький ребенок. Ночью ей почудился какой-то шум и туманный силуэт Яцека в дверях. Ясно, это был не сон. Яцек пришел к ней в кровать. Неужели антидепрессанты стерли из его сознания все правила приличия? Тогда почему он не лег рядом с ней? А может, наоборот: он в своем безумии надумал провести с ней ночь, за этим и приехал, а лекарства вернули ему здравый рассудок? Или же он лег рядом с Мацюсем, желая ощутить его запахи и понять, каково это – иметь ребенка? Застань их сейчас кто-нибудь посторонний – принял бы за семью: жена, муж, а между ними сын. Мацюсь удобно разлегся поперек кровати, Яцек подложил руку под голову. Вокруг его сильно зажмуренных век пролегали припечатанные печалью темно-синие тени.