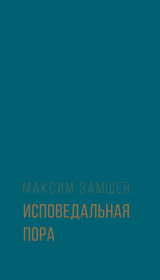
Текст книги "Исповедальная пора"
Автор книги: Максим Замшев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Максим Адольфович Замшев
Исповедальная пора
© Замшев М.А., 2019
© Гордин Я.А., предисловие, 2019
© Издательство «У Никитских ворот», 2019
На краю
Когда наступает эта «исповедальная пора» – дело сугубо индивидуальное. Бродский, как мы помним, писал на своё сорокалетие: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной…» В сорок лет он подводил итоги. Пушкин написал знаменитое «Воспоминание» в 28 лет. Каждому своё.
Когда я читал рукопись Замшева, то вспоминал строку из «Воспоминания»: «Строк печальных не смываю…»
Книга Максима Замшева – невесёлая книга. Но – по ощущению – искренняя.
Пушкина пережил на восемь,
Лермонтова – на много,
но так никем и не стал.
Такую длинную осень
я не просил у Бога,
но он мне её дал.
Тут нужно вспомнить хорошо знакомый термин – «лирический герой». Необходимость разделять автора и героя в поэзии отнюдь не ставит под сомнение искренность первого. Это специфика поэтического сознания, когда реальные черты мировосприятия и самовосприятия автора неизбежно обостряются.
«Исповедальная пора» – книга по преимуществу любовной лирики. И лирики драматической. И автор находит нетривиальные возможности этот драматизм до читателя донести.
В комнате, что повернулась ко мне спиною,
А календарь прошлогодний чему-то рад,
Он ведь не знает, что станет потом со мною,
Он ведь не знает, что край для того и край,
Чтоб за него зайти…
Комната может повернуться спиною к человеку, стоящему у открытого окна…
Можно привести немало удачных, выразительных строк в этом сборнике печальной лирики. Но этим сюжет книги не исчерпывается. В мир автора и героя уверенно входит культура. И тоже во всём её драматизме.
Бессонница. Гомер.
И ничего не надо.
Но снится Мандельштам у жизни на краю.
Упорное слово «край», трагически осмысленное, не случайно корреспондирует с предыдущими стихами.
Не буду множить примеры. Книга написана просто и искренне. И сурово к самому себе. И это подкупает. Так же, как меня лично подкупают стихи о Петербурге.
В частности:
Петербург наступает, как интеллигентное войско,
Чтобы пленные знали, что их отпускают обратно.
Я иду по Фонтанке….
На мой взгляд, книга наверняка найдёт своего читателя.
Автора, пережившего Пушкина и Лермонтова, ждут новые книги. Время есть, и есть возможность совершенствования.
Яков Гордин
«Вот постамент, вот тумба…»
Вот постамент, вот тумба,
Что-нибудь с них возьми…
Жизнь, как пустая клумба,
Вытоптанная людьми.
Тянется день вчерашний
К нам из последних сил.
Мне ничего не страшно,
Я ведь тебя любил.
Пальцы теряют цепкость,
В воздухе – дух белья.
Если что было ценным —
Это любовь твоя.
Режешь так звонко дыни,
Что ничего не жаль.
Смерть исчезает дымом,
Лёгкая, как вуаль.
Может, и жили б складно,
Но впереди – мечта.
Прошлого нет – и ладно:
Клумба стоит пуста.
«Жизнь – труба, предостаточно сажи в ней…»
Жизнь – труба, предостаточно сажи в ней,
Трубочиста черно естество.
От последней любви не откажешься,
Потому что за ней ничего.
Потому что за гранью прощания
Сединой сиротеет висок,
Потому что мои обещания
Превращаются в мокрый песок.
Потому что когда ты стараешься
Сделать вид, что тебе всё равно, –
Облака уплывают в Сараево,
Чтоб боснийское выпить вино,
Чтоб хлебнуть за здоровье эрцгерцога,
За здоровье Гаврилы, за всех,
От последней любви не отвертишься,
Потому что уныние – грех.
Жизнь – труба, вылетай в неё, молодость!
Если некому будет отмыть –
Я схвачусь за серпы и за молоты,
Чтоб умерить вчерашнюю прыть.
А потом, возле церкви, на паперти,
Положу, в чём нуждался сильней.
Пусть в Сараево сербские матери
Исчезают из сонма теней.
Жизнь – труба. Предостаточно сажи в ней.
Трубочисты меняют бельё.
От последней любви не откажешься,
Даже если черёд не её.
Даже если она бестолковая
И чужой захлебнулась виной.
До войны было платье как новое,
Но состарилось вместе с войной.
«Булочная работала до восьми…»
Булочная работала до восьми.
Предлагали кофе, к нему ром-бабы.
Принеси меня обратно и вознеси.
И тогда бы я бы… тогда бы я бы…
А кассирше было семнадцать лет,
У неё жених в химвойсках, и это
Заставляло меня не смотреть на свет
И давиться кофе… Не помню, Светой
Или Аллой её называла мать.
Я давал ей рупь, дожидался сдачи,
Надо было что-нибудь ей сказать,
Но в другом районе жила удача.
Этой булочной нет, да и дом исчез,
И страна пропала, где юность комом,
Где сердца проверяли всегда на вес,
Каждый раз удивляясь, что невесомы.
Принеси меня обратно и вознеси
Не на крест, а на дерево, в листьях – сила.
Булочная работала до восьми,
Больше ничего не происходило.
«Из казарм доносилась побудка…»
Из казарм доносилась побудка,
У троллейбуса вымерзло дно.
Очень холодно было и жутко,
Безнадёжно раскрылось окно,
Понимая, что некому мёрзнуть,
Что мороз не сильнее огня,
Что небесную азбуку Морзе
Расшифруют теперь без меня.
Очумелые тёти и дяди
Затевали рискованный флирт.
Пировали в подвале бродяги,
Разливая кладбищенский спирт.
Ничего от слезы не промокло,
Но морщин перепуталась вязь.
Лишь собаки дышали на стёкла,
На свои отраженья дивясь.
Я пропал в этом дне, растворился,
Даже пятнышка нет на стене.
Не хотел я, чтоб он повторился,
А теперь он смеётся во мне.
Не изжить молодые потуги
И болезненный трепет земли.
Постарели друзья и подруги,
Псы подохли, солдаты ушли,
За границу подались соседи,
Что горело – сгорело дотла.
Ты сказала, что утром приедешь,
Я всё думаю – вдруг соврала?
«Жаль, меня ты не полюбила…»
Жаль, меня ты не полюбила
Даже летом, когда жара.
Ты терялась в своих глубинах,
Пропадала в них до утра.
Я хотел бы с тобой, но время
Торопило за шагом шаг.
Я не слышал твоей свирели,
Только топот стоял в ушах.
Всё затоптано. Дни и ночи.
Мандаринная кожура.
Жаль, любила меня не очень
Даже летом, когда жара.
Одеяло твой запах держит,
Даже волос ещё найдёшь,
Но спокойно, как самодержец,
За окном разместился дождь.
Будет воронам повод каркать,
Свечка дёрнулась на ветру.
Ты гуляешь по Монте-Карло,
Ты играешь свою игру,
Не болельщик я и не зритель,
Я не прежний и не другой.
Я лишь памяти укротитель,
Ставший преданным ей слугой.
«К тебе стремятся до утра…»
К тебе стремятся до утра
Слова мои несчастные.
Их гонят гулкие ветра,
Дожди секут нещадные.
Но их не замечаешь ты,
В них мало знаменитого.
Они боятся темноты
И окрика сердитого.
Но если вдруг удастся им
Разворошить, что копится, –
Ты смутно вспомнишь Первый Рим
И все междоусобицы.
Нырнёт к ногам святая дрожь,
Польются мысли лавою.
Но ничего ты не поймёшь,
Решив, что нервы слабые.
Постель чужая, дом не наш,
Ночь покрывало вышила,
Да, у меня такая блажь,
Чтоб ты меня услышала,
Чтоб проступило сквозь гранит
То, что вдвоём читали мы…
Ведь Юлий Цезарь не убит
И ждёт тебя в Италии.
«Сонная артерия не спит…»
Сонная артерия не спит,
Гонит кровь с немыслимым упрямством.
В небо поднимается пиит
По бумажной лестнице и с ранцем.
Что ему бояться высоты?
Лишь она одна и непреложна.
Если упадёт, то прям в цветы,
Что толпа ему на гроб положит.
Вниз смотреть, пожалуй, смысла нет,
Что там? Книги, женщины, теракты
И не пригодившийся билет
На спектакль, в котором нет антракта.
Вдох за вдохом и за шагом шаг,
Туча – прохудившаяся кровля,
Сонную артерию в кулак
Можно взять, не выпачкавшись кровью.
Благодарность – Богу, и жилью,
И любви спасительному зелью.
Страшно только встретить тень свою,
Что с небес спускается на землю.
«Я привыкаю праздновать без тебя…»
Я привыкаю праздновать без тебя
Праздники, полные лиц навсегда счастливых.
Я привыкаю праздновать не любя,
Я привыкаю праздновать торопливо.
Лишь бы скорей закончился красный день,
Красный от крови памяти и разлуки.
Я привыкаю праздновать чью-то тень,
Что появляется в доме моём от скуки.
Где-то салют рассыпается не для нас,
Горе торчит, как неправильный гвоздь, наружу.
И фонаря неприлично огромный глаз
Смотрит внимательно и вынимает душу.
Что ты уставился? Всё как обычно! Хлоп!
Это шампанское просится прочь из тары.
Старая жизнь умещается в гардероб,
Новая жизнь не приходит на место старой.
Я привыкаю праздновать невпопад
В комнате, что повернулась ко мне спиною,
А календарь прошлогодний чему-то рад,
Он ведь не знает, что станет потом со мною,
Он ведь не знает, что край для того и край,
Чтоб за него зайти, чтоб сказать: не струшу.
Если меня ты помнишь, не разрешай
Мне тебя помнить. И я всё равно нарушу…
«Петербург наступает, как интеллигентное войско…»
Петербург наступает, как интеллигентное войско,
Чтобы пленные знали, что их отпускают обратно.
Я иду по Фонтанке, а ты понимаешь превратно
Каждый шаг мой усталый. Ну что? Невтерпёж,
так завой же,
Чтоб смешаться с гудками заводов, которых
не слышно,
Чтобы слиться с трамвайным безумием
прошлого века,
Может, даже получится снова найти человека,
Но я спрячусь в четвёртом дворе. Извини.
Так уж вышло.
Если смерть не заметна, то мы её не замечаем,
Говорим о покинувших нас, как о тех, кто остались,
Словно вот они только что с нами о чём-то шептались,
А теперь пробавляются где-то ватрушкой и чаем.
Петербург наступает на пятки тому, кто не хочет
Навсегда уходить, но бредёт по привычке куда-то.
Кто гордится бессмыслицей рифм, тот запутает даты.
Петербург – это память моя, что отныне короче.
А Нева, как одна поэтесса, опять подражает
Неизвестно кому, в зеркалах небосвода красуясь.
Мы не встретили Бога, зачем поминать его всуе,
Нам осталось увидеть одно: чья карета въезжает
На Дворцовую площадь и кто ею правит проворно.
Петербург отступает, как интеллигентное войско.
«На Литейном голуби подобрели…»
На Литейном голуби подобрели,
К воробьям немножечко подостыли.
А в цирюльнях морщатся брадобреи,
Так чужие волосы им постыли.
Жизнь моя всё крутится, как монетка,
Не всегда здесь ровные мостовые,
Дунешь – и покатится прямо в Невский,
А на Невском дяденьки ходят злые.
Как пластинка молодость заедает,
Слишком тонким выдалось то свеченье,
Водку кислой горечью заедает
Друг мой, не поверивший в воскресенье.
На Литейном голуби те ли, те ли?
Что с руки кормила ты так беспечно.
Улетели, милые, улетели,
Счастье, как поэзия, быстротечно.
Дедушки и бабушки на скамеечках
Ждут, чтоб наше прошлое им вернули.
Безнадёжность спуталась с бесконечностью…
На Литейном голуби… гули-гули…
«Луну найти на небе просто…»
Луну найти на небе просто,
Она одна.
А задавался кто вопросом:
К чему она?
Чтоб наблюдать, как кофе глушит
Больной поэт?
Или ведёт себя по лужам
Живой скелет?
Луна давно необитаема,
С тех пор как ты
Сказала мне, что наша тайна
Для темноты,
Что ты при свете сможешь лучше
Найти свой дом.
Я Зевс, я собираю тучи
И сею гром.
Когда гроза, луна рыдает
Как психбольной.
И от Алтая до Валдая
Гуляет вой.
Его с трудом выносят люди,
Свой слух губя.
А я учусь играть на лютне,
Так, для себя.
Я скоро дам лютнистам фору
Из многих фор.
Как же пользителен для формы
В конце повтор.
Луну найти на небе просто,
Не спишь ещё?
Но сколько мне хрипеть вопросом:
А я прощён?
«Хочется в Италию. Почему?…»
Хочется в Италию. Почему?
Потому что русские любят петь,
Мне в Пьемонте нравится, а ему
Лучше на Сицилии жить и млеть.
Уплыву по Тибру я в Древний Рим,
Ты меня попробуй-ка отлови.
А когда окажется, что горим, –
Спрячусь в виноградниках от любви.
Хочется в Италию, в тот Милан,
Где в кафе кричала ты: «Кофе мне!»
Несмотря на санкции и обман,
Если есть где истина, то в вине.
Блок любил Италию, я люблю,
Бродский хочет праздновать что-нибудь.
Пусть большое плаванье кораблю,
У гондолы маленькой – узкий путь.
Пусть кричат, что выскочка я и хлюст,
Только в этих окриках слышу фальшь.
Зимы там бесснежные – это плюс.
Кто-то бросил яблоко на асфальт.
«Мы все когда-нибудь умрём…»
Мы все когда-нибудь умрём,
И даже я.
Личину нужную сопрём
У бытия.
Уткнётся мордой в чёрный пух
Созвездье Пса.
Мне будет жаль бессмертный дух,
Эх, смерть-коса…
Зачем же косишь всех подряд
Ты от и до?
Тебя ведь нет, ты звукоряд
Без ноты «до».
Ты сон пустой, металлолом,
Ты ерунда.
Мы все когда-нибудь умрём
Не навсегда.
С утра кричит «ку-ка-ре-ку»
Чудак-петух.
И мелят мельницы муку,
И дышит дух,
Где хочет дышит – не указ
Ему молва.
Все будут живы – это раз,
Здоровы – два…
«Я разделился на несколько жизней…»
Я разделился на несколько жизней,
Но ни одну не прожил до конца.
Ты становилась взрослей и капризней,
Я становился похож на отца.
Ты становилась взрослее и старше,
Я исступлённо вгрызался в слова.
Скрипка любимая, та же ты, та же…
Анненский умер, а скрипка жива…
Только смычок с ней уж больно курносый,
Он задавака и, верно, злодей.
Жизнь разделилась на пару вопросов:
Стоит ли дальше морочить людей?
Стоит ли дальше словечки, как поезд,
В даль уводить с небывалым трудом?
Жизнь превращается в кожаный пояс,
Что раскромсали столовым ножом.
Жизнь превращается в узкие тропки,
Как бы мне выбрать одну дотемна?
Мебель и книги годятся для топки,
Только любовь никому не нужна.
«Ты в Дрездене выходишь из трамвая…»
Ты в Дрездене выходишь из трамвая,
А я смотрю. И «Егермейстер» крут.
И осень, в каждом вздохе созревая,
Диктует мне смиренье и уют.
В кафе с утра угрюмые германцы
Торчат, и вместе с ними я торчу.
Куда спешишь ты? Где протуберанцы?
Где молодость? Где резкое «хочу»?
Сейчас уйдёшь ты, видимо, навечно.
Тебя прокисший воздух городской
От глаз моих укроет. Осень лечит,
Прописывая трезвость и покой.
А Дрезден по воде плывёт уныло,
В ней длинно отражаясь и скуля.
Ты вышла из трамвая. Всё постыло.
И камертон чуть ниже ноты «ля».
Прости-прощай, пылинок миллионы
Теперь берут меня на абордаж.
А зелень всё спускается по склонам
Горы, где дом никто не строит наш.
«Я в ярости, я в старости…»
Я в ярости, я в старости
Стою одной ногой.
И нет конца той ярости,
Мой каждый день – изгой.
Тверская, прежде Горького,
И мексиканский бар.
Я пью текилу горькую,
Я стар, я стар, я стар.
В виски стучится прошлое,
А там и ты мелькнёшь,
Красивая и рослая,
Не верящая в ложь.
Меня сменяв на призраки,
Ты растворилась в них.
Берлинами, парижами
Запнулся русский стих.
А дальше стал я гением
И вынянчил успех.
И даже индульгенцию
Я получил за всех.
Грызутся мысли ярые,
От них лишь пар извне.
Долги тревожат старые
И тени на стене.
Жаль, рюмки стали плаксами,
Дожить бы до хулы…
А в баре шум и клацанье
Тарелок о столы.
«Тихая музыка ночи могла бы меня…»
Тихая музыка ночи могла бы меня
За руку взять, довести до волшебного леса.
Я не могу больше слушать, как злая грызня
Бешеных псов разрушает ночную завесу.
Я не могу больше ждать, что забрезжит рассвет,
Я не надеюсь, что будет тебе интересно,
Где я нашёл эту музыку. Да или нет?
Нет или да? В уравнении всё неизвестно.
Мысль пробирается вверх по стволу. В небесах
Нет ни ответов, ни звёзд, лишь засохшие взгляды.
Тихая музыка ночи сильнее, чем страх.
Противоядье бывает опаснее яда.
Сбросить бессилье и солнечный луч проглотить,
Словно факир бутафорскую старую шпагу.
Тихая музыка ночи… Придётся платить
За музыкантов, которым не хватит отваги.
Тихая музыка ночи, зачем я тебе?
Как мне укрыться от чёрных твоих незабудок?
Я не могу больше ждать. Я не верю судьбе.
Я не хочу умереть, если утра не будет.
«Из окон поезда в метро…»
Из окон поезда в метро
Прощальных слов не прочитаешь,
А ты спешишь в бутик «Этро»,
Ты этот бренд предпочитаешь.
А я катаюсь по «кольцу»,
Меня пинают, проклинают,
Не увидать лицом к лицу
Лица, и ты об этом знаешь.
Рифмуй, глагол, меня с другим,
Тебя ни с чем уж не срифмую.
Я завязал себя тугим
Узлом – и так перезимую.
Зачем цветок искать в пыльце?
Достаточно переиначить.
Конечных станций на «кольце»
Не догадались обозначить.
Я вижу в этом тайный смысл.
Вдохни прозрачность узнаваний,
Пока подлунный мир не смыл
Поток моих воспоминаний.
«Так много писали о Крыме…»
Так много писали о Крыме,
Что, если бы строчки гуляли,
Они бы заполнили всё – от Джанкоя до Ялты.
Почтовая стонет открытка,
Влюблённая в маленький ялик,
Пора уж исполнить последнее долгое сальто…
Ведь цирк навсегда уезжает,
И море глотает верёвки,
Которыми что-то к чему-то крепилось недавно.
Трепещет вечерняя жалость,
А сердцу не хватит сноровки
Смириться с глухими ударами Божьего дара.
Так много ходили по Крыму
Серьёзные люди, что ночью
Их тени ползут через тернии к звёздам холодным,
И падают утром на крышу
Одежды бесцветные клочья.
А ялик столкнулся с огромной подводною лодкой.
И стал вместе с нею одной засекреченной сводкой…
«Максимум, что меня ждёт…»
Максимум, что меня ждёт, –
Встреча случайная.
Войско уходит в поход,
Жизнь не кончается.
Плещется море у стен
Города ложного.
Жизнь не кончается тем,
Чем ей положено.
Можно и эдак и так, –
Имя плюс отчество.
Жизнь не кончается так,
Как нам захочется.
Прошлого виден оскал
У настоящего.
Максимум, что я желал, –
Хвост, как у ящера.
Бритоголовые пни
Выглядят жалобно.
Тянутся скудные дни,
Жизнь продолжается.
«Ты в метро спускаешься…»
Ты в метро спускаешься,
А на этой станции
Авели и каины
Раздают квитанции.
В них одни отметины
На века поставлены.
Только не заметишь ты
Каинов и авелей.
В темноте с прорехами
Поезд тонет с грохотом.
Ты уже уехала,
Мир остался крохотным.
Авели и каины
Молча руки спрятали.
Едут на окраины,
Злые, неопрятные.
Ведь работы много им
Ангелы доверили.
Вот и кормят ноги их,
Жаль, часы не сверили.
Я стою на станции,
Словно обесточенный.
А моя квитанция
Вечность как просрочена.
«Лучшие дни начинались с разлуки…»
Лучшие дни начинались с разлуки,
С простыни грязной, с ужасной попойки,
Лучшие дни начинались от скуки,
С этой скрипучей продавленной койки.
Горн пионерский звучит одиноко,
Как же ему надоела побудка!
Смерть за предательство, око за око,
Лучшие дни начинались так жутко.
К новой зиме подготовлены лыжи,
Где-то намечено снежное действо,
Я о тебе и не думал, ты слышишь?
Я о тебе не мечтал, не надейся.
Я загляделся в шампанские брызги,
Вместе с нулём утащил единицу,
Я погружался в опасные риски,
Ты захотела со мной погрузиться.
Дайвинг – занятье не для слабонервных,
Лучшие дни начинались для сильных.
Был для тебя я первейшим из первых,
Был для тебя самым стильным из стильных!
Только забыли мы выплыть, подруга,
Вроде замешкались самую малость.
Так безнадёжно любили друг друга…
Даже кругов на воде не осталось…
«Музыка во мне сжалась…»
Музыка во мне сжалась,
Что ни говори – жалко,
Музыка во мне стонет,
Что ни говори – тонет.
Школьники идут в школу,
Судьбы их идут рядом,
Очи опустив долу,
Мы весне почти рады.
Правильность твоих линий
Растревожит снов лаву.
Где мне взять час лишний,
Что способен стать главным?
Почему земли мало
На чужой уже карте?
Оттого что жизнь стала
Временной, как снег в марте.
«Кончилась ярмарка, кончилась…»
Кончилась ярмарка, кончилась.
И не понять, отчего
Вымерзли пальчики тонкие…
Скоро уже Рождество.
Руку ловлю, но согреть её
Не достаёт мне тепла.
Дня не отпущено третьего
Нам – только жизнь, что прошла.
Пост. Пахнет снегом и пряником,
Ржавым молчанием крыш.
Ярмарка кончилась раненько,
Тётки считают барыш.
Небо привычно, безжалостно,
Не замечает огня.
Не обижайся, пожалуйста,
Встреча длиною в два дня,
Это подарок, и помниться
Будет, пока голова
В крике последнем не дёрнется,
Не пережив Рождества.
«Бессонница. Гомер. И ничего не надо…»
Бессонница. Гомер. И ничего не надо.
Но снится Мандельштам у жизни на краю.
Как хочется его мне вытащить из ада.
Но невозможно… Он и так уже в раю.
А где тогда Гомер? Вопрос, конечно, спорный,
Ведь рай тогда ещё не выполз из легенд.
Ну так и что с того? Долой характер вздорный!
Бессонница. Гомер. И скорый хеппи-енд.
Листва грозит упасть. В окне застыло что-то,
Похожее на ночь, лишившуюся сил.
Что корабли считать, когда им нету счёта?
Как нету счёта тем, кого недолюбил.
Проси портного сшить такой пиджак, что роста
Хватило для всего. И даже для луны.
Бессонница. Гомер. О как же это просто!
Есть золото строки, которой нет цены.
«Мы в Париж на рассвете прибудем…»
Мы в Париж на рассвете прибудем,
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.








