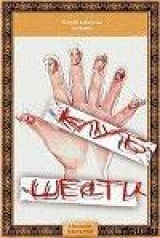
Текст книги "«Клуб Шести»"
Автор книги: Максим Веселов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Глава 16
Не говори мне о любви, но – обними.
Мила (так для краткости и красивости тут же наименовал Людмилу Теодор) по селектору отпросилась у Мариэтты, и теперь, в лёгком пальтишке-колокольчике шагала под руку с художником по ночному проспекту. До зари ещё оставалось много часов сказки.
Воздух Теодору казался переполненным озоном. Грудь раздувало и сердце бухало.
Наверное, со стороны они были похожи на папу с дочкой, девушка едва доставала ему шляпкой до плеча. Она напевала что-то из романсов Вертинского, голос понравился художнику и он раздувал ноздри – старался дышать тихо, что бы лучше вслушиваться. По городу изредка мчались одинокие машины, дико жужжа шинами, как лани, вырвавшиеся из зоопарка автомобильных «пробок». Окна в домах уже почти не светились, город погрузился в глубокий сон. Туман, рассыпаясь по земле клочьями, подтверждал ирреальность путешествия двух незнакомых душ среди каменных кавалькад со спящими телами людей внутри. Звёзд небыло, на то он и город. Небо фиолетово-чёрным космосом нависало на крышах домов и проваливалось до земли между ними. Вокруг идущей парочки образовался остров, со всех сторон окружённый фиолетовой чернотой. Их руки переплелись сильнее, в попытке не чувствовать одиночества человека в космосе, во вселенной, в бесконечности пустоты. Она перестала петь и заговорила. Вкрадчиво, с расстановками, тоже нараспев.
– Зачем в мою голову впихнут мозг, осознающий себя даже не молекулой, даже не атомом, по сравнению с огромностью неживой вселенной? Я раньше боялась представлять в воображении космос, он не умещался в моей голове и голова, казалось, лопнула бы, вместив этот взгляд в бесконечность… Зачем жизнь, такая краткая, такая бессмысленная, по сравнению с вечностью? Это не справедливо, жить так мало.
– Если б мы жили по тысяче лет, у нас были бы всё те же вопросы. Зато мы бы уже давным-давно так расплодились, что вымерли бы все от перенаселения. А так, у человечества есть шанс дотянуть даже до экологической катастрофы и выжить, ну, смотаться к тому времени на другие планеты. К тому времени мы уже станем настолько умными, что придумаем, как это сделать. Но это будем не мы, а наши да-алёкие потомки. Нас уже не будет ни под каким соусом. Блин, такое впечатление, что отдельно взятая личность абсолютно ничего не значит, Кого-то интересует поголовье человечества, как вида.
– А всё по аналогии: нас, людей, личность коровы, или, там, курицы не интересует.
Для нас главное, что бы они всем видом не передохли от коровьего бешенства и куриной чумы. А если у нас во дворе живёт наша корова и наша курица, мы их, конечно, любим, своеобразно. Даже, искренне. Но, всё равно, съедим. Дадим имя, будем ухаживать, кормить с руки, а потом – съедим. И удивляемся, когда лично с нами – так же. А точнее, мы же и молоко у них «с груди» пьём, едим эмбрионы их детей (яйца), самих их детей – цыплят и телят, самих их. Ужас!!! Так какого чёрта мы тут ноем о себе? А, Теодор, пусть нас жрут в конце пути! Пусть подавятся! Это будет не скоро. А пока мы будем наслаждаться жизнью, этого у нас никто отнять не сможет. Вот. Заболеем-ка мы каким-нибудь интеллектуально-художественным бешенством, и пусть Они с голоду подохнут! Нет! Живыми мы Им не сдадимся!
Странный оптимизм. Но он заразил Теодора, захотелось гулять от рубля, не сковывать себя ни моралью, ни памятью.
– Послушай, Мила, человек рождается в полном одиночестве, уходит из жизни в полном одиночестве, живёт всю жизнь без возможности слиться с любимым человеком в единый организм… Да мы же всегда одни! Как звёзды и планеты! Мы же постоянно в полном одиночестве…
– А тут и разгадка… Солнца греют свои планеты, пока сами не взорвутся. Но мы, люди, осознающие существа, имеем возможность наслаждаться друг другом, на время, на минуты, на часы выжигая из своей жизни вечное одиночество.
Они остановились и замерли обнявшись, глаза в глаза, единение началось. Они стали подарком друг другу, тайной и разгадкой и снова – тайной. Единым организмом двух одиноких душ. Он – мужчина, она – женщина, это гимн презирающих тоску одиночества во вселенной. У них двоих есть всё для единения, для слияния, для того, что бы два раздельных и различных организма слить, склеить, спаять на время в единый и полноценный. Это потом, после смерти, если «тот свет» существует, они станут бесполыми и самодостаточными, а сей час, в этой жизни, они обречены на великое счастье – находить свои половины для воссоединения.
– Мы уже не попадём ни в какой бар или ресторан, пойдём ко мне, я тоже умею варить кофе, а коньяк в него будешь добавлять сама. Идёт?
– Мы большие, нам можно курить. Едем, где твой дом?
Оставим на совести Теодора и Людмилы то, что происходило с ними в эту ночь.
Никакими словами в прозе нельзя описывать тайну ночного ритуала. И слова будут не те, и тайна исчезнет. Доверим поэтам. У них получается, ибо поэты – проводники мирового пространства, разумного и непознаваемого, чьи пути неисповедимы но ощутимы. Поэты говорят на языке ощущений, пусть их.
Утром, когда счастливая и слегка ошалевшая Мила покинула Теодоров дом, он, окружённый запахом её духов, допивая в постели кофе, почувствовал, что переживания этой ночи просятся в строки. И тут вспомнилось: очень часто, почти постоянно, в момент чтения книг, он старался представить себе, что ощущал автор, когда писал эти самые строки, кои сам Теодор под видом читателя сейчас впервые видит. Автор ведь так же тогда видел их впервые. Следовательно, велик шанс ощутить именно те ощущения, что вызвали у автора данные строки. Этак, от обратного: ощущения выплеснулись у автора в слова, а теперь эти слова должны вплеснуться в ощущения читающего – в запахи, чувства, эмоции, психозы и страхи, вдохновение, радость, радугу ощущений. Теодор закурил, дабы не расплескать состояния эйфории первооткрывателя, вынул ручку и блокнот… строки сами потекли на лист:
«16 лет»
Почему мне твой взгляд так понятен?
Ты смотришь в глаза,
Всё неверно, душа…
Отошёл пароход, погудел и ушёл в Сингапур.
Почему в Сингапур не хочу?
Так неверно теперь, что есть алость у губ негритянок.
А негритянок нет. Я молчу.
Я молчу уже тысячу лет.
Ведь любой век не больше минуты.
Что мне день или два?
Я вас вижу, начала вам нет, потому, что нет судеб Если даль непомерно пуста.
Всё – слова, а на деле – колы и дрова.
И такой же расклад в Сингапуре:
Всё торговый ряд из дерьма.
Тебе было шестнадцать лет, ты постигла Дао.
Тебе стукнуло 20 лет, ты узнала смерть.
Во дворцах на приемах кавалеры приглашают на танго, А ночью безудержно снится кордебалет.
Под Луной саксофон вызывает желанье отравы, А днем полуночные волки нежнее собак,
«Десять змей» грела грудью своей, а выросли нравы…
Почему же так душно теперь, почему всё не так?
И ты дышишь мне в лицо. Нет, я не уйду.
И ты дышишь мне в лицо. Ну, ладно, говорю:
А границ никаких нет.
Теперь тебе 25, ты – ледокол «Ермак».
Ты знаешь, где Северный полюс, и щёлкаешь льдины.
Врагов уже нет, последним застрелился оклад.
Обходишь подводные льдины, как насчет Атлантиды?
Ты пьёшь чай у меня на софе, ты аутодафе.
Колыхаясь идёшь, центр тяжести в соседней вселенной.
Боже, как далеко отец купил «Три семерки» – портвейн…
Друже, как одиноко: он выпьет, и станет «Инштейном»…опять…
Одинокий свет фонарей от любви, до дверей.
Синей пасты в письме километры кардиограммы.
Которым утром снова скажешь лишь подушке: «Привет…»
А на шее тонны вины и обиды – граммы.
Тебе вежливо дают семнадцать, ну, улыбайся.
Приглашают на рюмку чая, ну что теряешь, сходи!
Да перестань демонстрировать мозг, это не по карману.
А не хочешь, сядь в полный лотос и посиди.
И ты уже почти Гоголь, значит так, значит, слушай: кармапаченно, махакала, манада.
И не ты сошла с катушек, это просто – шахматный мир.
Из всех влюблённых в тебя, остается только гитара.
Остальные пройдут сквозь пальцы и мы встретимся здесь.
И ты подышишь мне в лицо.
И нет, я не уйду.
И ты подышишь мне в лицо, ну, ладно, я скажу:
А ГРАНИЦ НИКАКИХ НЕТ!
Отложив авторучку, Теодор ещё раз закурил.
Что же это получается? Это уже и не стих, это – песня. Причём, именно для Шамира.
Это стиль и энергетика Шамира. Всё. Владелец следующего медальона ясен. Само Провидение ведёт Теодора по пути портретов Клуба Шести. Неужели им так нужны портреты? Или это ему нужны их портреты? Теодор почти никогда раньше не писал стихов. Песен – уж точно никогда. С прозой – та же картина. Картина.
И картина стала вырисовываться на «внутреннем экране» лба художника.
То пространство, которое видит через его глаза, слушает через его уши и всё осознает – в считанную секунду мощно пришло, как приходит большой паровоз на станцию и заполняет всё своим паром. Вернее оно, это пространство, было всегда, просто однажды мы начинаем осознавать его присутствие на раз, два, а потом – довольно часто, как мы осознаём присутствие у нас рук, ног, ушей и всего остального. И в этот момент Теодору стало сложно сказать, где его самого больше – в этом пространстве или в отражении тела в зеркале. Это как держать в руке стеклянный шар. Он может быть пыльным, грязным, крашенным, освещённым или нет, но в любом случае все эти слова применимы как описатели единственного, а именно – стеклянного шара. Нет шара – нет грязи или блеска на нём, нет шара – нет плохого и хорошего, нет лучшего и худшего. А есть шар – ему по барабану, как его описывают, от внешних характеристик он не перестанет быть стеклянным шаром. Как показалось Теодору – покоиться в том, что происходит и идти вброд через великую реку – это очень хороший стиль. Художник не заметил, как в его руках оказались кисти, а сам он – у свежего холста. И портрет заиграл красками.
Разве надо описывать, что было нарисовано на портрете Шамира? Надо? Большой стеклянный шар, в котором отражался паровоз, пришедший на станцию и заполнивший паром всё свободное место на полотне. Если не отрываясь смотреть в одну точку на холсте, то изображение словно через лупу становилось отчётливым и резким, как в трёхмерной графике, облекаясь в объём. Теодор на Библии мог поклясться, что не знает, как у него это получилось. Может – техника мастера, а может – Провидение.
Утром он отнёс портрет в Клуб. Шамир сидел в углу и наигрывал на гитаре блюз.
Курил. Теодор отдал ему листок с текстом. Шамир почитал. Поиграл. Через минут двадцать – напел. Снова поиграл. А потом – со вступлением, с соло на весь гитарный гриф, запел. Музыка захлестнула комнату, звенела в каждом атоме воздуха и тела Теодора. Все потаённые смыслы текста, Шамир вывернул наружу, обнажил и бросил в пространство. Песня родилась и «случилась» прямо на глазах Теодора, раскрылась, расправилась, прозвучала и унеслась в космос – жить. Теперь она сможет в любой момент снова и снова появляться на земле, возрождаемая пальцами и голосом Шамира, теперь она – есть.
Когда закончил, Теодор похлопал в ладоши. Шамир кивнул и закурил новую. Теодор глазами показал на холст и сказал:
– Это ты.
Шамир кивнул. Затянулся поглубже, выпустил дым как паровоз пар и снова кивнул.
Ещё чуть поиграл только что придуманный мотив и сказал:
– А я как раз медальон потерял. Видишь, ничего случайно не бывает. Скажем Владимычу, мол, проехали, типа, его очередь осталась. О, к?
Теперь Теодор кивнул.
– А про паровоз – круто. Повесь в галерее, пусть народ «потащится».
Вот и всё «спасибо».
Глава 17
В день открытия галереи Теодор проснулся в 5.00 утра.
Думал, что проснулся покурить, но, разомкнув глаза, осознал, что уже не уснёт.
Мучил только что приснившийся и только сейчас же забытый сон. Стучал в виске. В комнате пахло надвигающимся событием. Надо заваривать чай и покурить.
Газ зашипел под чайником со свистком. Огонь в доме успокаивает, это – от предков.
Каминов теперь нет, или ещё нет, у нас пока нет. Зато – газ на плите. Можно мясо жарить на вертеле прямо над плитой, можно варить в котелке грог, а можно поставить кипятиться чайник со свистком. В этом есть информация. Ритуал, наполненный предками смыслом. Века, тысячелетия, изо дня в день, огонь вот так же входил в дом к человеку и нёс радость. Не только радость. Много, чего нёс. Но, это всё неважно. Главное, что сегодня утром-ночью, Теодор вот так же как его предки, сидит голый на кухне, курит и думает «за жизть», глядя на пламя. Горит газ. Ему, как ритуалам огня, тысячи лет, и всё это время он скрывался в глубинах земли, а сейчас, пройдя тысячи километров по трубопроводам, пришёл к нему в дом и греет его чайник. Со свистком.
…я как проклятый Содом,
а ты – как чайник со свистком,
в небе пролетел трамвай,
так это – крыша отъезжает в даль.
Допоём, а там нальём, а как нальём, так и споём,
А как споём, так и опять – пойдём…
Во как. Надо записать. Опять – Шамирова вещь. Пора бы и к последнему бою готовиться, он трудный самый. Интересно, почему «трудный самый», а не «самый трудный»? Безграмотно же! Для рифмы? Эх, блин, чего только не сделаешь ради рифмы. Ничего, Пушкин всем разрешил фразы переворачивать, не грамотно, пусть, зато – для рифмы полезно. Сойдёт. Включи радио, и сойди с ума от того, что они теперь ради рифмы делают. И выключи радио, что б осталась надежда на то, что после «Серебряного века» поэзии не пришёл-наступил уже «Оловянный»… А что делать?
Традиционный русский вопрос. Ну, во-первых, взять перо и записать строки, которые выплыли из сознания только что.
Записал.
Дальше.
Что делать?
Я не издатель, что бы отыскивать новых Блоков с их «Прекрасными дамами», Есениных и Цветаевых… Я… Я – Теодор Неелов. Художник. Но, почему только художник?
Что ж скромничать-то? Рассказы уже пишу? Да, и не плохие рассказы, раз и Изольда Максимилиановна и Михал Романыч – оценили! Стихи-песни пишу? Да. Шамир подтвердит, кивнёт головой и дым из ноздрей выпустит как дракон. Так какого мне молчать? Я потомок и продолжатель Серебряного века, без всяких кавычек – Серебряного! Я буду писать, неважно что: картины, стихи, песни, пиесы, романы и рассказики! Я обязан писать. Это та нить, которая протянется через век и соединит моё время и времена трепещущей Цветаевой, разгульного святого Есенина, влюблённого трубача Маяковского, вихлявого блаженного Белого, прагматичного поэта Брюсова, ранимого Мандельштама, зубастого Чёрного, Волошина Максимилиана (пока не читал, ничего не скажу), ангела Хлебникова и, конечно же, плеяды других и не менее талантливых, возможно – менее удачливых. Связь наших времён, это – моё творчество! Так на чём же дело встало? Садись и пиши!
Теодор снова схватил перо и застрочил:
Голый человек курит на кухне,
Силуэт в высотном окне.
Ночь. Переулок. Арка вспухла.
Окно не гаснет. Холодно мне.
Курю. Вредно. Ну что ж, не жалко:
С зеркалом теперь не дружу.
Бросить камень, что б звякнуло гадко?
Руки в карманы. Шагаю в арку. Наверное, ухожу.
Зима на свете, как купюра в пачку,
«Богатство моё»? Или – нет?
Девальвация лет. Комкаю подачку,
И бросаю зиму на снег.
Вот так. А вы говорите!
В запале перечитал – хорошо! Покурил, перечитал – блин, Маяковским несёт, аж зубы сводит. Вот же, заговори о чёрте, «широкие штаны» рядом. Ладно, это как бы в доказательство связи времён. Может быть, сам Маяковский сейчас подсел ко мне, вместо Музы, и в ухо надиктовал! Что б уж не сомневался – слышим, мол, Теодор тебя, не дрейфь, дружище, поддерживаем и в помочь к тебе впряжёмся, если что! Во как.
А так как слушать Теодора было некому, он запнулся на полуслове и поостыл.
Однако, часы уже показывали 9.00. Больше тянуть нельзя, быстро мыться, наряжаться и в галерею. Так и сделал. Да конечно, обманывал себя – хорохорился.
Специально тянул время, что бы меньше трясло. Волновался и не попадал рукой в рукав. Лопнул шнурок. Расслабил другой край и завязал как есть, от чего получилось, что на одном ботинке шнурок с бантом болтаются, а на другом – узелок с ушками. Почувствовал облегчение, как тогда, когда обнаружил трещину на унитазе – когда всё блестит, бывший советский человек чувствует себя неуютно. Хоть что-то должно быть через задницу, это соответствует нашему понятию о гармонии.
Трамвай выгремел из-за угла дома и навалился всем своим железом на остановку.
Лязгнули стеклянные ставни и грянул народ. Едем. Топчемся друг другу по носкам ботинок, чувствуем локоть ближнего. Все хотят спать и не хотят работать, что ещё раз подтверждает тот факт, что быть взрослым – скучно, и удовольствие это – сомнительное. Да, можно то, чего нельзя ребёнку: курить, заниматься сексом, напиться с другом. Всё. Маловато. Потому, что после всех этих трёх удовольствий надо встать, собрать в зеркале своё лицо и отправить это лицо на работу. Самому отправиться следом, что б лицо это поддерживать. Такие дела. Такие перспективы.
Дети!!! Не спешите, блин, дети…
Это веха. Галерея – веха его жизни, подводящая черту всем трудам по сей день. За окном проплыл мусорный бак, в котором рылась дворняга. Тьфу ты! О душе думать хочу! За окном нищая с клюкой. О, Боги, да почему не разделите миры на… на что?
На совершенство искусства и убогость мира? Есть оно, это разделение, есть.
Искусство в галереях, на сцене, в музеях, книгах и ДУШЕ. А если я выбираю совершенство, то и сюда его несу, в этот трамвай, на эти улицы. Оно – вокруг меня.
Для подтверждения этих выводов, Теодор оглянулся. Девушка в пальто курсистки и вязаной шапочке панамкой улыбнулась, встретившись с ним взглядом. Он улыбнулся в ответ и она поспешила рассматривать улицу. За окном проплыл лежащий на мостовой пьяный. Курсистка обожгла себе взгляд об это убожество и, словно извиняясь, снова глянула на Теодора. Он сочувственно приподнял брови. Она опять улыбнулась.
Теодор нащупал в кармане пригласительный на открытие своей галереи, вынул его и протянул через плечи соседей курсистке. Она удивилась, но билет взяла, сморщила носик от усердия, читая. Подняла глаза на Теодора, он тоже сморщил нос, говоря тем самым, мол, приходите, пожалуйста! Курсистка растерялась и, уже не зная куда теперь ещё смотреть, не поднимала больше глаз от теодорова билета. Вышла на следующей. Бежать за ней – глупо. Во-первых: не такая уж она красавица, что б он тут же влюбился, а во-вторых… а что во-вторых? Просто, не такая уж красавица и всё.
Это знак. Разделение миров есть. И он в себе несёт это разделение. И люди его ощущают. Гм. Не трудно это разделение ощущать от «напомаженного» Теодора в трамвае, этом самом демократичном виде транспорта, в котором битком набиты все представители классов и прослоек, от бомжей до… нет, депутаты тут не ездят. Зато валютные проститутки (как их раньше называли, теперь они носят гордую приставку «VIP») случаются. А так же в трамваях ездят владельцы собственных галерей. Ба-а!!
А вот и писатель Михаил Романович в белом пальто с песцовым воротником и дамой под ручку, укутанной в чернобурку! А где же его правительственная «Волга» с мигалками?! Истинно говорю: самый демократичный транспорт, это – трамвай! Трижды горе тому, кто это чудо отменит! Да и может ли быть такое??? Все романтики земли, вместе с пенсионерами взвоют в священном гневе и отстоят эту консервную банку на железных колёсах, этого младшего брата поезда, дух прогресса начала прошлого века.
А Михал Романыч, тем временем, заметил молча беснующегося Теодора, что-то пошептал спутнице (та с восхищением стала отыскивать Теодора глазами), и стал пробираться в людской свалке к художнику. Что-то необычное в облике писателя волновало Теодора. Не трамвай, хотя, трамвай вместо «Волги» – тоже. Не спутница, явно смахивавшая на новоиспечённую супругу. Нет. Что же тогда? Михал Романыч преодолел ещё одну старушку, сомневающуюся в существовании людей вокруг, и приблизился настолько, что Теодора полоснуло: на писателе среб дь бела дня небыло глухих тёмных очков! Правда, лёгкие дымчатые очки всё же были, но… Но!
Слегка зеркалят очки, поведены дымчатой поволокой сверху, у бровей, но глаза-то видно! Однако! Радостные глаза. Живые. Какие-то, сочные, что ли? Так и льёт из них жажда поделиться каким-то достижением, удачей, взятым Эверестом, павшим под писательским напором Римом! Вот те раз! Вот те и «писатель в стол», правительственный паук – одиночка, крапающий днём пасквили, а по ночам романы.
Что сдвинулось в этом мире? Или длани Господни хлопнули друг о друга и стал свет?
Дама писателя с ловкостью лавировала между сомневающихся старушек, так же приближаясь. На секунду Теодору показалось, что Михал Романыч уже не Михал Романыч, а Моисей, идущий сквозь разверзнувшиеся морские воды, а его дама – еврейский народ, слепо шагающий во след Моисею. Это надо написать маслом! Моисей разверз пучины бабушек и с верой шагает на другой берег трамвая.
– Теодор Сергиевич!! Драгоценный!!! – орал Моисей пугая людские волны. – И вы тут! Как же! Праздравляю вас, любезный мой друг, с открытием! А у нас к вам СЮРПРИЗ!!!
Неучастных в трамвае не осталось. Все живо проснулись, отвлеклись от заоконных пейзажей и собственных горемычных дум, и уставились на громоподобного жителя Парнаса. Последнему публика не мешала.
– Маргарита Иосифовна, да где же ты, голубушка?! – писатель искал свою отважную спутницу. – Неси скорее! Пропустите даму, несчастные, вы все успеете выйти на остановке, я для вас удержу этот трамвай!
Обещание подействовало и человеческие волны разомкнулись ещё шире. Еврейский народ скачками нагнал своего Моисея и просиял(а). Милая женщина. К груди она трепетно прижимала красочный пакет, точнее свёрток в подарочной упаковке с лихим бантом.
– Вот! – с торжественной скромностью сообщила дама и протянула Моисею ношу.
– ВОТ!!! – подтвердил Михал Романыч и передал пакет Теодору. – Праздравляем! Рви!
Не угодить любопытству публики Теодор не мог. Трамвай в этот момент остановился на обещанной Моисеем остановке, распахнул двери, но народ не выходил. Народ жаждал зрелища. Народ разорвал бы Теодора, если б он не порвал пакет тут же, здесь же и не удовлетворил эту жажду.
Для сконфуженности времени не оставалось. Теодор разорвал упаковку и вынул новенький том большой книги. Народ недовольно хлынул в распахнутые двери трамвая, высыпаясь на остановку и снося, сбивая с ног входивших. Ожидание народа опять обманули. Кто ж из них не видел «книжек в подарок»?
А Теодор такой книжки раньше действительно не видел. Повертел в руках, прочитал:
«Альманах „Новая заря“, Читайте тех, кто живой!»
– Да ты открой титульный, открой! – не унимался писатель.
А на титульном в левом верхнем углу было напечатано: «Великому художнику, писателю, поэту и Творцу Теодору Сергеевичу Неелову посвящается этот Альманах!»
Теодор зажмурился и тряхнул головой. Снова взглянул, видение не исчезло.
Повинуясь интуиции, он стал шарить взглядом по рубрикаторам, в разделе прозы без труда отыскал среди списка незнакомых фамилий свою, в стихах – тоже… Ошеломлённо глянул на Михаила Романовича, тот сиял свеженачищенным самоваром и торжествовал.
– Праздравляю, друже, с тройным дебютом, тебя, с тройным!!! А, ну каково, Маргаритка, в один день он открывает галерею и впервые печатает в альманахе стихи и прозу, а, каково!!! История такого не знает! Да, брат, широко шагаешь прямо в историю и штаны не рвёшь! Дай-ка я тебя обниму, ш-шалмец!
Дальнейшее Теодору запомнилось калейдоскопом мультипликационных картинок – целовал Маргарите Иосифовне ручку, трубно звучало слово «супруга», обнимался с Михал Романычем, зачем-то подпрыгивал (может, трамвай трясло?), нюхал новенькие страницы альманаха (озаряло, что ещё никогда не рисовал типографскими красками, а вот же, удосужился!), судорожно листал страницы и, отыскивая свои стихи и рассказы удивлялся их книжному облику, пирожки за окном проплыли вместе с бабкой-торговкой в замасленном фартуке, альманах будет выходить каждый месяц, какое счастье!
Проехали лишних две остановки. Бежали через проспект на другую сторону под испуганные гудки встречных машин, брали такси и неслись в галерею.
– Где же «Волга» ваша, Михал Романыч?? – в запале орал Теодор.
– Да вот же она, вот, – ещё более радостно орал писатель. – В руках держишь!!!
Это и есть русский писатель.
В этом и весь русский писатель.
Нет больше «Волги» у ответственного работника Михаила Романовича. Потому что есть теперь Альманах «Новая заря» у писателя Михал Романыча, и на альманахе призыв: «Читайте тех, кто живой!» Ни больше, но и не меньше! Вот тебе, бабушка, и Юрка вернулся! Плевал он на «десять книжек по сто экземпляров», он друзей печатает и себя среди друзей. Он людям дарит искусство, да что ещё нужно писателю? Читатель. И он теперь у него есть. Вот так, ребята, можно жить со смыслом, можно.
А Маргарита Иосифовна, значит, супруга. Чудеса!








