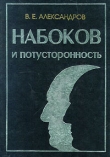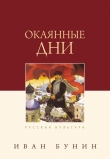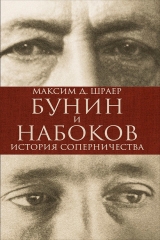
Текст книги "Бунин и Набоков. История соперничества"
Автор книги: Максим Шраер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Узнаваемый тематический и стилистический фон «Обиды» Набокова обнаруживается по крайней мере в пяти рассказах Бунина: «Первая любовь» (1890), «На даче» (1895), «Кукушка» (1898), «Далекое» (1903) и «Митина любовь» (1925). В рассказе «Первая любовь», самом раннем из перечисленных (и перекликающемся с Тургеневым не только названием), описана усадьба и три мальчика-подростка, которые, подобно Путе, Васе и Володе в «Обиде», представляют собой авторское «воспоминание о давнем собственном “я”, распределенном здесь между тремя мальчуганами» [157]157
Nabokov. The Stories of Vladimir Nabokov. New York, 1997. P. 651.
[Закрыть]. Митя, главный герой, влюблен в Сашу, кузину своего друга, и ужасно стыдится сознаться в этом остальным мальчикам. Как набоковский Путя, Митя мечтателен; его терзают различные комплексы, которые только обостряет подростковая бравада приятелей. В конце «Обиды» можно услышать эхо отчаяния Мити в кульминационной сцене бунинской «Первой любви», в которой дядя мальчика дразнит его в присутствии Саши и ее приятельниц. От рассказа Бунина «Первая любовь» тянется нить к более позднему рассказу, «Кукушка», где также описаны три подростка в поместье; одного из них тоже зовут Митя. Если Путю Шишкова можно воспринимать как подростка-предшественника одного из самых памятных героев Набокова, поэта Василия Шишкова, то в Мите из «Первой любви» и «Кукушки» легко заметить некоторые нарождающиеся черты главного героя «Митиной любви» (1925), одной из лучших новелл Бунина периода эмиграции. «Митина любовь», действие которой частично разворачивается в русской усадьбе, привлекла внимание критиков из-за новаторства в изображении сексуальности молодого героя [158]158
Линда Сапутелли Циммерманн обнаружила ряд параллелей между «Обидой» Набокова и «Митиной любовью» Бунина. Она сравнила композиционную структуру желания в обоих рассказах: увлеченность Пути Таней в «Обиде» и влюбленность Мити в Катю в «Митиной любви». Исследовательница также нашла отражения бунинской цветовой палитры в том обостренном восприятии мира во всем его цветовом разнообразии, которым обладает Путя. См.: Zimmermann. The Russian Short Stories. P. 67–68.
[Закрыть]. Само место действия и декорации «Обиды» обнаруживают и некоторое сходство с бунинским рассказом «На даче» (1895), классическим «дачным» рассказом с чеховским повествовательным течением. Наконец, короткий рассказ, написанный Буниным в 1930 году и также озаглавленный «Первая любовь», вполне мог дать Набокову непосредственный импульс к написанию «Обиды» [159]159
Ср. англоязычный рассказ Набокова First Love («Первая любовь») в кн.: The Stories of Vladimir Nabokov. P. 604–611. В несколько видоизмененной форме эта глава присутствует в автобиографиях Набокова.
[Закрыть]. В этом рассказе Бунина перед нами предстает подросток, влюбленный в гордую, не по летам развитую девочку. Герой Бунина, на которого похож набоковский Путя, играет со сверстниками, в то время как он пребывает на грани отчаяния и едва не плачет. Параллели между набоковским рассказом «Обида» и бунинскими «На даче», «Первая любовь» (1890), «Кукушка», «Митина любовь» и «Первая любовь» (1930) вполне можно объяснить не до конца сознательной попыткой молодого писателя вступить в диалог со старым мастером, а также общим композиционным фоном, топосом русской усадьбы [160]160
Можно с некоторой степенью уверенности предположить, какие именно эмигрантские сборники Бунина имелись у Набокова и какие он читал в 1920-е. Дореволюционные издания Бунина, особенно сборники, было труднее заполучить в эмиграции. Насколько нам известно, в годы эмиграции Бунин не переиздавал рассказы «Первая любовь» и «Кукушка» (1890).
[Закрыть]. Однако есть у Бунина замечательный рассказ «Далекое», написанный еще до революции, из которого Набоков позаимствовал и конкретные словесные мотивы.
Бунин дважды переработал «Далекое» и в эмиграции опубликовал этот рассказ по меньшей мере трижды. В варианте 1937 года эта вещь представляет собой набросок к автобиографическому роману «Жизнь Арсеньева» [161]161
См.: Бунин СС 2:519. Рассказ «Делекое» был включен в сборник «Роза Иерихона» (1924). В 1925 году его новая редакция была опубликована в парижской газете «Возрождение». Наконец, в 1937 году Бунин опубликовал третью редакцию, «Восемь лет», в «Последних новостях» – как вариант наброска к «Жизни Арсеньева». См: Бунин СС, 6: 299–305.
[Закрыть]. «Далекое» изображает один день из жизни главного героя, девятилетнего мальчика Ильи. В отличие от набоковского Пути, он радуется этому дню, проведенному вместе с отцом на охоте. Первая половина рассказа посвящена описанию поездки на болото, а кульминацией второй становится сцена охоты и восторг Ильи. Отблески бунинского рассказа в тексте набоковской «Обиды» яснее всего видны в описании коляски, лошади и охотничьей собаки и некоторых подробностей природы. Оба рассказа, набоковский и бунинский, изобилуют упоминаниями трав, цветов и насекомых (в особенности кузнечиков), образами летнего неба и облаков, а также изображениями эффектов игры света и тени. У Бунина: «Ничего не видно ни впереди, ни по сторонам – только бесконечный, суживающийся вдали пролет меж стенами колосистой гущи да небо, а высоко на небе – жаркое солнце» (Бунин СС 2: 286). У Набокова: «Глубина леса была испещрена солнцем и тенью, – не разберешь, что ствол, что просвет» (Набоков РСС; 3:545; ср. Набоков 1990, 2: 346). Если учесть соображения, высказанные Набоковым в приведенном ранее письме 1938 года к Е. Малоземовой, то становится понятно, почему в тексте «Обиды» заметен и любимый бунинский цвет – лиловый. Молодой герой Бунина видит «лиловый куколь» (Бунин СС 2: 286). Набоковский Путя собирает ягоды – черничины с «лиловым блеском» (Набоков РСС 3:548; ср. Набоков 1990, 2: 349). Набоков обряжает кучера в «безрукавку», упоминающуюся в «Далеком». Для читателя, знакомого с рассказом Бунина, такие параллели создают ощущение узнавания – и в этом наслаждение от чтения. Тот же эффект порождают и повторенные Набоковым бунинские образы собаки, бегущей за коляской, и дегтярного запаха коляски. Разумеется, эти переносы образов из одного текста в другой могут быть хотя бы отчасти случайными. Однако, когда Набоков без всяких изменений переносит бунинский образ «атласной шерсти» (Набоков РСС 3:344; ср. Набоков 1990, 2: 345) с охотничьей собаки на лошадь, перед нами прямая отсылка к тексту-предшественнику.
Несмотря на ритмическое и стилистическое совершенство, по своей общей атмосфере «Обида» – один из наименее набоковских рассказов. Во многом попытка Набокова воспроизвести характерные достижения и приемы прозы Бунина удалась. Рассказ «Обида» показал, что Набоков может мастерски писать именно в бунинской излюбленной манере – сочинять психологические рассказы, в которых куски отстраненного повествования (от третьего лица) перемежаются с эмоциональными наблюдениями, окрашенными сознанием автора. Как и Бунин, Набоков насыщал свои рассказы описаниями природы, несколько экзотическими, но достоверными.
Но что-то в рассказе «Обида» чуждо самому духу искусства Набокова. Во-первых, здесь почти совсем нет той двуплановости, тех мимолетных перенесений главных героев из мира обыденного в мир иной, которыми отмечены лучшие рассказы зрелого Набокова. Во-вторых, несмотря на явную драму одиночества подростка-героя, повествование слишком гармонично, лишено резкости и психологического напряжения хотя бы по сравнению с другими рассказами Набокова того времени. Даже в сравнении с рассказом «Лебеда», непосредственным продолжением «Обиды», в последнем всего лишь несколько моментов абсолютного отчаяния, в котором игра слов (каламбур, анаграмма, омоним) и человеческая трагедия так же неразделимы, как неразделимы металитературное и метафизическое в прозе Набокова. В рассказе можно найти лишь несколько пассажей, где Набоков неповторимо виртуозен в искусстве «управления словами» [162]162
Я парафразирую «to do things with words» – известное афористическое выражение Джона Л. Остина, одного из основателей лингвистической философии; см.: Austen J. L.How to Do Things With Words. New York, 1962.
[Закрыть]. В эпизоде, где Путя сталкивается со старой гувернанткой-француженкой, литературной родственницей «Мадемуазель О» из одноименного рассказа (а также главы его автобиографий), Набоков создает остраненную перспективу, передавая акцентированную русскую речь француженки посредством гибрида русских и французских слов, записанных латиницей: «Priate-qui? Priate-qui?.. Sichasse pocajou caroche messt» <Прят-ки? Прят-ки?… Сичас покажу карош месст> (Набоков РСС 3:551; ср. Набоков 1990, 2: 352). Подобной словесной игры не найдешь в рассказах Бунина. Забавная речь старой гувернантки, зашифрованная путем абсурдной логики, показывает отчаяние Пути и его отчужденность от всеобщего праздника. (Кстати, такой тип русско-французской каламбуристики на грани абсурда восходит к Толстому, у которого в «Войне и мире» Николай Ростов в момент душевной экзальтации прочитывает имя своей сестры Наташи (Natache) как зашифрованное французское слово «une tache» – «пятно».
Своей стилистикой и тематикой, а также посвящением дачный рассказ «Обида» дал понять старому мастеру и всей эмигрантской публике, в чем именно Набоков видит вклад Бунина в сотворение жанра современного русского рассказа, который Чехов преобразил, а сам Бунин отточил до совершенства. Но если в «Обиде» Набокова мы наблюдаем в основном стилистические и тематические пересечения, то целый ряд произведений Набокова 1920-х – начала 1930-х годов – как романы, так и рассказы – представляет примеры непрерывного диалога с Буниным, происходящего одновременно на многих уровнях текста, от композиции и сюжета до перенасыщенных смыслом деталей.
Первый такой пример – рассказ Набокова «Памяти Л. И. Шигаева», сочиненный в 1934 году в Берлине и опубликованный в том же году в Париже. Рассказ построен как некролог, написанный рассказчиком о покойном друге, русском интеллигенте-эмигранте. В том, как описана история дружбы рассказчика с этим кротким и чистым человеком, можно узнать реальные некрологи, написанные и опубликованные Набоковым в 1920–1930-е годы, особенно некрологи, посвященные памяти критика Юлия Айхенвальда, поэта Саши Черного и Амалии Фондаминской, жены Ильи Фондаминского [163]163
См.: Памяти Ю. И. Айхенвальда» («Узнавать человека значит…») // Руль. 1928. 23 декабря. С. 5; Памяти А. Черного // Последние новости. 1932. 13 августа. С. 3; Памяти А. О. Фондаминской. в сб. «Памяти Амалии Осиповны Фондаминской». Париж, 1937. С. 69–72.
[Закрыть]. Среди произведений Бунина эмигрантского периода есть одно, которое, по всей видимости, послужило предшественником вымышленному некрологу Набокова. Речь идет о рассказе «Алексей Алексеевич», опубликованном в Париже в 1927 году. Оба рассказа открываются прямым сообщением о смерти персонажа. У Набокова: «Умер Леонид Иванович Шигаев…» (Набоков РСС 5:648; ср. Набоков 1990, 4: 345). У Бунина: «Нелепая, непоправимая весть: Алексей Алексеевич умер!» (Бунин СС 5:367). За объявлением, которым открываются оба рассказа, следует череда разрозненных воспоминаний, частью анекдотических, связь между которыми ассоциативна. Бунинский Алексей Алексеевич и набоковский Леонид Иванович – очень разные люди; первый – жизнерадостный, несколько манерный человек, второй – застенчивый ученый, которому уютнее всего в стенах архивов и библиотек. В отношении рассказчиков к покойному другу также заметна значительная разница: Виктор (герой-рассказчик Набокова) говорит о своей привязанности к старшему другу, по-отечески опекавшему его, в то время как у Бунина рассказчик отзывается об умершем с иронической снисходительностью. Однако и у Бунина, и у Набокова образ ушедшего человека получился живым, поскольку вымышленные некрологи воспринимаются именно как воспоминания о реальных людях.
«Рождество», один из самых замечательных ранних русских рассказов Набокова, отсылает нас к рассказу Бунина «Снежный бык» (1911). Действие разворачивается зимой в загородном поместье. Мальчик в «Снежном быке» не умирает, как в «Рождестве» Набокова, но он страдает от панического страха: несколько ночей подряд он плачет во сне. Его отец, помещик по имени Хрущев (эту фамилию также носит дворянский род землевладельцев в рассказе Бунина «Суходол» (1911)), встает, чтобы успокоить и утешить его. В русской литературе найдется немного произведений, где так пронзительно передано ощущение отцовской боли и страха за сына, нежности и заботы, как в «Снежном быке» Бунина и «Рождестве» Набокова. Несмотря на то, что и у Бунина, и у Набокова действие происходит в дворянских усадьбах и оба рассказа сосредоточены на изображении отцовской любви, нетрудно заметить существенную разницу между бунинским и набоковским художественным миром. Хрущев выходит зимней ночью на улицу, чтобы уничтожить то, что он считает причиной кошмаров и страхов сына, а именно уродливое снежное изваяние быка, отбрасывающее страшные тени на потолок комнаты сына. Разрушив снежного быка, он обходит двор, восхищаясь умиротворяющей земной гармонией зимних окрестностей. Набоков предлагает своему герою-избраннику Слепцову иной способ справиться с болью: спасительная метафора инобытия, огромная индийская бабочка-ночница, помогает ему преодолеть боль потери и сохранить идеализированные воспоминания об умершем сыне-подростке.
Еще один пример диалога Набокова с Буниным, на этот раз на уровне архитектоники характера, мы находим в «Пильграме» (1930), одном из лучших рассказов Набокова. Пильграм, главный герой, внешне кажется типичным бюргером, но на самом деле живет прекрасными метафизическими мечтами; всю жизнь он готовится к дальним странствиям. Стоя за прилавком своего убыточного берлинского магазинчика, Пильграм мысленно отправляется в ежедневные путешествия, и маршрут его включает Острова блаженных, Корсику, Андалузию, Далмацию и другие экзотические края. В «Пильграме» заметны параллели с «Господином из Сан-Франциско» (1915), одним из высших достижений дореволюционного творчества Бунина. Как и Пильграму, господину из Сан-Франциско никогда не удавалось пожить в свое удовольствие, несмотря на то что ему уже около шестидесяти. Он делец, много работает и надеется однажды предпринять путешествие по «Европе, Индии, Египту», где «люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью» (Бунин СС 4:308). Герой Бунина умирает на райском острове Капри, едва исполнение его земных и чувственных мечтаний достигает кульминации, а Пильграма убивает роковой удар незадолго до того, как его фантастическая мечта отправиться в энтомологическую экспедицию становится реальностью [164]164
Следует также упомянуть один из дореволюционных рассказов Бунина «Отто Штейн» (1916), который мог послужить подтекстом «Пильграма». Главный герой, молодой биолог Отто Штейн, как и Пильграм, живет в Берлине и отправляется в экспедицию в тропики.
[Закрыть].
Можно было бы продолжать перечень перекличек между произведениями Бунина и Набокова, но я остановлюсь здесь, чтобы высказать несколько обобщающих наблюдений. Прежде всего Набоков научился у Бунина искусству интонации и ритма в прозе. У больших писателей есть узнаваемая интонация – функция как синтаксиса, так и семантики. Ритм прозы Бунина не раз становился предметом исследований. И Эмма Полоцкая в России, и Елизавета Малоземова в США подчеркивали роль поэзии Бунина в формировании узнаваемой интонации его собственной прозы [165]165
См.: Полоцкая Э.Взаимоотношение поэзии и прозы раннего Бунина // Известия АН СССР. 29:5. 1970. С. 412–418; Malozemoff.Ivan Bunin. С. 269, 279–280.
[Закрыть]. Закономерно ожидать в рассказах Бунина и Набокова, писавших и стихи, и прозу, наличие близких просодических структур. Для иллюстрации того, что я подразумеваю под «бунинскими интонациями» в рассказах Набокова, сопоставим два пассажа: первый – из «Господина из Сан-Франциско» (1915) Бунина, второй – из «Пильграма» Набокова (1930). В обоих отрывках речь идет о воображаемых поездках, которые в своей реализации приведут героев к смерти.
Вот отрывок из текста Набокова:
Он <Пильграм> посещал Тенериффу, окрестности Оротавы, где в жарких, цветущих овражках, которыми изрезаны нижние склоны гор, поросших каштаном и лавром, летает диковинная разновидность капустницы, и тот, другой остров – давнюю любовь охотников, – где на железнодорожном скате, около Виццавоны, и повыше, в сосновых лесах, водится смуглый, коренастый корсиканский махаон. Он посещал и север – болота Лапландии, где мох, гонобобель и карликовая ива, богатый мохнатыми бабочками полярный край, – и высокие альпийские пастбища, с плоскими камнями, лежащими там и сям среди старой, скользкой, колтунной травы, – и, кажется, нет большего наслаждения, чем приподнять такой камень, под которым и муравьи, и синий скарабей, и толстенькая сонная ночница, еще, быть может, никем не названная; и там же, в горах, он видел полупрозрачных, красноглазых аполлонов, которые плывут по ветру через горный тракт, идущий вдоль отвесной скалы и отделенный широкой каменной оградой от пропасти, где бурно белеет вода» (Набоков РСС 3: 538; ср. Набоков 1990, 2: 405) [166]166
Два наиболее существенных изменения, внесенных в английскую версию, – это, во-первых, начало первой фразы: «In these impossible dreams of his» («в этих невозможных мечтах») (Nabokov. The Stories of Vladimir Nabokov. P. 254) – намек на то, что Пильграм так никогда и не отправится в путешествие; во-вторых, упоминание «the Islands of the Blessed» (Островов блаженных) (The Stories of Vladimir Nabokov. P. 254). Я подробно сравнил русский оригинал «Пильграма» и его английский перевод, выполненный Набоковым совместно с П. А. Перцовым (P. A. Pertzoff); см.: главу 2 моей книги The World of Nabokov’s Stories. P. 108–134; о совместной переводческой работе Набокова и Перцова cм.: Шраер. Набоков: темы и вариации. С. 272–284; подробнее об этом же в моей статье Shrayer. After Rapture and Recapture: Transformation in Death of Nabokov’s Stories // The Russian Review. October 1999. 58.4. P. 548–564.
[Закрыть].
А вот отрывок из рассказа Бунина:
В декабре и январе <господин из Сан-Франциско> надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, – любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной; карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие рулетке, третьи тому, что принято называть флиртом, а четвертые – стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном, на фоне моря цвета незабудок, и тотчас же опускаются белыми комочками о землю; начало марта он хотел посвятить Флоренции, к Страстям Господним приехать в Рим…» (Бунин СС 4:309).
В обоих отрывках мы видим длинные сложные предложения, часто разделяемые точкой с запятой и связанные скорее семантически, нежели синтаксически. Интонация внутри каждого предложения цементируется сериями главных и придаточных предложений (одни из которых короче, другие – длиннее), сплетенных воедино с помощью союзов или без таковых (ср.: у Бунина «Монте-Карло, куда… общество, где… голубей, которые…» и у Набокова «аполлонов, которые… тракт, идущий… пропасти, где…»). (Длинные синтаксические периоды в обоих приведенных фрагментах состоят из нескольких длинных предложений, каждое из которых является сложносочиненным или сложноподчиненным.) Е. Малоземова еще до войны писала о значении «библейского синтаксиса» в прозе Бунина [167]167
Malozemoff.Ivan Bunin. C. 266.
[Закрыть]. Под библейским синтаксисом понимается употребление Буниным союзов «и», «а» и «да» как в самом начале предложения, так и для соединения серий сложных предложений внутри пассажа или сложносочиненных предложений внутри сложного предложения. Подобная синтаксическая структура порождает просодически организованный поток прозы, последовательность отрывков равной длины, каждый из которых в данном случае начинается с союза «и» [168]168
Носители английского языка ощущают роль союза «и» в организации текста Библии, особенно в Ветхом Завете, обратившись скорее к King James Bible, нежели к более современным переводам. Знаток русской Библии немедленно опознает структуру «и… и… и».
[Закрыть]. Примеры этой синтаксической структуры в бунинской прозе встречаются постоянно. В приведенных отрывках такая синтаксическая структура создает ритм заклинания или молитвы, передающий бесконечное путешествие, которое оба персонажа совершают в мечтах – a не в повседневной жизни.
Рассказ Набокова «Совершенство» (1932) демонстрирует поразительное сходство с бунинской интонацией. Величественное последнее предложение в рассказе «Совершенство», одно из самых длинных в русской новеллистике, состоит из одиннадцати самостоятельных предложений. Все они начинаются с союза «и». Такая длинная цепочка предложений почти одинаковой длины, начинающихся с одного и того же союза, создает заклинательно-медитативную интонацию, рождая у читателя ощущение открытости текста – причастности к иным измерениям бытия [169]169
Особый случай – использование Набоковым в прозе метрически маркированных вставок (к примеру, вставок двудольных и трехдольных размеров в рассказе «Облако, озеро, башня»); см. об этом во 2-й главе моей книги The World of Nabokov’s Stories. P. 134–161.
[Закрыть].
Что касается повествовательной структуры рассказов Набокова 1920-х и начала 1930-х годов, по крайней мере одну важную их особенность можно объяснить влиянием Бунина. Семь ранних рассказов Набокова («Месть», «Картофельный эльф», «Случайность», «Катастрофа», «Бахман», «Дракон», «Ужас») и пять рассказов среднего этапа («Пильграм», «Terra Incognita», «Совершенство», «Королек» и «Красавица») построены по излюбленной бунинской схеме, согласно которой венцом рассказа становится смерть (см., например, «Господин из Сан-Франциско», «Казимир Станиславович», «Петлистые уши», «Митина любовь», «Дело корнета Елагина»). Среди ранних рассказов Набокова по меньшей мере в двух смерть действует очень уж по-бунински – как горючая смесь трагического и мелодраматического. В рассказе «Месть» молодая и неискушенная жена английского профессора обнаруживает в своей постели скелет, подложенный туда мужем-ревнивцем, и умирает от сердечного приступа. В «Картофельном эльфе», когда карлик Добсон падает с сердечным приступом к ногам Норы на железнодорожной станции, она безучастно произносит: «Оставьте меня […] я ничего не знаю… У меня на днях умер сын…» (Набоков РСС 1:141; ср. Набоков 1990, 1: 397). Кстати сказать, в «Картофельном Эльфе» прочитывается и пародия Набокова на мелодраматическую новеллу Бунина «Сын» (1916) – быть может, первая, но далеко не последняя литературная пародия Набокова на старшего современника [170]170
Об этом см.: Shrayer. A Notes to Nabokov›s Short Stories // The Nabokovian.Spring 1998. 40. P. 42–63; Шраер М. Набоков: темы и вариации. С. 205–206.
[Закрыть].
В начале 1930-х годов Набоков продолжает использовать смерть как прием завершения – точнее, замыкания, – повествования. При этом в таких рассказах, как «Пильграм» и «Совершенство», уже можно различить первые признаки того спора Набокова с Буниным, который достигнет высшей точки в конце 1930-х годов, а потом перекинется через океан в пространство англо-американской культуры. Предметом спора станет то, как художники понимали этические и метафизические составляющие смерти. В рассказе «Королек» протонацистские головорезы убивают своего соседа – носителя славянской фамилии за то, что он иностранец и выше их ксенофобски-мещанского восприятия мира. Смерть здесь выступает одновременно и как инструмент человеческого конфликта, и как отражение исторической ситуации, и позволяет Набокову связать свою собственную эстетику с обезображенной этикой окружающего его общества. В «Корольке» Набоков разделяет глубокую озабоченность Бунина насилием в обществе и смертью как его неизбежным следствием. Сама повествовательная структура рассказа Набокова отражает немецкое общество накануне прихода нацистов к власти.
Набокову конца 1920-х–1930-х все еще близки взгляды Бунина, согласно которым художественная форма запечатлевает очертания повседневности. Если вспомнить тираду Соколовича, маньяка-убийцы с «идеями» из рассказа «Петлистые уши», «каждый мальчишка зачитывается Купером, где только и делают, что скальпы дерут… каждый пастор знает, что в Библии слово “убил” употреблено более тысячи раз и по большей части с величайшей похвальбой и благодарностью творцу за содеянное. <…> Скоро Европа станет сплошным царством убийц» (Бунин CC 4: 390–391). Но уже в рассказе «Красавица» (1934) – и особенно в «Пильграме» и «Совершенстве» – отход от бунинской концепции смерти очевиден. Двадцать с лишним лет спустя, в 1963 году, в предисловии к новому изданию романа Bend Sinister («Под знаком незаконнорожденных») Набоков напишет: «there is nothing to fear, death is but question of style, a mere literary device, a musical resolution» [171]171
Nabokov. Bend Sinister. New York, 1990. P. xviii-xix.
[Закрыть](в русском переводе Сергея Ильина: «Бояться нечего и смерть – это всего лишь вопрос стиля, простой литературный прием, разрешение музыкальной темы» (Набоков ACC 1: 202)). В руках Бунина смерть – несомненно, прием, но в художественной вселенной писателя смерть-прием означает гораздо большее, чем «вопрос стиля» и «разрешение… темы». Финалы «Пильграма» и «Совершенства» сосредоточены на смерти главного героя не в том смысле, психологическом и физическом, в котором читатели Бунина привыкли ее видеть, а на переходе в иномирное пространство. Такой метафизический опыт главного героя эхом отдается в памяти читателя после того, как сняты «тусклые очки» (Набоков РСС 3:600; ср. Набоков 1990, 2: 419) и создатель героя – Набоков – объявляет о его смерти.
О том, что уже в начале 1930-х годов Набоков с меньшей охотой признавал себя «прилежн<ым> ученик<ом>» Бунина, говорит лаконичное замечание в письме жене, отправленном в Берлин из Праги 12 апреля 1932 года. (В Праге еще с 1920-х годов жила мать Набокова с младшими детьми, и это была пятая, предпоследняя поездка Набокова в Чехословакию.) «Я не мог одолеть маленькие шедевры Ивана Алексеевича в “Последних новостях”. А ты?» – пишет Набоков [172]172
Набоков Берг; цит. по: Набоков В. В. Письма к Вере: 1923–1976 гг. СПб., 2015 (готовится к печати).
[Закрыть]. Как показала Ольга Воронина, речь идет о номере «Последних новостей» за 10 апреля 1932-го [173]173
Набоков Берг; цит. по: Набоков В. В. Письма к Вере: 1923–1976 гг. СПб., 2015 (готовится к печати) и там же примечания О. Ворониной. См. также: примечания В. Титовой в: Бунин СС 2: 513–516.
[Закрыть]. В эти годы Бунин переделывал ранние рассказы и печатал их в эмигрантских изданиях. Так было и с рассказами «Костер» (1902, 1932) и «Надежда» (1902, 1932), напечатанными в «Последних новостях» в тот день – 10 апреля 1932 года. «Костер» – виньетка о ночной остановке в степи, с ощутимым чеховским дыханием; «Надежда» – романтическая медитация, навеянная осенью у Черного моря и отплытием «сказочн<ой> плавуч<ей> колокольн<и>» к «новы<м> горизонт<ам>» (Бунин СС 2: 269). По сути это не рассказы в классическом жанровом смысле, а ярко оркестрованные словесные зарисовки. В них нет того судьбоносного столкновения любви и смерти – той заведенной Буниным-художником сюжетной пружины, которая делает лучшие бунинские рассказы совершенными и почти неповторимыми. Оценка Набокова, высказанная не публично, но в письме родному человеку, адекватно передает его изменившееся отношение к наследию прозы Бунина.
* * *
Вернемся к личным отношениям писателей на переломе. Их первая встреча состоялась в Берлине после получения Буниным долгожданной Нобелевской премии по литературе за 1933 год. Набоков, как и многие эмигранты, уже не думал, что это произойдет. 23 августа 1932 года он писал в Лондон Глебу Струве: «Бунина мне очень жаль. Пора-пора ему получить премию. Я не очень верю, что это получится, а жаль» [174]174
Письмо В. Набокова Г. Струве. 23 августа 1933 г. Набоков БК.
[Закрыть]. О том, что Бунину присудили Нобелевскую премию по литературе за 1933 год, стало известно 9 ноября [175]175
См.: дневниковую запись Буниной за 13 ноября 1933 года: «В четверть пятого 9 ноября по телефону из Стокгольма я впервые услыхала, что Ян Нобелевский лауреат» (Бунин РАЛ MS. 1067/452; см. также: Устами Буниных. Т. 2. С. 293).
[Закрыть].

10 ноября 1933 года Набоков послал Бунину свои поздравления:
10-XI-33
Nestor str
, 22 Berlin-Halensee Дорогой Иван Алексеевич,
я очень счастлив, что вы ее получили! Тут нынче только об этом и толкуют, поздравляют при встречах друг друга как с праздником, – чудное праздничное волнение, – и полное удовлетворение (коего мы столь долго были лишены, что почти от него отвыкли) двух чувств, – гордости и справедливости.
Жму вашу руку и горячо обнимаю вас
В письме Набокова обратный адрес – Несторштрассе, 22. Это минутах в десяти ходьбы от Курфюрстендамма, главной артерии Шарлоттенбурга. Здесь, в бывшем юго-западном предместье Берлина, Набоковы прожили с 1932 до 1937 года – до самого отъезда из Германии.
После нескольких неудачных попыток Бунин и Набоков наконец встретились, но только не в бунинском Париже, а в набоковском Берлине. До того они были знакомы лишь заочно и вот теперь увиделись в первый раз – в Шубертзале (Schubertsaal), 30 декабря 1933 года на вечере по случаю получения Буниным Нобелевской премии, организованном Иосифом Гессеном, с речами и чтением бунинских произведений. Хотя Бунина и не ожидали на чествовании, он все-таки приехал в последний момент [177]177
См.: «Вечер в честь Бунина в Берлине» // Возрождение 1934. 11 января. С. 4; Boyd, Vladimir Nabokov: The Russian Years. P. 403–404, Field, VN. C. 157–158.
[Закрыть]. Набоков произнес лирическую речь о поэзии Бунина, в которой повторил основные положения своей рецензии на «Избранные стихи» Бунина, написанной и опубликованной в 1929 году. Он также прочитал свои любимые стихи Бунина. В дневнике Буниной есть запись от 31 декабря 1933 года: «Сирин гораздо лучше понимает стихи Яна и звук их передачи правильный. Выбор хорош и смел» [178]178
См.: Устами Буниных. Т. 2. С. 299.
[Закрыть]. Оба писателя были сфотографированы вместе на сцене. Вот выдержки из эмигрантской газеты:
Русская колония в Берлине отметила приезд лауреата Нобелевской премии по литературе, И. А. Бунина, публичным чествованием. На эстраде знаменитого русского писателя приветствуют И. В. Гессен, бывший руководитель кадетской партии и редактор газеты „Речь“ – в России и „Руль“ – за рубежом. Аплодируют: справа поэт Сергей Кречетов, слева – талантливейший из молодых зарубежных писателей, В. В. Сирин (илл. 6) [179]179
Фотография и подпись из харбинской газеты «Рубеж» от 30 декабря 1933 года; воспроизведено в: Boyd. Vladimir Nabokov: The Russian Years.
[Закрыть].

Бунин и Набоков, которые никогда раньше лично не встречались, стояли на сцене бок о бок, как две звезды русской литературы. Этой встрече предшествовала переписка, длившаяся более двенадцати лет. Она началась в 1921 году, когда Набоков был неизвестным молодым поэтом, а Бунин – королем эмигрантской литературы, последним классиком, которому не нужно было никому ничего доказывать – настолько незыблема была его литературная репутация. В течение первого этапа их диалога, завершившегося встречей в 1933 году, главной русской точкой отсчета в прозе для Набокова оставался Чехов, в то время как Бунин был живым представителем великой традиции русской литературы, одновременно и классиком, и современником, который продолжал развиваться и подталкивать Набокова на новые достижения. К концу 1933 года, когда слава Набокова распространилась по всей зарубежной России, он уже не мог – не хотел – воспринимать Бунина как своего учителя и наставника в литературе.

В Берлине Бунин и Набоков увиделись еще раз через несколько дней после торжественного вечера, в начале января 1934 года. Писатели вместе обедали, но о содержании разговоров между Буниным и Набоковым известно очень мало. (Почти двадцать лет спустя некоторые воспоминания об этой встрече воплотились в эпизоде автобиографии «Говори, память», который будет рассмотрен ниже.) Начался второй этап их отношений, длившийся с 1933 по 1939 год. Это было литературное состязание, в котором Набоков опережал Бунина.
* * *
После берлинских встреч конца 1933-го – начала 1934-го Бунин и Набоков не виделись два года, и об их контактах мало что известно. За это время литературная ставка Набокова взметнулась. Приведем два письма сотрудникам «Современных записок», где в 1930-е годы печаталась львиная доля прозы Набокова. 2 июня 1933 года старший современник Набокова, выдающийся юрист и общественный деятель Оскар Грузенберг пишет соредактору «Современных записок» Марку Вишняку о публикации романа «Камера обскура»:
Роман этот исключительно талантлив – и именно поэтому он мне неприятен: как Вы знаете, я не терплю повоенной Германии, а она в его романе показана с достаточной правдивостью в интимной жизни. Однако не об этом хотел сказать, – а вот о чем: конец романа превосходит все, что было талантливого, а порой и гениального, в русской художеств<енной> литературе. Такой сцены: какою Сирин закончил свой роман, нельзя назвать даже гениальной (это точное не то слово!): тут уже колдовство, ибо я никогда не думал, что человеческое слово может быть так выразительно. Я читал эту сцену вчера днем – и мне стало так страшно <…>, что я от страха выбежал на улицу. <…> Попомните мое слово: Сирин окончит сумасшедшим домом. – Разве можно так переживать, так писать! [180]180
Цит. по кн. «Современные записки»/Под. ред. Коростелева и Шрубы. Т. 3. С. 575–576.
[Закрыть]
11 мая 1934 в письме Вадиму Рудневу, в прошлом видному деятелю эсерской партии, Фондаминский предлагает ряд мер для «спасения» журнала, которому грозило финансовое банкротство. Эти меры включают в себя сокращение расходов и модернизацию журнала – «установку на писателей молодого поколения» (я цитирую историка культуры эмиграции Манфреда Шрубу [181]181
См.: кн. «Современные записки»/Под. ред. Коростелева и Шрубы. Т. 1. С. 487.
[Закрыть]). «Из наших журнальных беллетристов я оставил бы только <троих> – Бунина, Алданова и Сирина», – писал Фондаминский [182]182
Цит. по: «Современные записки»/Под. ред. Коростелева и Шрубы. Т. 1. С. 487.
[Закрыть].

Реакции Бунина на публикации прозы Набокова дошли до нас в письмах к коллегам по литературному цеху. От интереса и осторожного одобрения конца 1920-х – начала 1930-х годов Бунин в середине 1930-х переходит к все возрастающей враждебности [183]183
См.: Boyd. Vladimir Nabokov: The Russian Years. C. 422–434.
[Закрыть]. 17 июля 1935 Бунин из Грасса пишет Рудневу раздраженное письмо по поводу первой трети «Приглашения на казнь»: «Сирин привел меня в большое раздражение – нестерпимо! Чего стоят одни эти жалкие штучки: § 1, § 2 и т. д. Почему §? И так все – ни единогословечка в простоте – и ни единого живого слова! Главное – такая адова скука, что окна стекла хочется бить. Это между нами, дорогой<…>. Вообще совершенно ужасно! * <*Все это лучше оставить между нами>» [184]184
Цит. по: «Современные записки»/Под. ред. Коростелев и Шрубы. Т. 2. С. 908. О номере с недостающими страницами см.: письмо Бунина Рудневу от 8 июля 1935 года в кн. «Современные записки»/Ред. Коростелев и Шруба. Т. 2. С. 908.
[Закрыть]. Справедливости ради, надо отметить, что у Набокова текст романа просто-напросто разделен на части, пронумерованные римскими цифрами.
Последняя треть 1930-х годов была крайне тяжелым периодом в жизни стареющего Бунина. Он был опустошен разрывом с Галиной Кузнецовой, причины которого были для него совершенно непонятны (Кузнецова стала спутницей певицы Марги (Маргариты) Степун, сестры Федора Степуна) [185]185
См.: Устами Буниных. 3: 15.
[Закрыть]. В своих дневниках Бунин писал о 1934–1935 годах как о периоде какого-то помешательства, вылившегося в череду ошибок, финансовые безрассудства (как, например, отказ от гонорара за одиннадцатитомник его сочинений). Бунин также писал о подступающей старости, о соскальзывании в бездну отчаяния, о потере силы воли, о бессмысленности жизни [186]186
См., к примеру, Бунин. Дневниковая запись от 10 мая 1936 года. Устами Буниных. Т. 3. С. 18–20.
[Закрыть].