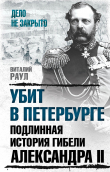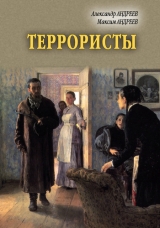
Текст книги "Террористы"
Автор книги: Максим Андреев
Соавторы: Александр Андреев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Исполнительными органами Третьего отделения на местах, в губерниях и уездах, стали управления Отдельного корпуса жандармов, имевшего права армии. Главноуправляющий Третьим отделением одновременно являлся шефом жандармов, штаб которых располагался на столичной Фурштадской улице в доме 40. Кроме жандармских округов, губернских управлений были созданы дивизионы в Петербурге, Москве и Варшаве, выполнявшие роль внутренних войск. Третье отделение докладывало Николаю I, что все в империи ждут перемен, наведения порядка в управлении, судебных и административных реформ. Царь разрешил только заняться изучением возможности некоторых «частных перемен и дополнений в существующем порядке управления». В обществе законопроекты не обсуждались, в Государственный совет и Сенат на обсуждение подавались заведомо ложные материалы, извращавшие положение в стране. Николай I устроил игру в преобразования. Он боялся просвещения и образования народа, запретил преподавать философию в университетах, которые были подвергнуты исключительному надзору и количество студентов в одном высшем учебном заведении не должно было превышать трехсот слушателей. Царь усилил цензуру и тут же на полтора месяца отправил в тюрьму, а потом в ссылку выдающегося писателя Ивана Тургенева за то, что он в некрологе, который отказались печатать петербургские газеты, посмел назвать великого писателя Николая Гоголя великим. Такой эпитет мог иметь только царь-государь. В обществе его стали называть самодовольной личностью с кругозором ротного командира. Наука и литература подверглась гонениям, увеличились опалы и наказания без суда. В Европе Россию стали называть огромной казармой, где всех подданных заставляли держать руки по швам.
При Николае, как, впрочем, и весь XIX век, многие помещики продолжали отнимать крестьянские наделы, увеличивали бесплатный труд крепостных, за вознаграждение отправляли крестьянских девушек в притоны, секли, пороли, сажали в домашние тюрьмы беззащитных людей, ночами им выбивали зубы, одевали кандалы и железные ошейники, тыкали ножами деревенских детей, обливали их на морозе водой, заставляли грызть кости, бегать на поводке. Дворянская изобретательность в издевательствах над невинными и беззащитными крепостными была безгранична. Зафиксированы многочисленные случаи кормления крепостных червивым мясом за плохо вычищенную трубку или снегом, травли их собаками. Многочисленные и ужасные издевательства помещиков над крепостными авторы описывать не хотят. На российских просторах существовали помещики, насиловавшие всех своих крепостных женщин поголовно, их возмущавшихся мужей отправляли в солдаты или забивали. Помещика, любившего до смерти насиловать четырнадцатилетних крепостных девочек, суд оправдывал, несмотря на явные улики. Законная защита крестьян не действовала. Само собой, всероссийский император Николай I знал обо всем, но предпочитал гоняться и опаляться на дворянина, посмевшего обогнать царскую карету на столичном Невском проспекте. Какие там еще крестьяне! Пусть пашут, молчат и умирают. Крестьянские жалобы никаких последствий не имели. За жестокость и убийства у многочисленных помещиков-садистов в государственную опеку было взято только несколько имений. Помещики ничего не боялись, не думая о том, что бояться придется их внукам, но будет уже поздно. Крестьяне массово бежали на север, юг, восток, Сибирь, убивали себя. В отчетах царские статистики называли самоубийц скоропостижно умершими. Помещиков-садистов крестьяне иногда убивали, на них посылали войска и проводили массовые экзекуции. За время правления Николая I зафиксирована почти тысяча крестьянских волнений, в которых участвовали десятки тысяч крепостных, подавлявшихся не только оружейным, но и орудийным огнем. Чтобы избежать дворянских издевательств, крестьяне массово просились в солдаты. В стране стала создаваться атмосфера постоянного неудовольствия, начавшего переходить в ненависть. Помещикам по-отечески внушали быть снисходительнее к своим крестьянам, но они почему-то не внушались. Они продолжали обливать кипящими щами головы своих крепостных поварих, говоря при редких проверках, что щи уже успели остыть. Читать жалобы крестьян на помещиков-извергов почти невозможно. Читать объяснения помещиков-садистов омерзительно. Архивные материалы по крестьянской-крепостной трагедии многочисленны и ужасающи. Крестьяне оставались в полной зависимости от помещиков, которые во главе с царем активно нарывались на собственный народ, приближая, приближая и приближая кровавый и ужасный 1917 год.
Огромная сеть агентов и провокаторов Третьего отделения, среди которых было много добровольцев, действовала во всех слоях и сословиях империи. Выявлялись умонастроения общества с последующим изъятием из него всех инакомыслящих. Тюрьмы, каторга и ссылки не пустовали. Комендант Петропавловской крепости наслаждался, когда говорил многим выдающимся людям николаевского времени о том, что для них давно приготовлены казематы. Третье отделение, подчинявшееся непосредственно царю, вставляло палки в колеса своему конкуренту полиции МВД, но у него не всегда получалось.

Михаил Петрашевский
В 1848 году грянуло дело петрашевцев. На собраниях в квартире дворянина Михаила Петрашевского в Петербурге бывали многие люди, которые обсуждали социалистические теории Оуэна и Сен-Симона, мечтали о лучшем будущем для России и ее народа. МВД ввело в кружок Петрашевского провокатора, что было совсем несложно, ибо в доме принимали всех, и министр внутренних дел, само собой, доложил царю об этом, как о преступлении, угрожавшем существованию империи, но Россию тут же мужественно спасло ее великолепное МВД. Николай I в ярости назвал проспавших революцию агентов Третьего отделения сопливыми псами. Начальник Третьего отделения граф М. Орлов доложил Николаю I, что дело Петрашевского не стоит выеденного яйца. Если государь хочет, он прикажет Петрашевскому больше трех не собираться, вот и все. Царь еще был под впечатлением европейской революции 1848 года, которую он сам и подавил, заработав на века позорный титул «жандарма Европы». Какие там еще собрания! Всех арестовать!
В ночь на 23 апреля 1849 года сорок восемь человек, когда-нибудь заходивших в квартиру Петрашевского, были арестованы совместными группами Третьего отделения и МВД. С этого года началось активное выдумывание и создание псевдо-тайных обществ, и они появились по-настоящему. Петрашевцев надо было обвинить хоть в чем-то, кроме мечтаний и разговоров. Вскоре все общество с очередным изумлением читало копию приговора будущему гению России Федору Достоевскому с резолюцией Николая I: «Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив копию с преступного письма литератора Белинского, читал это письмо в собраниях. Достоевский был у подсудимого Спешнева во время чтения возмутительного сочинения поручика Григорьева «Солдатская беседа». Военный суд приговорил отставного инженер-поручика Достоевского за недонесение лишить чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием». Николай I надписал на приговоре: «На четыре года на каторгу, потом рядовым; помилование объявить лишь в ту минуту, когда все будет готово к исполнению приговора». Двадцать петрашевцев приговорили к смертной казни, еще месяц продержали в казематах, чтоб эти разговорчивые помучились ожиданием смерти, потом привезли на Семеновскую площадь Петербурга, огласили приговор, связали, надели на головы мешки, выстроили напротив расстрельную команду, клацнули ружейными затворами, остановили казнь и отвезли осужденных в сибирскую каторгу. Великий писатель Михаил Салтыков-Щедрин в холодной ярости писал о николаевском времени и царских холопах: «Зависть и жадность у вас первого сорта. Так как вы эту жадность произвольно смешали с правом, то и думаете, что вам предстоит слопать мир. Вот почему вас везде ненавидят. Каждый убежден, что при одном вашем появлении должна умереть любая мысль о свободе».
В России началось быстрое отчуждение карающей власти и общества. Любое неофициальное мнение раздувалось как событие чрезвычайной важности, подрывающее устои империи. Все, что было чуть выше дозволенного, вдруг объявлялось страшным преступлением. Всех, кто возмущался, тут же вели на допрос в Третье отделение, спрашивая их: «Откуда вы заимствовали свободный образ мыслей – от общества, от внушений других, от чтения книг и рукописей, и каких именно?» Цензура сошла с ума. Поэт называл улыбку любимой небесной. Цензор стихи запрещал, потому что женщина недостойна подобного сравнения. Поэт писал, что нежный взгляд возлюбленной ему дороже всей вселенной. Цензор стихи запрещал, потому что во вселенной есть еще цари и законные власти, которыми должно дорожить. Император Николай I собирал совещание высших сановников для обсуждения вопроса: «Должны ли мы считать французскую революцию революцией? Можно ли печатать в России, что Рим был республикой, а в Англии конституционное правление? Может быть лучше писать и думать, что на свете не было и нет ничего подобного?»
По каждому из пяти тысяч ежегодных добровольных доносов заводилось дело и шло расследование. В обществе правление Николая I 1848 года начали называть террористическим. Власти запретили писать и произносить вслух слова «прогресс, вольный дух». Современники писали, что в России варварство торжествовало свою дикую победу над человеческим умом и мысль обрекается на гибель. Люди жили, словно притаившись, понимая, что произвол в апогее. Третье отделение стало составлять списки тех, кто молчали и не выражали верноподданнический восторг по всякому поводу. Современники писали, что терроризация достигла уже и провинции: «Русский подданный смотрел на свою жизнь, как на истертые штаны, о которых не стоит заботиться».
Цензура вычеркивала перед публикацией целые монологи из великолепной комедии Александра Грибоедова. Над тупостью власти смеялась вся грамотная Россия, давно читавшая «Горе от ума» в сорока тысячах копиях-списках. В обществе стали говорить, что «в Петербурге не стало аристократов, только холопы». Идеолог новых русских Николай Чернышевский писал: «Нация рабов, сверху донизу – все рабы! Добро невозможно без оскорбления зла!» За учение философии и контакты с европейскими социалистами за границей столбовой дворянин Михаил Бакунин был вызван в империю на расправу. За отказ вернуться на любимую родину Бакунин заочно был лишен дворянства, чинов, прав состояния и приговорен к вечной сибирской каторге. Он позорил царя на всю Европу: «У нас в России нет ни свободы, ни уважения к человеческому достоинству. У нас царит отвратительный деспотизм, не знающий никаких границ своей разнузданности. У нас нет никаких прав, никакой справедливости, никакой защиты против произвола. У нас нет ничего из того, что составляет достоинство и гордость нации». Один из первых политических эмигрантов Александр Герцен «звал живых» в основанных им газетах «Полярная звезда» и «Колокол» на борьбу с самодержавием: «Я остаюсь в Европе, потому что здесь есть гласность. Так сильно наше дело, что мы, кучка разбросанных повсюду людей со связанными руками, приводим в ужас и отчаяние мириады наших врагов боевым кличем: «Свобода, равенство и братство!» » О ситуации даже высказался мудрый канцлер А. Горчаков: «С большой осторожностью можно предохранить себя от злости людей, но как спастись от их глупости?» Великий поэт Николай Некрасов сквозь издевательства цензуры не сдерживался в выражениях: «Иди в огонь за честь отчизны, за убеждения, за любовь, иди и гибни безупрёчно, умрешь не даром: дело прочно, когда под ним струится кровь». Министр народного просвещения С. Уваров с жаром выполнял приказ императора: «Уровень образования должен соответствовать социальному положению учащихся».


Михаил Бакунин
Моральный крах созданной Николаем I государственной машины произошел во время позорной Крымской войны 1853-1855 годов, в Европе названной Восточной. Экспедиционный корпус войск Англии, Франции и поддержавшей их Сардинии раз за разом бил, бил и бил в Крыму отчаянно и мужественно отбивающиеся русские войска, героически державшие и державшие Севастополь, на века ставший городом русской славы. Вдруг оказалось, что за тридцать лет императорствования Николая I промышленная и техническая отсталость его России стала вопиющей. Общество прекрасно знало и понимало причины поражения империи в Крымской войне – слабость русского парусного военного флота перед паровым европейским, вооружение имперской армии гладкоствольным оружием, пули которого не долетали до войск неприятеля, бившего на безопасном расстоянии русские войска из скорострельных и добротных нарезных штуцеров. Передовые генералы империи давно кричали, что сомкнутым, а не рассыпным строем, батальонами, а не ротами, в конце XIX века воевать нельзя, а убийственные для солдат штыковые атаки с их стрельбой редкими залпами, легко расстреливались противником. Даже придворные дамы говорили о том, что в николаевской армии презирают строить инженерные сооружения, давно спасавшие солдат европейских армий от массовой гибели. Россия всем миром собирала для крымской армии перевязочные материалы, щипала корпию, и отправляла их на полуостров. Общество было окончательно шокировано, когда узнало, что ответственный за раненых генерал украл и продал все бинты и приехал в Петербург с деньгами, не влезавшими в чемоданы и мешки. В 1855 году Россия была почти банкротом. Общество говорило о тотальной неспособности власти править страной, о высших сановниках, почти сплошь представляющих из себя необразованных и непрофессиональных людей, стремящихся только к личному обогащению.
В феврале 1856 года период правления в империи «человека с оловянными глазами», как называли Николая I, ушел в небытие. Этот царь успешно запустил механизм народного движения в империи, быстро становившегося революционным. В обществе появилась страсть к разрушению, к борьбе с существующими порядками. Появились поколения бунтарей, стремительно становившихся революционерами. Их лозунгом стали слова: «Быть свободным и освобождать других – вот обязанность человека!»
Незадолго до смерти Николай I в знак признательности подарил золотые часы с бриллинтами своему художнику Ф. Крюгеру. Передававшие часы придворные, как обычно, выковыряли алмазы и вручили часы художнику без них. Те придворные, которым бриллиантов не хватило, рассказали об очередном европейском позоре царю. Николай I вызвал Крюгера, лично передал ему новые часы и сказал: «Если бы я захотел по закону наказать всех воров империи, Россия превратилась бы в пустынную Сибирь». Николай мог продолжить дело Петра и Екатерины Великих, но не стал этого делать, и не имеет никакого значения, по какой причине это произошло. Царь часто повторял: «Мне не нужны умные, мне нужны верноподданные».
Среди умных подданных появилось много борцов с утвержденным законом рабством. На империю неудержимо накатывались отрицавшие все и вся нигилисты, прекрасно знавшие историю европейского инакомыслия и революционного движения.
Альбигойцы и тайные политические орденаПо всему знаменитому английскому Шервудскому лесу гремела любимая песня народного героя Робин Гуда: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был там дворянин?» С древнейших времен во многих странах существовали тайные политические организации. Возникновение этих обществ всегда вызывалось конкретными причинами. Иногда эти политические ордена называли «выражением совести в истории». Часто они создавались из чувства мщения, но не какой-то личности, а большому учреждению, структуре, из ненависти к несправедливости, злу, рабству. Это объясняло цель существования политических обществ, которые совсем не часто исполняли или добивались того, чего обещали или хотели, например «выход из рабского мрака к свободному свету».
Правители недемократических государств старались подавить или приручить философскую и политическую мысль, поскольку она нарушала их образ жизни. От частых гонений мысль делалась более свободной, а там, где действовала свобода – появлялась демократия. Тайные политические ордена были не только созерцательного, но и активного типа. Некоторые историки называли их «благодетельными клапанами для настоящего и могучими рычагами для будущего, без которых драма истории состояла бы из одного монолога деспотизма». Впрочем, часто ордена заслуживали и не позитивного комментария. Жрецы, маги, брахманы, друиды, ессеи создавали мистические общества. Ариане отрицали церковную иерархию. Манихеи и маздакисты дрались с государством. Монофизиты боролись за свободу против Византийской империи. Монтанисты сражались против несправедливости власти. Хилиасты добивались «тысячелетнего царства блаженства на земле». Большую часть учения павликиан и богомилов восприняли вальденсы, катары и альбигойцы. Идеи «царства мира и свободы на земле» развивали хашимиты. Лолларды и гуситы возглавляли народные восстания против власти. Реформация породила протестантизм, баптистов и пуритан. Деятельность масонов, розенкрейцеров и иллюминатов порождала много вопросов, на которые не было ответов. Учение инакомыслия и революции росло и увеличивалось с каждым европейским веком.
В II веке перс-парфинянин князь Сураик, сын Фатака, имевший почетное имя Мани-Дух или Ум, с разрешения шаха Ирана объявил в Месопотамии и Персии, что создал универсальную религию, освобождающую свет от тьмы. Он разделил своих появившихся многочисленных последователей на избранных и внимающих и вторые должны были содержать первых. Избранные молились и проповедовали манихейство, внимающие им подражали и становились избранными. Учение Мани было направлено против гнета государства и его институтов. Его поддерживало все больше и больше людей во всех слоях общества. Иранский шах попытался захватить Мани, который с трудом бежал из Персии. Тридцать лет Мани и его ученики проповедовали манихейство, предлагавшее светлой душе бороться с демонами греха и порока, в Средней Азии, Индии, Египте, Китае, востоке Римской империи. Его учение пользовалось все большей и большей популярностью и становилось по-настоящему опасным для государей.
Иранский шах пригласил Мани вернуться домой, на родину, и это была ловушка. В 273 году шах принудил его вступить в открытый диспут с великим магом и результат спора шах определил заранее. Несмотря ни на что, Мани не проспорил, и шах приказал решить дело с помощью божьего суда. Само собой, Мани должен был первым наглотаться расправленного свинца, чтобы доказать свою правоту. Мани не стал этого делать и поэтому проиграл диспут. Шах произнес заранее написанный приговор: «Этот человек производит волнения, которые могут привести царство к разрушению. Необходимо разрушить его самого, чтобы предупредить последствия».
Мани просто посадили в тюрьму и не стали убивать сразу, чтобы не вызвать народное восстание. Когда все относительно успокоилось, с него живого содрали кожу. Из нее сделали чучело и повесили его на столичных воротах. Манихейство объявили вреднейшей ересью, но оно просуществовало еще семьсот лет, выступая после казни основателя против социального и имущественного неравенства. Последователь Мани жрец Моздак уже не стал вести религиозно-философские и морально-этические проповеди. В конце V века он атаковал государство.
Маздак объявил, что носители зла на персидской земле – неправедные сановники и вельможи. Крестьянство пошло за своим вождем, которого назвало «апостолом простого народа». Персидский шах поддержал Маздака и назначил его великим магом, но его учения не выполнял. Сановники объединились и свергли шаха, назначив новым персидским правителем его брата. Шах смог бежать за границу, занял там денег, набрал войско и атаковал свою родину, на которой его активно поддержали маздакиты. Шах вернул трон, и Маздак стал захватывать имущество знати и раздавать его народу. От него тут же испуганно отошли многие дворяне, опасавшиеся за свои земли. Окрепший шах помирился с сановниками и решил покончить с Маздаком, тридцать лет таскавшем ему каштаны из огня. Восьмидесятилетний Маздак был приглашен на диспут, который запланировано проиграл, и был объявлен еретиком. Шахские гвардейцы окружили и захватили прикрывавшие народного апостола боевые дружины и тут же всех зарезали во главе с Маздаком. Начавшаяся резня маздакитов не смогла уничтожить его учение, под флагом которого в начале IX века раскатилось громадное восстание Бабека на Кавказе.
В 660 году армянин Константин на основе посланий апостола Павла создал собственное учение, которое стал активно проповедовать. Он укрепился в крепости Кивосса, назвал себя Сильваном и за тридцать лет проповедей собрал вокруг себя множество сторонников. Византийская империя прислала в крепость войска и убила Константина-Сильвана. Его последователи не успокоились и в 695 году были сожжены. Бежать удалось только одному армянину Павлу, по имени которого последователей Константина стали называть павликианами, которые распространились по всей Малой Азии и проповедовали победу небесного бога добра над богом зла, творца видимого мира. Павликиане отвергали все, что можно и нельзя в христианстве, но сами придерживались строгих нравов не очень долго. Вскоре движение павликиан приняло характер народной борьбы против византийской империи. В 835 году в одном из захваченных арабами армянских городов павликиане объявили республику, где все были равны. Они смогли создать собственное государство, побеждая и побеждая посылаемые на них из Византийской империи войска. Павликиан стали воспевать в народных песнях, и Константинополь почти испугался настоящего народного восстания. Империя бросила на республику все силы, убила ее, а оставшиеся в живых павликиане ушли в арабскую Армению, и распространили свое учение в болгарских землях. В Болгарии павликианские идеи развивал священник Иеремия Богомил, в X веке распространивший богомильство и в Сербии, Боснии, Герцеговине, Чехии, Италии и Франции.
Все сочинения богомилов были уничтожены и многое в их учении нельзя определить точно. Они отрицали весь Ветхий и часть Нового Завета, считая, что есть два бога – добрый и злой. У них были две группы адептов – «совершенные» и обычные, рядовые верующие. Совершенные вели суровый образ жизни, давали обеты никогда не лгать и не обманывать, странствовали с проповедями, молились и писали свои сочинения. Среди сотен тысяч богомилов число совершенных никогда не превышало четырех тысяч, проповедовавших от Атлантического океана до Черного моря. Их преследовали и запрещали, объявляли анафемы. Богомилы не признавали злую государственную власть, учили не повиноваться ей, хулили богатых, ненавидели царей и умирали за свои убеждения. Их учение продолжили катары, распространившиеся по всей Южной и Западной Европе.
Катары не принимали иерархию церкви, таинства, службы, культы святых, иконы, кресты, святую воду, индульгенции, церковные налоги и вклады. Катары считали, что существуют бог добрый и бог злой, и делили себя на «совершенных» и верующих.
Совершенные аскеты не клялись и не божились, достигали высшего духовного совершенства, к которому вел тяжелый путь. Странствующие проповедники в черной одежде и с сумкой, в которой лежал перевод библии на народный язык, они шли от города к городу, от селения к селению. Катары вместо крещения водой крестили духом, считали себя новыми апостолами, узнавали друг друга по особым жестам и символическим фразам. Их появление среди людей превращалось в праздник. На трапезе из хлеба, овощей, плодов и рыбы им мог послужить барон, владелец замка и города. Их проповеди слушали с жадностью, их манеры были величественными, их благословения считались милостью неба. «Совершенные» могли молиться везде – в поле, в селении, в замке, в лесу. Катары посылали своих представителей в университеты Европы, богословские школы, чтобы «познакомиться с силами и наукой, враждебные церкви и приобрести против нее оружие». В Южной Франции катары стали известны под именем альбигойцев.
Город Альби входил в состав обширного и богатого Лангедока с главным городом Тулузой и цветущими городами Монпелье, Ним, Каркассон, Безье, Нарбонна. Рим называл эти земли территорией «тулузских еретиков». Движение ктаров-альбигойцев, имевших собственную организацию, поколебало официальную церковь, и папа объявил крестовый поход на города Южной Франции. Двадцать лет продолжались кровавые Альбигойские войны.
Двадцать лет в Лангедоке шла резня. Богатейшие города и селения были уничтожены. В городе могли убить всех жителей поголовно, чтобы случайно не упустить альбигойца. Земля и имущество оставшихся в живых жителей передавались крестоносцам. В войне погибли десятки, а возможно и сотни тысяч людей, многие из которых не были катарами. Альбигойцев массово сжигали на кострах, уцелевшие бежали в другие страны.