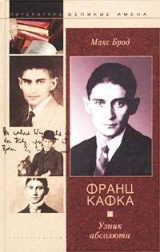
Текст книги "Франц Кафка. Узник абсолюта"
Автор книги: Макс Брод
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Это, казалось бы, должно быть достаточным для тебя – но нет. Ты, как я вижу, решил, что мы должны продолжать жить вместе. Я полагаю, что мы будем бороться друг с другом. Однако есть два вида борьбы. Одна – рыцарская, в которой два независимых противника испытывают свои силы и каждый стоит на своем, неся потери или завоевывая победу. Есть еще борьба хищников, которая не подразумевает битвы, ее цель – высосать кровь из противника. Ты не можешь противостоять жизни, и вместо того, чтобы устроиться в ней комфортно, без тревог и самобичевания, ты доказываешь, что я ограбил тебя – отнял у тебя способность устраиваться в жизни и спрятал ее к себе в карман». (Этот отрывок, кстати, проливает свет на происхождение «рассказа о хищниках» Франца Кафки – «Метаморфозы», —а также короткого рассказа «Приговор»).
Как следует из приведенного абзаца, главной темой всего письма оставался все тот же вопрос – кто виноват, – однако в вышеприведенном отрывке он приобрел несколько другой аспект, который можно сформулировать так: слабость сына против силы отца, который сделал себя сам и который, осознавая свои достижения и силу, сконцентрировал себя на этих достижениях, сделал себя мерилом всего сущего и как наивный человек никогда не мучился сомнениями и руководствовался всегда только своими инстинктами – в той мере, в какой он ими обладал. На самом деле противостояние было не так очевидно в жизни, как в «Письме», в котором все намерения сделать мир справедливым свелись к простому их изложению – как в других работах Кафки. Эта очевидность пронизывает все повествование, особенно отчетливо она звучит в последних строчках, которые имеют наибольшее значение во всей дискуссии: «Разумеется, отрезки жизни складываются не так легко, как абзацы моего письма, ведь жизнь – это нечто большее, чем игра в терпение. Но если мои возражения небезосновательны, если, несмотря на то что я не способен, да и не хочу вдаваться в подробности, в них будет что-то правдивое, я надеюсь, это успокоит немного нас обоих и сделает нашу жизнь и смерть более легкими».
Кроме всего прочего, контраст между родней с материнской стороны и отцовской линией был разительным. Франц Кафка являлся потомком двух разных семей: робких, со странностями Леви (по материнской линии) и реалистичного, прагматичного рода его отца. Он писал об этом: «Какое интересное сочетание! С одной стороны, я – Леви, у меня нет умения жить, присущего роду Кафки, я не умею заниматься коммерцией, побеждать… С другой стороны, я – настоящий Кафка, со своей силой, здоровьем, решимостью, аппетитом, красноречием, самодовольством, чувством уверенности, знанием жизни, некоторой широтой натуры и смелым темпераментом». Сравним это с характеристикой, изложенной в другом отрывке, где Франц говорит о чертах, присущих его родне со стороны матери: «Упорство, чуткость, чувство справедливости, неугомонность». Целая гамма трагических контрастов появляется в конце «Письма», где Кафка рассказывает о своей неудавшейся попытке жениться. Кафка сравнивал себя и отца: отец добивался всего, что хотел, а сын не мог ничего добиться. «Главным препятствием для меня в браке было то, что необходимо быть главой семьи и необходимо всегда быть вместе, и когда хорошо, и когда плохо, как это делаешь ты, с присущими тебе здоровьем, силой, красноречием, выдержкой, уверенностью в себе, склонностью к тирании, знанием жизни и недоверием ко многим. Из всех этих качеств я не унаследовал почти ничего, или очень мало, и как я мог отважиться жениться, когда видел, что даже у тебя была тяжелая борьба в семейной жизни и даже ты потерпел в ней поражение в отношении своих детей. Конечно, я не ставил себе многословных вопросов и не отвечал на них пространно, иначе я встал бы на банальный путь обдумывания данного предмета и открыл бы для себя других людей, отличных от тебя – таких, как дядя Р., который все-таки женился и не согнулся под тяжкой ношей, – и это было бы достаточно для меня. Но я не сегодня поставил для себя этот вопрос – он существовал для меня с самого детства. Конечно, меня волновали не только вопросы брака, мне были интересны любые мельчайшие явления. И ты убедил меня – как своим собственным примером, так и методом моего воспитания, – что в мелочах жизни я ни к чему не способен. Но истина, касающаяся незначительных явлений, была чудовищной правдой и для серьезного вопроса – женитьбы».
Исходя из прочитанного, нельзя более отрицать связи размышлений Кафки с теориями Фрейда, особенно в части «бессознательного».
Хотя я до сих пор колеблюсь и должен все-таки возразить против столь легкого пути нахождения соответствия – и не потому, что Франц Кафка хорошо изучил эти теории и считал их очень грубым и готовым толкованием без проникновения в детали и даже без реального изучения психологического конфликта. Поэтому в следующих строках я постараюсь изложить другой подход к фактам на примере Клейста. Прежде всего, следует отметить, что собственное замечание Кафки о том, что он никогда не пускался в многословные размышления и в то же время не «мыслил примитивно», потому что вопрос был тесно связан с потрясающим осознанием превосходства отца, похоже, подтверждает обычные положения психоанализа. То же самое можно сказать о характеристике, которую он дал отцовскому «методу воспитания» детей, а также о многочисленных дневниковых записях, касающихся «его плохого воспитания», и приведенных в конце дневника письмах о воспитании детей, написанных касательно статьи Свифта («дети должны воспитываться только отдельно от родителей»).
Почти во всем письме Франц говорит о том, как его воспитывал отец. «Я был нервным ребенком, – пишет Кафка, – и часто капризничал, как это бывает с детьми, и моя мать нередко меня баловала, ласково брала на руки, смотрела на меня любящими глазами, но я не верю в то, что я был особенно трудным ребенком и что ласковое слово и добрый взгляд не могли заставить меня слушаться. В душе ты – добрый и мягкий человек (что не противоречит всему сказанному, потому что я говорю о внешнем впечатлении, производимом на ребенка), но ты считаешь, что необходимо вести ребенка по созданному тобой же пути, с жестокостью, шумом и напором, и полагаешь при этом, что это – наиболее правильный путь. Ты хотел сделать меня сильным, храбрым мальчиком».
В «Письме» раскрывается, что незначительные наказания, перенесенные им в раннем детстве, больше отложились в его сознании, чем материальное благополучие. Франц говорит, что он был «просто ничто» для отца. Постоянная критика отца для блага ребенка – по поводу друзей, с которыми он пошел, по поводу его жизни и поведения в целом – стала в конце концов невыносимой ношей и привела к тому, что ребенок стал его сторониться. Сам отец не следовал своим строгим правилам, и это нарушение логики было впоследствии воспринято сыном как показатель необыкновенной мощной жажды к жизни и несокрушимой воли. «Ты всегда был уверен в своей силе и считал свое мнение единственно правильным… Ты правил миром со своего кресла. Только ты всегда был прав, если другие не соглашались с тобой, то они были для тебя помешанными, сумасшедшими, ненормальными. В то же время твоя уверенность была настолько сильна, что для тебя не было никакой нужды ни на чем настаивать, и ты всегда был прав. Часто бывало так, что ты вообще не имел никакого мнения о предмете разговора, но и тогда ты отметал любое другое мнение. Ты, например, мог сначала ругать чехов, потом немцев, а потом евреев – и не по какому-то конкретному поводу, а просто так, вообще, и в конце не оставлял никого, кроме самого себя. И в результате ты делал запутанный вывод о том, что власть всех тиранов базируется не на логических принципах, а на их собственных персонах».
Следует обратить внимание на то, какой великий интерес представляла суть власти для Кафки, как волновала его проблема человеческого достоинства, иными словами, – демократии. Эти темы звучали в романах «Процесс», «Замок», в рассказах и набросках, например во фрагментах из «Великой Китайской стены». Каждый, наверное, по собственным ощущениям знает, какое очарование могут вызвать уверенные в себе, абсурдные персонажи, которых не волнуют никакие принципы и не раздирают никакие внутренние противоречия до тех пор, пока: а) кто-нибудь не увидит насквозь эти противоречия; б) кто-нибудь не почувствует желание найти такого же человека – например, влюбленная женщина – и таким образом вместе подпасть под влияние всевозможных обстоятельств. Часто с некоторым высокомерием задают вопрос: «А почему Кафка так нуждался в своем отце?» – или, лучше сказать: «Почему он не смог порвать с ним, несмотря на свое критическое отношение, или хотя бы дистанцироваться от него, как делают многие другие дети, стараясь найти убежище от своих родителей? Но с тех пор, как он попытался создать эту дистанцию между собой и своим отцом и в последующие годы почти с ним не общался, почему он так страдал из-за этого отдаления и холодности? Может быть, оттого, что не смог признаться самому себе, что между такими разными характерами все-таки существовала интимная связь?» Действительно, Франц хорошо знал своего отца – он не только отмечал его неприглядные черты, но и восхищался его достоинствами. Но у отца была особая природа характера, и не его в том вина, а вина этой самой «природы», отмечает Кафка в своем «Письме», что всякие попытки понять своеобразный характер его сына становятся бесполезными. В бесконечных разговорах я пытался убедить своего друга, о чьей глубокой ране я знал и до чтения его дневника, что он слишком превозносит своего отца и что нельзя так глупо принижать самого себя. Все это было бесполезно, но поток его аргументов (когда он не хотел, а это было довольно часто, сохранять спокойствие) не мог ни на минуту поколебать моего мнения.
И по сей день я полагаю, что фундаментальный вопрос: «какое влияние оказал на Кафку его отец?» – поставлен будто не самим Кафкой, а неким сторонним наблюдателем. Кафка нуждался в том, чтобы этот вопрос возник раз и навсегда как естественный и неоспоримый и довлел бы над ним всю жизнь как «груз страха, слабости и самоунижения». В «Письме» Кафка придает вердикту отца безграничную власть над своей жизнью и смертью (см. рассказ «Вердикт»). В нем говорится: «Мужество, решительность, уверенность, доброжелательность не могли быть выражены до конца, если ты им противостоял или даже только предполагал противостоять – что чаще всего я и делал… В твоем присутствии (ты – превосходный оратор) я начинал заикаться. Потому что это был ты – тот, кто вырастил меня, и ни о чем не мог говорить». Здесь можно провести одну примечательную параллель: кажется, Клейст тоже заикался при виде его отца и тоже страдал от этого. В отношении кого-либо другого, когда он был расположен говорить, он нарушал свое обычное молчание и говорил совершенно свободно, легко, элегантно, изумительно естественно и без всякого заикания.
Результатом отцовского воспитания было бесконечное страдание Франца, о чем он откровенно пишет в «Письме» (здесь Кафка приводит свой собственный комментарий к финалу романа «Процесс»): «В твоем присутствии я теряю уверенность в себе и испытываю безграничное чувство вины. Вспомнив об этом чувстве, я однажды написал с полной искренностью: «Он боится позора, который будет жить даже после него». Кафка делает ряд усилий, чтобы избавиться от влияния отца и найти место, где бы он был недосягаем. Когда Кафка оценивал чью-нибудь литературную работу, он судил очень строго и называл ее не иначе как «сооружение на идеальном фундаменте конструкции», которая, не имея ничего общего с живой жизнью, буйно разрастается в разных направлениях, крепко цепляясь за непомерно грубые и абстрактные комбинации. Однако сам Кафка зачастую впадал в подобное «конструирование» и подгонку деталей, что, с одной стороны, выходило естественно и неподдельно, а с другой стороны, было полуправдой или чрезмерным преувеличением. Вот почему Кафка хотел сконцентрироваться на литературной работе как на попытке «уйти от собственного отца», будто радость творчества и наслаждение искусством возникли не в результате их совместных усилий, а только лишь по его собственной воле. Для тех, кто знал его близко, он был совсем другим, нежели для тех, кто видел в нем лишь человека, носящего на себе печать отцовского влияния. Для близких он был человеком пылающим, жаждущим и умеющим мыслить, стремящимся к знаниям, интересующимся окружающей жизнью и любящим человечество. Частично Кафка сам обрисовал эту ситуацию в «Письме отцу»: «Мои записи были посвящены тебе, и в них я излил стенания, которые я не смог выплакать на твоей груди. Они были последовательно извлечены из моей памяти и сохранены, и хотя они были навязаны тобой, искусство их изложения принадлежит мне».
В «Письме» Кафка изложил свои взгляды на другие стороны жизни: на семью, на дружбу, на иудаизм, на профессию, наконец, на его две попытки жениться. «Мое мнение о себе зависело в первую очередь от тебя, а не от других обстоятельств, например от жизненных успехов… Я жил отверженным, и хотя я боролся за другую жизнь, мои усилия оказывались тщетными, поскольку я пытался сделать невозможное» .
После общего анализа своего детства Кафка переходит к унижающей самохарактеристике, написанной в весьма пессимистическом духе. Он говорит о том, что почти ничему не учился в средней школе, с чем я не вполне могу согласиться, в частности, касательно его познаний в греческом, поскольку мы вместе читали Платона в университете, и затем продолжает: «Сколько я себя помню, для меня была так важна проблема защиты моей души, что остальное было мне безразлично. Еврейские школьники в нашей стране часто отличаются странностями, у них можно найти очень своеобразные черты характера, но моя скрытность, флегматичность и детская беспомощность, иногда доходившая до смешного, были просто фантастическими. Моя замкнутость была моей единственной защитой от навязчивого ощущения страха и от чувства вины».
«Попытки скрыться» занимают особое место, хотя в целом и связаны с «Письмом отцу». Обращение к иудаизму как средству уйти от отца имело жизненно важное значение для его юности и особую важность – в последующий переходный период. Осознание иудаизма сказалось и на дальнейшем религиозном развитии писателя. «Я понял, что недалеко удастся мне убежать от тебя с помощью иудейской веры. Сам по себе этот побег возможен, но не более того, однако, может быть, мы найдем друг друга в иудейской вере или, по крайней мере, обнаружим исходную точку, из которой мы вместе отправимся по одному пути. Но что за иудаизм ты исповедовал! В течение многих лет мое отношение к нему менялось несколько раз. Когда я был ребенком, я соглашался с тобой и упрекал себя за то, что недостаточно часто ходил в синагогу, не соблюдал постов и т. д. Меня переполняло чувство вины.
Позже, когда я стал молодым человеком, я не мог понять, как ты, обладая лишь поверхностными знаниями в иудаизме, мог упрекать меня в безбожии и при этом даже не претворял в жизнь свои скромные познания. Для тебя религия была чем-то вроде шутки. Ты ходил в синагогу четыре дня в году, и, когда ты там находился, у тебя был безразличный вид. Ты был скорее индифферентен, чем серьезен, относился к чтению молитв как к формальности, иногда изумляя меня тем, что показывал в молитвеннике место, которое было только что пропето, однако оставаясь при мнении, что это всего лишь синагога, и поэтому разрешал мне крутиться и вертеться сколько я захочу. Я обычно зевал и томился много часов подряд (позже я так же скучал в танцевальных классах) и старался отвлечь себя хоть какими-нибудь занятиями – например, открыть раку со святыми мощами, что всегда напоминало мне тир на рынке, там тоже была коробочка, которую необходимо было открыть, но для этого надо было попасть в глаз быку. Трудно было ожидать, конечно, что из коробочки появится что-то интересное, потому что каждый раз оттуда выскакивали две старые безголовые куклы. Кроме всего прочего, я очень боялся посещать синагогу не только потому, как ты догадался, что меня окружало множество народу, но и потому, что ты как-то вскользь заметил, что меня могут вызвать читать Тору. Но, несмотря на все это, мало что могло развеять мою скуку, разве что обряд Бар Мицва, в котором требовалось глупое заучивание, и это казалось мне неким смешным экзаменом. Когда же тебя вызывали читать Тору, что я считал чисто общественным делом, то ты выполнял его подобающим образом; когда ты присутствовал на поминальной службе, меня отсылали прочь, и долгое время, очевидно, по этой причине, а в целом из-за полного отсутствия у меня интереса к этому обряду, у окружающих бытовало мнение, о котором я с трудом догадывался, что во всем этом было что-то неприличное. Это все, что касается синагоги. Дома твоя религиозность выглядела более жалким образом и ограничивалась ночным празднованием Пасхи, которое всегда заканчивалось веселой комедией, устраиваемой старшими детьми. (А почему ты это допускал? Да потому, что сам разыгрывал эту комедию.) Вся эта грязь, которая налипала на меня, разрушала мою веру. И самое лучшее, что мне оставалось делать, – это избавляться от нее как можно скорее, что и было бы самым богоугодным делом.
Но гораздо позже я стал по-другому смотреть на вещи и понял, как предательски я вел себя по отношению к тебе. Иудаистская вера была обретена тобой в маленьком приходе похожего на гетто поселка, она была частично разрушена городской жизнью и службой в армии, но в то же время в твоей душе остались воспоминания и впечатления юности, и вера твоя приобрела особый оттенок. Ты все-таки не особо нуждался в иудаизме, потому что имел в своей душе непоколебимый стержень, и вряд ли тебя могли тревожить религиозные сомнения, если только они не соприкасались с социальными проблемами. Главная вера, которая вела тебя по жизни, была вера в абсолютную правоту еврейских бизнесменов, а так как вера эта была частью твоего происхождения, то она была и верой в самого себя. В этой вере вполне хватало иудаизма, но что касается твоих детей, им этого было недостаточно, и вера уходила капля за каплей сквозь твои пальцы. Частично это происходило из-за недостатка нашего общения в детстве, частично – из-за твоей внушающей страх персоны. Ребенка невозможно было заставить мыслить сверхкритически и поверить в то, что те незначительные детали, в которых заключался твой иудаизм, вкупе с твоей индифферентностью, могли иметь высшее значение. У тебя было свое мнение, сформированное как воспоминания старины, и ты хотел навязать это мнение мне, но так как оно не имело для тебя глубинного значения, то делал ты это через силу, и, с одной стороны, не мог добиться успеха, а с другой – не мог потерпеть поражения; и так как ты не осознавал слабости своей позиции, то свирепел от моей, как ты думал, непримиримости.
Как бы то ни было, твоя коммерция – это не обособленное явление: в переходный период многие поколения евреев покинули села, которые до сих пор остаются религиозными, и переехали в города; и многие семьи, так же как и наша семья, испытали горечь и боль. И ты, как и я, должен верить в свою чистоту в этом вопросе, но ты можешь объяснить эту невинность своим особым характером и нравами времен, а не просто внешними обстоятельствами, и сказать, к примеру, что ты был слишком загружен работой, чтобы чем-либо еще забивать свою голову. Таким образом ты можешь всегда использовать свою несомненную чистоту против других людей. Но этот аргумент в данном случае, как и во многих других, очень легко может быть опровергнут. Речь идет о том, чтобы давать своим детям не какие-то теоретические уроки, а учить их на примере собственной жизни. Если бы вера твоя была более строгой, твой пример, очевидно, был бы более убедительным, и это – совсем не упрек, а лишь способ избежать твоих упреков. Недавно ты прочитал воспоминания Франклина о его молодости. Я дал тебе их не для того, чтобы ты, как ты иронически заметил, ознакомился с отрывком, в котором говорится о вегетарианстве, а из-за того, что там говорится об отношениях между автором и его отцом и между автором и его сыном.
Я вновь убедился в твоих особых взглядах на иудаизм за последние несколько лет, когда тебе казалось, будто я проявил особый интерес к еврейскому вопросу. А так как у тебя вошло в привычку осуждать все мои занятия, а особенно мою любознательность ко всему на свете, ты невзлюбил и этот мой интерес. Однако можно было ожидать, что в данном случае ты сделаешь хоть маленькое исключение – ведь я заинтересовался твоей точкой зрения на иудаизм, и это могло бы привести нас к какой-то точке соприкосновения. Я не отрицаю, что если бы ты проявил интерес к моим взглядам, то это вызвало бы у меня подозрения. Я ни в коей мере не берусь утверждать, что я в этом отношении лучше тебя. Но на деле это никогда не будет доказано. И так как мой активный интерес к иудаизму вызывал у тебя возмущение, а иудейская литература казалась тебе нечитабельной и «отвратительной» – ты настаивал на том, что тот иудаизм, которому ты учил меня в детстве, – единственно правильная форма религии, и больше ничего не надо знать. Но мне это трудно было представить. Твое «отвращение» – кроме того, что оно относилось не к самому иудаизму, а ко мне лично, – означало только то, что ты, сам того не замечая, осознавал слабость своей веры и моего еврейского воспитания, а потому с раздражением реагировал на любые напоминания об этом. В любом случае твое негативное восприятие моего интереса к иудаизму было чрезмерным: во-первых, оно приносило тебе мучения, а во-вторых, имело фатальные последствия для моих отношений с друзьями».
Что касается матери, то в суматошном детстве она была символом благоразумия. Она не выступала в защиту сына, когда он жаловался ей, но все понимала, – и ее «несопротивление» было вызвано не только любовью к своему мужу, но и простым желанием уступить человеку, которому никто не мог перечить. Но мысль о том, что родители объединились против него, что мать лишь тайком может выражать свою любовь к нему, нашла глубокое отражение в творчестве Кафки. Вы можете найти ее в любых работах – прочитайте, например, рассказ «Супружеская пара». Если вы посмотрите на него под этим углом зрения, то увидите, что это произведение – одно из самых вдохновенных и личных. Каждое слово в нем, правильно понятое, наполнено смыслом, начиная от сетований по поводу бизнеса в начале и кончая словами жены мистера Н., адресованными визитеру или даже, скорее, незваному гостю: «Что бы вы ни говорили, мать может сделать чудеса. Она может сложить вместе то, что мы все разбили. Но я потеряла ее, когда была ребенком». И финальное замечание: «О, как много деловых начинаний оканчивается ничем, а мы продолжаем нести тяжелую ношу».
Странно не то, что Кафка очень рано понял, что ему чужд характер отца, и в то же время восхищался его жизнелюбием и силой. Странно то, что, ставши взрослым, Франц все искал у отца положительные черты. «У тебя особенно красивая и добрая улыбка, какую редко можно встретить», – говорит Кафка в «Письме». Он описывает моменты, когда его охватывало теплое чувство к отцу: «Это случалось нечасто, но это было чудесно. Например, когда я видел тебя жарким летом после обеда усталым, вздремнувшим у конторки; или когда ты приезжал в воскресенье, будучи изнуренным работой, к нам в деревню подышать свежим воздухом; или когда ты во время опасной болезни матери, рыдая, стоял, держась за книжный шкаф; или когда ты во время моей последней болезни осторожно зашел ко мне в комнату, встал в дверях и лишь помахал мне рукой, чтобы ободрить меня. В таких случаях я, ложась в постель, плакал от радости, и теперь я плачу, когда пишу об этом…» Он посвятил одну из своих книг, «Сельский врач», своему отцу. Франц часто рассказывал, что отец ответил ему, когда тот вручал ему книгу. Отец только произнес: «Положи ее на столик возле моей кровати».
Франц с большой грустью пишет в своем дневнике о вечере, устроенном в городском зале для бедного польского еврейского актера, на котором он произнес вступительную речь, и она вызвала большой интерес. Он пишет: «Моих родителей на вечере не было».
Образ жизни родителей Кафки был очень похож на образ жизни родителей Марселя Пруста. Как писал Леон Ньер-Кен в работе «Marsel Proust, savre, son ocuvre» [2]2
«Марсель Пруст, его жизнь и творчество» (фр.).
[Закрыть]: «Son pere, partit tot le matin, ne voyait presque son fies». С другой стороны, его мать: «une femme douce… elle vullait avec soin lui, lui pardonnait d’avana sec fantasies, les habitudes de nenchalahce auxquelles il s’abandohnait!» [3]3
«Его отец уходил по утрам, почти не видя сына. Мать… мягкая женщина… она заботилась о нем и прощала ему его фантазии, привычки, шалости!» (фр.)
[Закрыть]Таким образом, у Кафки с Прустом было общее в судьбе. Есть общее и в их творчестве. Им обоим присущи необычайные подробности в описаниях, любовь к деталям, странность, которую я мог был назвать «лихорадкой копирования», некоторая общность в национальностях (мать Пруста была еврейкой) – все это может привести к проведению многочисленных параллелей, хотя, конечно, космополитическое окружение Пруста и буржуазная Прага, в которой жил Кафка, по-разному сказались на их развитии.
В случаях с Прустом, Клейстом и Кафкой, которых никогда не покидали детские впечатления, как считают психоаналитики, существует подсознательный эротический комплекс по отношению к матери и подсознательная ненависть к отцу. Но для детского комплекса есть объяснение, состоящее в том, что родители являются первой проблемой для ребенка, он оказывает им первое сопротивление, его аргументы являются моделью для будущей борьбы в жизни. Человек начинает единоборство с жизнью и миром. Первый раунд: его родители. Затем жизнь посылает ему других оппонентов: школьных товарищей, учителей, знакомых, публику, непостижимый мир женщин. Враги способствуют развитию готовности к бою, активности и ставят человека перед испытанием. Способ, с помощью которого человек побеждает в своем первом раунде, является показателем того, каким будет его будущее. Для исследователя начало рассматривается как реальный набросок или подобие будущих фаз его жизни. В то время как психоаналитики предполагают, что человек строит свою жизнь под влиянием своего отца, безвольно повинуясь божескому промыслу, другая точка зрения (впервые изложенная Гансом Политцером) не исключает того, что существуют особо чувствительные люди, каким был Кафка, чья «идея отца» обогащается и развивается, а их мировоззрение наполняется осознанием Бога (или, как я уже пытался показать, ощущением мира, в борьбе с которым такие люди становятся взрослее).
«О, знал я путь, как вернуться в милую страну детства», – пишет Клаус Грот в поэме, положенной на музыку Брамса. Это страстное желание, возникшее лишь как эпизод в жизни взрослого человека, – возможно, в результате усталости в конце тяжелого дня, – ставит вопрос: может ли уставший человек проявить свой характер более искренне, чем амбициозные люди или люди, изнуренные необходимостью зарабатывать себе на жизнь? Этот эпизод «вернуться в страну детства» свидетельствует об инфантильном комплексе, о решающей для судьбы человека роли событий его юных дней, последствия которых могут оказывать влияние на всю его последующую жизнь.
Дети доверяют своим родителям и хотят, чтобы родители также им доверяли. Здесь и возникает один из первых больших конфликтов в человеческой душе. Вместо взаимного доверия мир предлагает нечто совершенно другое – борьбу, войну. Примером того, как глубоко может подействовать на ребенка конфликт с родителями, может послужить жизнь поэта Клейста. Клейст всегда переживал: «Что скажут члены семьи о выборе моего жизненного пути? Доверяют ли мне они?» Конечно, было большое разногласие между старинным прусским родом семьи Клейста, представители которого снискали себе славу на полях битвы или в правительственных ложах, и утонченным, эмоциональным, неуравновешенным поэтом, руководствовавшимся высшими этическими принципами. Среди своей родни он считался «белой вороной». Он знал, что в глазах своей семьи его стихи и драмы выглядели не более чем прихотями бездельника. Кафка читал письма Клейста с особым интересом и делал пометки в тех местах, где Клейст рассуждал, что поэт – «совершенно бесполезный член человеческого общества, не стоящий внимания», и как-то со скрытой иронией заметил, что на столетие со дня смерти Клейста его потомки возложили на его могилу венок с надписью «Лучшему представителю рода».
Человек рассудка может лишь снисходительно пожать плечами, когда человек чувства ищет духовного самоутверждения, живет напряженной внутренней жизнью, желает признания и веры от своих близких и приходит в отчаяние, видя, что его не понимают в его собственной семье. Человек рассудка, как известно, скоро приходит к выводу: «О, мои близкие неисправимы, их не переделаешь. Но мир велик. Есть другие судьи. Я докажу им, что я дорогого стою и что то, что обо мне думают мои родные, вовсе не правда». Здесь мы можем снова увидеть трагикомическую сторону жизни. Человек рассудка, желающий завоевать авторитет во внешнем мире, ничего не выигрывает перед человеком чувства. Конфликт состоит в том, что «большой мир» становится скоро «маленьким» и чинит человеку препятствия, а когда тот умоляет о доверии, отказывает ему в нем. Друзья, коллеги или же просто соседи судят человека только по одному критерию – они всегда спрашивают, что он сделал, – но никогда не судят о нем по его внутреннему содержанию. Но не хочется, чтобы тебя оценивали, хочется, чтобы тебе доверяли. Душа может расцвести только тогда, когда человек чувствует, что ему верят.
Этот вопрос веры был основой размышлений философа Феликса Вельтша, считавшего «решение, основанное на вере» фундаментом всей этики. Никто не может доказать, что в мире есть некий смысл или что его сотворение является результатом работы доброго и злого разума. Можно принимать или отвергать такую точку зрения, но доказать это невозможно. Можно утверждать, что добродетель самого человека может быть принята или отвергнута без всяких доказательств. Здесь невозможно идти по пути доказательств: о многих людях зачастую возникают взаимоисключающие суждения, и часто самое полезное исходит от людей с нечистой душой. Таким образом, первый конфликт, когда усилия заставить поверить в себя своих близких остаются напрасными, влечет за собой последующие конфликты, возникающие на протяжении всей жизни. Пожатие плечами по поводу инфантильности тех, кто вовлечен в первый конфликт, не так уж оправдано, как это кажется на первый взгляд. Эти «непрактичные» люди, может быть, укорачивают длинную цепь сомнений и разочарований, которые ни к чему не приводят; они не только более чувствительны, но и ближе к глубокому пониманию вещей. В случае «инфантильного» поэта Клейста его инфантильность не была слабостью. Это было лишь более серьезное понимание фатальной основы существования, где один настроен против другого, никто не доверяет другому, но внутренне полагает, что другие верят ему. Сколько волнующих ситуаций описал Клейст, когда персонаж, попавший в позорную ситуацию, когда все обстоятельства против него, с чистой совестью требует, чтобы его не судили строго. Я даже чувствовал, что все произведения Клейста сосредоточены именно на одном вопросе. Идеально демонстрирующим его концепцию персонажем является Катхен фон Гейльбрун. В то время как Катхен верит своему рыцарю, Пантесилея хочет, чтобы Ахилл почувствовал ее любовь, хотя все ее осуждали. «Только ты не переставай мне верить», – были ее последние слова. Алкмена стоит на коленях перед мужем, который пинает ее, Ева в «Разбитом кувшине» стоит перед своим женихом, весьма жестоким князем Гамбургским, – они невиновны, и уже не в силах ничего сделать, чтобы их возлюбленные поняли их необычайную любовь. Для Клейста такие ситуации имели огромное значение. Он, с точки зрения окружающих, был столь безнравственен, что писал стихи вместо юридических документов, но, несмотря на его «ничтожество» и «легкомыслие», его близкие все-таки осознавали, что он – честный человек. Один из самых волнующих сюжетов у Клейста был, например, такой: маркиза фон О. забеременела. Она не знала, как это произошло, медицинские показания дали положительный результат, но она была невинна. Клейст очень изобретательно подбирает обвинения против своей героини, словно палач-инквизитор, обкладывающий хворостом столб, к которому привязан мученик. Потом словно расходятся тучи, и открывается невинность, сверкающая белизной, подобно искрящемуся на солнце снегу. Отсюда и невероятный пафос в сцене, где отец маркизы фон О. понял чистоту души дочери и умоляет ее простить его. Какая смелость руководила пером автора! Он задолго до Фрейда написал слова, которые невозможно читать без потрясения, настолько автор проникает в суть человеческой натуры.








