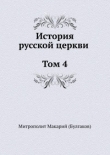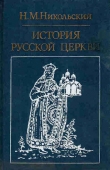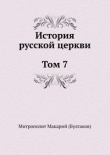Текст книги "История русской церкви (Введение)"
Автор книги: Макарий Митрополит (Булгаков)
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 4
Церковь Христова в Закавказье.
В нынешнем нашем Закавказье, между Кавказом и Араксом, Черным и Каспийским морями, в древности находилось два царства: царство Грузинское, состоявшее собственно из Грузии, или Иверии, Колхиды, называвшейся иначе Лазиею, и Абхазии (хотя сии последние области нередко отделялись от первой и пользовались независимостию), и царство Армянское или, точнее, восточная половина этого царства, заключавшая в себе почти всю Великую Армению и Албанию (нынешний Дагестан), которые также нередко разделялись [*241]. С водворением в этих местах христианства явились здесь и две особые Церкви Грузинская и Армянская, которые потому прилично нам и рассмотреть отдельно со всеми их отраслями, по временам усвоявшими себе самостоятельность. Но прежде нежели приступим к сему, мы должны сказать несколько слов о проповеди святых апостолов в странах закавказских, ибо, кроме святого Андрея Первозванного, общего, так сказать, апостола для всей земли Русской, Закавказский край наш удостоился слышать благовестие Христово и от других апостолов.
I. Апостольская проповедь в Закавказье.По древним преданиям, сохраненным церковными писателями, Закавказье посетили с проповедию пять святых апостолов: четыре из числа дванадесяти святой Андрей, святой Матфей, святой Варфоломей, святой Иуда Фаддей, называемый Левием, и один от семидесяти – святой Фаддей.
Первый, как и было нами замечено, обходя приморские области вокруг Черного моря, когда достиг Закавказья, проповедал здесь собственно в странах прибрежных, лежавших на пути его, Колхиде и Абхазии; в последней он подвизался очень долго, особенно в знаменитом ее городе Севастополисе (нынешней Искурии). Отселе чрез горы Кавказа, в которых похоронил святого спутника своего Симона Кананита [*242], святой благовестник перешел уже прямо к зихам, жившим у Азовского моря. Грузии же, или Иверии, он коснулся только в западной ее части, что подтверждают и местные летописи [*243], а в Великой Армении и Албании не был вовсе.
Святой Матфий проповедовал также в Колхиде. Это довольно видно из свидетельств Дорофея, епископа Тирского (507-522), и Никиты Пафлагонянина (ок. 873), которые говорят, что Матфий, причисленный к дванадесяти апостолам вместо Иуды, благовествовал, скончался и погребен в первой Эфиопии [*244]; а под Эфиопиею древние разумели иногда и Колхиду [*245]. Но гораздо определеннее видно из свидетельств Софрония (ок. 390) и Экумения (X в.): у них читаем, что святой Матфий проповедал и погребен в той именно Эфиопии, где находились реки Апсар и Гисс [*246], а обе эти реки находятся в Колхиде.
Апостол Варфоломей после путешествия своего у индийцев, которым оставил Евангелие от Матфея на еврейском языке, благовествовал в Великой Армении и здесь, в городе Албане (Албанополисе), от которого вся область называлась Албаниею, потерпел мученическую смерть – так гласят все краткие сказания о нем III, IV и последующих веков [*247]. Из более же обстоятельных преданий о сем апостоле узнаем, что его проповедь, сопровождавшаяся многочисленными чудесами, имела в Великой Армении большой успех. Святой благовестник привлек ко Христу самого царя Армении Полимия со всем его домом, многих бояр и бесчисленное множество народа, пока, по повелению брата царева Астиага, подущенного жрецами идольскими, не был стремглав распят на кресте [*248].
Оба апостола Фаддея проповедовали также в Армении. Сперва прибыл сюда Фаддей от семидесяти к эдесскому владельцу Авгарю, управлявшему Армениею. Этот владелец еще во дни земной жизни Спасителя, услышавши о совершаемых Им чудесных исцелениях всякого рода болезней, отправлял к Нему послов просить себе уврачевания от неисцелимой проказы и удостоился получить от Господа, вместе с нерукотворенным Его образом, обетование, что вскоре к нему прислан будет один из апостолов, который дарует ему совершенное здравие не только телесное, но и духовное. Вот вследствие сего-то обетования и приходил в Армению святой Фаддей, который, действительно, исцеливши Авгаря, крестил его со всем его домом, а вслед за тем, многими другими чудесами обратив ко Христу всех жителей Эдессы и утвердив между ними благочестие, отошел в Месопотамию, Сирию и Киликию, где и почил о Господе [*249]. Явно, что этот апостол, которого армяне единодушно называют своим первым апостолом, не проникал собственно в Армению и особенно в ту часть ее, которая находится ныне в пределах нашего отечества, ибо город Эдесса лежал не в самой Армении, а в верхней Сирии, или Месопотамии, принадлежавшей только тогда к Армении. Разве принять за достоверное известие армянских летописцев, которые уверяют, что Фаддей от семидесяти проповедовал целые 18 лет (с 32 г. по 49-й) в самой Армении, Великой и Малой, что здесь он и скончался, здесь и погребен в области Шаваршан, в деревне Артаз и что на могиле его здесь устроен даже монастырь. Спустя несколько времени, при третьем армянском царе Санатруке, племяннике Авгаревом, после многотрудных своих путешествий во Иудее, Галилее, Самарии, Идумее, Аравии, Сирии и Месопотамии достиг наконец в Армению со своею проповедию и другой апостол Фаддей, известный под именем Иуды Левия. Он был уже не в одной только Эдессе, но проходил в самую глубь Армении и в стране Араратской, просветивши многих святою верою в продолжение трех лет с 66 по 69 г., подобно апостолу Варфоломею, подвизавшемуся здесь около сего же времени, скончался мученически на древе крестном [*250]. Этот Фаддей действительно есть апостол самой Армении, и даже той, которая лежит в наших пределах [*251].
Впрочем, хотя Закавказский край наш посетили несколько святых апостолов и почти все они имели немаловажные успехи, однако ж нельзя сказать, чтобы христианство утвердилось в этом крае еще с того времени и было принято беспрекословно. Нет, и здесь, как в других странах мира, оно встретило себе вначале множество препятствий: со стороны всех жителей-язычников, слепо преданных вере отцов, со стороны жрецов языческих, которым угрожало многими лишениями, со стороны царей и правителей, издавна привыкших показывать себя покровителями и защитниками религии народной. И здесь долго терпело оно, особенно в Армении, ожесточенные гонения, и если не совершенно было искоренено в некоторых местах, зато оставалось в самом жалком виде [*252]. Не прежде как с начала четвертого века настал здесь для христианства новый, лучший период, когда святая вера, будучи принята и покровительствуема самими владыками Армении и Иверии, соделалась более или менее господствующею между всеми подвластными им народами.
II. Церковь Христова в Великой Армении и Албании.Прежде всего совершилась сия важнейшая для того края перемена в царстве Армянском. Главными действователями при этом, по воле Промысла, были царь армянский Тиридат, которого признательные соотечественники почтили именем Великого, и святой Григорий, бывший потом первым архипастырем Армянской Церкви, известный под именем Просветителя своего отечества. Сначала, по восшествии своем на престол (в 286 г.) Тиридат явился было самым жестоким гонителем христиан [*254] и преимущественно излил свою ярость на будущего сподвижника своего в великом деле святого Григория, который потерпел от него до четырнадцати разных мучений. Но изумительная твердость сего великомученика, потом чудесное исцеление им самого гонителя и многие другие чудеса победили, наконец, сердце упорного царя-язычника. В 301 г. Тиридат со всем домом своим принял крещение от святого Григория, которого сам же отправил вскоре с просьбою к Кесарийскому архиепископу Леонтию для рукоположения во епископа. Едва крестился царь, как последовало крещение и его царства. Сердце сего венценосца до того подвиглось ревностию к принятой им вере, что он обнародовал указ, повелевавший всем принимать христианство, и покорные подданные тысячами спешили на берега Евфрата, где святой Григорий со множеством приведенных им из Кесарии пресвитеров в продолжение семи дней просветил проповедию и крещением до четырех миллионов язычников [*255]. Немедленно древние истуканы были повсюду ниспровержены и на местах их воздвигнуты храмы Богу истинному. Мудрый царь вызвал из Греции многих ученых мужей, завел училища и для содержания их, равно как и для содержания духовенства, не щадил никаких издержек [*256]. А благочестивый и ревностнейший первосвятитель путешествовал из страны в страну со словом Евангелия, возвестил его не только в Албании и других самых крайних пределах отечества, но и соседственным народам – персам, ассириянам, мидийцам [*257] – и в продолжение тридцатилетнего управления устроенною им Церковию поставил в ней около четырехсот епископов [*258]. В то же время усердием царя и других верующих основано в Армении несколько монастырей, из коих знаменитейший, доныне существующий, воздвигнут самим святым Григорием Просветителем в тогдашней столице Великой Армении Вагаршапате под именем Эчмиадзинского. Здесь-то, в двадцати верстах к западу от Эривани и, следовательно, на нынешней земле Русской, утверждена была тогда же первосвященническая кафедра Армянских патриархов [*259].
После такого прекрасного начала, какой бы счастливой будущности нельзя было ожидать для Церкви Армянской! Между тем, вышло совсем иначе. Со смертию святого Григория (330), в память которого она доселе называется григорианскою, и особенно по кончине Тиридата (ок. 340) начался для этой Церкви, вместе со страною, непрерывный ряд бедствий. Еще около полустолетия (до 387 г.) Армения сохраняла свою самостоятельность и управлялась своими государями. Но и в это время чего уже не потерпела она от соискателей престола и междоусобий, последовавших вдруг по смерти Тиридата, еще более от некоторых царей своих, тиранов, какими явили себя Аршак III (с 363 г.) и Пап (с 381), не щадившие никого и ничего для удовлетворения своим страстям, а всего более от соседей своих, греков и персов, посреди которых, как посреди двух огней, она находилась! Каждый раз как только цари Армении преклонялись для выгод своих на сторону какого-либо одного из этих народов, враждовавших между собою, войска другого немедленно спешили опустошать ее области; при каждом столкновении самих греков и персов она становилась жалким поприщем их кровавых действий. Но греки, как христиане, в подобных случаях, по крайней мере, щадили веру несчастного народа. Совсем не так поступали персы: главною их мыслию всегда было одно – возвратить армян к их древнему огнепоклонству и принудить к принятию религии Ормузда. Эдикт персидского царя Сапора II (в 340 г.), послуживший началом страшного двадцатилетнего гонения на христиан за исповедание Евангелия, не раз проникал со всею своею силою и в Армению. Тогда книги христианские были сожигаемы в ней; в ее училищах запрещалось преподавание наук на языке греческом и армянском; персидские маги странствовали по всем ее областям с проповедию иной веры, отвлекая народ обещаниями и угрозами от веры христианской, всего же страшнее действовал тогда меч: тысячи тысяч уже умерли за веру, а гонение было еще в начале – гласит одно современное сказание [*260]. И некому было позаботиться о слабом, угнетенном царстве. Из царей, управлявших им в то время, явился было один добрый, мудрый и храбрый Вараздат (384), который хотел сколько-нибудь уврачевать раны отчизны, но его царствование продолжалось только два года. Первосвятители Церкви делали со своей стороны все что могли, нередко жертвуя жизнию для своей паствы. Более всех из них достоин признательной памяти патриарх Нерсес I, которого соотечественники по всей справедливости назвали Великим. Неоднократно он один спасал от гибели свое отечество и Церковь. Он-то прекратил междоусобие, возбужденное по смерти Тиридата незаконными соискателями престола, упросивши греческого императора Константина возвести на сей престол законного его наследника, сына Тиридатова Хозроя; он примирил потом своим личным ходатайством в Византии недостойного царя своего Аршака III с императором греческим Валентинианом, когда войска последнего вступили уже в Армению для ее опустошения; примирил того же царя и с его полководцами, которые уже совершенно было против него вооружились. Во дни страшного персидского гонения, свирепствовавшего в Армении, удалившись в столицу греческую, Нерсес Великий умолил здесь императора Феодосия послать армянам вспомогательное войско и даровать им законного царя в лице Папа (381), воспитывавшегося тогда в Константинополе. Когда же государь сей соделался бичом для своих подданных, Нерсес не устрашился восстать против него с пастырскими увещаниями и обличениями в защиту утесненного народа, пока не вкусил из рук неблагодарного повелителя своего чашу смерти.
Не прекращались бедствия Армении, равно как Церкви Армянской, и в последние годы самобытного существования этого царства (387-428), когда, разделенное на две части между персами и греками, оно продолжало еще иметь своих государей, хотя не всегда из своих соплеменников. Почти непрерывные смуты и происки разных партий, несколько раз возобновлявшиеся междоусобия и гонения на христиан волновали несчастную страну и теперь, как прежде. Одно лишь отрадное явление представляет нам в сие время ее история. В царствование кроткого и мудрого Врамшапуха (с 392 г.) начался так называемый золотой век просвещения древней Армении, преимущественно духовного. Знаменитый Месроп изобрел (в 406 г.) армянские письмена и был основателем целой школы мыслителей и писателей; до сорока даровитейших юношей посланы были для лучшего образования в Константинополь, Афины, Александрию и по возвращении в отечество приступили под непосредственным надзором самого Месропа и ученейшего католикоса Исаака Великого к переложению на армянский язык Священного Писания по тексту семидесяти толковников, присланному от Греческого патриарха Максимилиана. Вскоре из этих юношей явились замечательные писатели, каковы Моисей Хоренский, Егише, Лазар Парбеци, Корюн и другие, которые красноречиво изложили историю своего отечества и Церкви, оставивши немало и других полезных сочинений [*261].
В последующее затем время, когда Армения окончательно потеряла свою независимость и подпала под чуждое иго персов (428-632), бедствия ее достигли крайнего предела. Персы с самого начала воздвигли на христиан открытое гонение, продолжавшееся непрерывно в три преемственные царствования Иездигерда, Барарана и его сына [*262]. Целые тысячи исповедников вкусили тогда в Армении смерть за веру Христову, и в главе их доблестный архипастырь Иосиф [*263]. Многочисленные храмы и обители были разрушены или заключены, а в числе прочих подверглась разорению и резиденция Эчмиадзинских патриархов, которые с. тех пор (с 454 г.) перенесли ее на несколько веков (до 925 г.) в новую тогдашнюю столицу Армении Товин, или Тевин, находившуюся также в нынешних пределах наших, неподалеку от Арарата, где доселе видны ее развалины. Нельзя без горести читать описания всех этих и многих других нестроений и бед, оставленного современниками. «Рыдаю о тебе, земля гайканов! – взывает один из них [*264], – рыдаю о тебе, знаменитая страна севера! Не стало царя, не стало священника, советодателя и мудрого наставника; спокойствие твое нарушено, везде возмущения, везде бунты, попрана святая вера, и место ее заступили беззакония и невежество! Плачу о тебе, Церковь Армении, лишенная велелепия престола, великодушного пастыря и мудрого его сподвижника... Антиох старается отвергнуть законы отечественные, и нет Маттафии, который бы ему воспрепятствовал. Отвсюду угрожают нам брани и внутренние возмущения, и нет Маккавеев, которые бы нас защитили... Кто сравнит горесть свою с нашею, и кто может изобразить ее словами? Восстали безумные епископы, похитители высокого сана, избранные по мзде, алчущие богатства... и учинились волками, терзающими и пожирающими свои стада. Священники горды, презирают свой сан, преданы роскоши и порокам... Жилища наши в развалинах, имущество в руках грабителей, вельможи в оковах, и простой народ в угнетении. Грады взяты, села преданы пламени и грабежу; везде голод, болезни и смерть. Благочестие в забвении, и скоро наступит ад, от которого да избавит нас Бог, Ему же слава во веки!..» [*265].
Ад этот действительно наступил, в некотором смысле, для злосчастной страны, когда (632-858) отяготели над нею деспотизм и фанатизм новых ее поработителей аравитян, – ад, описанный также современниками и очевидцами. «Сей новый народ, – восклицает в плаче своем первосвятитель Нерсес III, как дракон, пожрал, как лев, сокрушил все наши кости, и до того уже изможденные прежними нашими поработителями. Несчетны жертвы, коих неповинная кровь пролита. Одни обречены рабству или отданы на продажу; другие, лишенные всего имущества, отведены в плен; третьи заключены в вечные оковы... Мы изгнаны из отечества и блуждаем посреди народов чуждых, забывши о родине; страну нашу пожирают враги пред очами нашими... Седалище первосвященническое, от коего прежде исходил свет, ныне окружено мраком; первосвятители удалились от него и скитаются в пределах чуждых» [*266]. К чести этих первосвятителей должно заметить, что, несмотря на все бури, свирепствовавшие в их отечестве, они непрестанно старались поддерживать в нем свет наук для пользы Церкви. Для сего учредили они даже особый чин в своей церковной иерархии, средний между епископами и священниками, имеющий, впрочем, назначение чисто учебное и существующий доныне под именем вартабедов, которые при патриархе Моисее II (551-594) соединенными усилиями составили для армян новую систему летосчисления, начинающуюся со времени ее изобретения (с 551), и вообще были постоянно главнейшими двигателями просвещения в Армении.
Ко всем этим внешним бедствиям Армянской Церкви присоединились еще внутренние, касавшиеся существа веры. С самого начала своего Церковь сия свято держалась вселенского православия. Ее католикосы от святого Григория до Исаака (302-439), приемля рукоположение и находясь в зависимости от архиепископа Кесарийского, пребывали в союзе и единении чрез Кесарийскую Церковь со всею Церковию Греческою [*267]. А в делах важнейших они относились в особенности к Цареградскому патриарху, чему неоспоримым доказательством служит то, что Собор епископов Армянских, осудивший в 437 г. сочинения Диодора Тарсийского и Феодора Мопсуестского, посылал для окончательного рассмотрения свой приговор к Константинопольскому патриарху Проклу, от которого и получил потом утвердительное послание [*268]. Во все это время Армянская Церковь принимала непосредственное участие и во Вселенских Соборах, на которых решалась участь всего христианства. Так, на Первом Вселенском Соборе от лица ее присутствовали патриарх Аристакес и святой Иаков, епископ Низибийский, на Втором – патриарх Нерсес Великий, на Третьем – по крайней мере читано было письменное исповедание патриарха Исаака. Но с тех пор как Армения подпала под иго персов (428), ее главам духовным запрещено было от персидского правительства отправляться за пределы отечества в Кесарию для принятия рукоположения, чем первая внешняя связь Армянской Церкви с Греческою Православною уже пресеклась. Отяготевшие с того времени над Армениею бедствия воспрепятствовали ее епископам принять какое-либо участие в Соборе Халкидонском (451), рассматривавшем и осудившем ересь Евтахия; это послужило уже началом и для внутреннего разрыва ее с Церковию вселенскою. Некоторые злонамеренные сирийцы [*269] распространили слухи в Армении, будто Собор Халкидонский, отвергши ересь Евтихиеву, принял и утвердил противуположную ей ересь Нестория, которая осуждена была еще прежде на Третьем Вселенском Соборе (431). Новые слухи о волнениях и смутах, последовавших в Греции за Халкидонским Собором касательно смысла его догматического определения, и попытки двух византийских императоров, Зенона и Анастасия, определить этот смысл произвольными толкованиями или запретить всякие споры о нем еще более утвердили армян в предубеждении насчет православия Халкидонского Собора. Не желая более оставаться в недоумении и нерешимости, католикос Бабкен созвал в 491 г. поместный Собор своих епископов в Вагаршапате, чтобы лучше рассмотреть дело. Но поелику собравшимся не от кого было узнать сущую истину о Соборе Халкидонском и они не имели о нем других известий, кроме указа Зенонова, в котором немало было искажено определение сего Собора, то, основываясь только на этом документе, они заключили 1) будто Собор Халкидонский уважил сочинения Феодора Мопсуестского и сообщников его; 2) будто он разделил Иисуса Христа, подобно Несторию, на два лица и на два сына; и вслед за тем 3) произнесли анафему на Собор Халкидонский или, справедливее, на то учение, какое, по мнению их, было одобрено на сем Соборе [*270]. Очевидно, что все это вначале произошло только от недоумения и недостатка точных сведений об истине и предан проклятию собственно не Собор Халкидонский, а такое учение, которое ему совершенно чуждо [*271]. Но в последующее время армяне, будучи убеждены, что предки их весьма хорошо исследовали все, относящееся до сего предмета, еще при католикосе Бабкене на созванном им Соборе (491), не хотели снова разобрать запутанное дело, а усилившаяся мало-помалу взаимная неприязнь между греками и армянами еще более воспрепятствовала открыться истине. Через сто лет (в 596 г.) последовал новый Собор иерархов Армянской Церкви в Товине под председательством католикоса Авраама Агбатанийского, когда еще с большею решительностию преданы анафеме все, державшиеся Халкидонского Собора, а в числе прочих и католикос Грузинской Церкви Кирион со всею своею паствою, и окончательно совершилось отпадение армян от вселенского православия.
Но с этого времени начался и ряд попыток к возвращению отпадших в недра истинной Церкви. В 597 г. по жалобе Грузинского католикоса Кириона и желанию императора Маврикия созван был Собор в Константинополе, куда и Армянский католикос Авраам присылал своего викария Вартанеса и архимандрита Григория вместе с девятнадцатью другими армянскими епископами, имевшими свои епархии в пределах греческих. Плодом сего Собора было, по крайней мере, то, что сии последние армянские епископы единодушно приняли правила Халкидонского Собора и что по случаю происшедших отсюда несогласий между армянами (так как первые два представителя Армянской Церкви возвратились на родину с прежними своими мыслями) избран был для греческих армян, воссоединившихся с Церковию, особый католикос Иоанн Кокоста, хотя не более как на десять лет (до 607 г.), когда вследствие новых смут в империи эти воссоединившиеся опять отпали в прежнее заблуждение. В 629 г. на Соборе в Феодосиополе в присутствии самого Армянского католикоса Езра подобная попытка была еще успешнее. Когда бывший здесь император Ираклий спросил католикоса: «Почему вы не соглашаетесь с нами в вере?» – католикос отвечал: «Благодетельный государь! По твоему желанию нам легко согласиться; только молим вас отвергнуть заблуждения Нестория, кои служат причиною нашего от вас уклонения; и, если столь превратное учение действительно утверждено, как мы слышали, на Соборе Халкидонском, откажитесь и вы от этого Собора, тогда мы охотно с вами соединимся». Обсудивши потом у себя в уединении вместе со своими епископами данное ему по приказанию императора обстоятельное исповедание Греческой Церкви, в котором предавался анафеме и Несторий, как и все прочие еретики, Езр торжественно исповедал на Соборе, что и Армянская Церковь верует точно так же, как Греческая, и в заключение со всеми своими епископами принял правила Халкидонского Собора. К прискорбию, нашлись и теперь упорные между армянами, кои не согласились отказаться от укоренившихся заблуждений: некто архимандрит Иоанн Майрагомеци, открыто называя католикоса изменником вере, удалился в Албанию, приобрел себе ближайших последователей и возмутил там весь народ. С другой же стороны, принятие многими из армян, обитавшими в Греции, вместе с Собором Халкидонским самых обрядов Церкви Греческой подало повод другим их соплеменникам, жившим в сердце Армении, возненавидеть их за сие отступление от своей домашней церковности, затем отложиться от согласия в самом исповедании с греками и снова отвергнуть Собор Халкидонский. Была такая же попытка к примирению армян с Церковию на Товинском Соборе в 648 г. по настоянию императора Феодосия, присылавшего сюда со своим указом философа Давида, но на этот раз патриарх Нерсес III и епископы армянские прямо отказались от принятия Халкидонского Собора, а наместник Нерсеса епископ Иоанн составил даже в 651 г. в своей епархии небольшой Собор, где снова предал анафеме Собор Халкидонский и Собор, бывший в Товине при католикосе Езре, доказывая, будто они признали в Иисусе Христе два естества раздельно. Наконец, последняя сего рода попытка в рассматриваемый нами период совершилась в 862 г., когда по случаю обширного послания Константинопольского патриарха Фотия к Армянскому католикосу Захарию, где со всею подробностию защищено было исповедание Халкидонского Собора, и вследствие некоторых подобных посланий того же патриарха к знаменитейшим сановникам Армении созван был Собор армянских епископов в Ширакаване для обстоятельнейшего рассмотрения спорного предмета. Но и после сего вожделенное соединение не состоялось. К прискорбию, должно сознаться, что главною причиною всех этих неудач было отнюдь не учение армян, в котором, как видно теперь из их исповеданий [*272], они очень легко могли бы сойтись с православными, а единственно, кажется, политические смуты, взаимная вражда народная между греками и армянами и обоюдные недоразумения. Вследствие сих-то причин армян начали обличать еще с тех пор и в некоторых других грубейших заблуждениях касательно веры, которые сами армяне считают для себя совершенно чуждыми [*273].
Иерархия Армянской Церкви с самого начала явилась в полном устройстве и во всей обширности. Если верить свидетельству современника, то еще святой Григорий Просветитель, как было уже замечено, рукоположил для Армении до 400 епископов, хотя, по всей вероятности, здесь разумеется преемственный ряд епископов. По крайней мере, нельзя сомневаться, что и в первые девять веков число епархий в Армении превышало сто, когда в последующее время там оказалось их около трехсот. Главою всей этой иерархии был постоянно один Эчмиадзинский, или Товинский, Армянский католикос [*274], за исключением только того случая, когда при императоре Маврикии избран был на время (597-607) для армян греческих особый патриарх. Должно также заметить, что существовал еще католикос в Албании, одной из провинций армянских, начиная с поставленного там в этот сан самим Григорием Просветителем родственника его Григория. Но католикос Албанский не имел прав Эчмиадзинского, от которого получал рукоположение и находился в постоянной зависимости, пользуясь, впрочем, большею самостоятельностию и преимуществами, нежели все прочие епископы и архиепископы Армении. Замечательно и то, что эти подчиненные Албанские католикосы, хотя по временам, согласно со всею Армянскою Церковию, отвергали постановления Халкидонского Собора (так, в числе епископов, собравшихся в Вагаршапате в 491 г. и в первый раз отвергших сии постановления, упоминается католикос Албанский), не соглашались, однако ж, иногда принимать ее нововведения. Когда, например, после Пятого Вселенского Собора, епископы Армении писали к католикосу Албании Any, чтобы он согласился с ними петь Трисвятую песнь с прибавлением распныйся за ны, он прямо отвечал им: «Предшественники мои Петр и Григорий пели только Святый Боже... без всякого прибавления, почему и я ни прибавлю здесь, ни убавлю» [*275].
Не излишним считаем упомянуть, наконец, еще об одном предмете в истории Армянской Церкви, который с первого раза имеет к нам, по-видимому, особенную близость: разумеем известие, что в Армении по реке Араксу издревле обитал какой-то народ рос, у которого был свой епископ уже в четвертом веке [*276]. Некоторые хотят видеть в этом народе племя славянское, русское и отсюда выводят заключение о древности христианства между нашими предками [*277]. Но для такой мысли решительно нет никакого основания, кроме случайного созвучия в имени двух народов; и если бы мы стали искать нашей России и наших предков повсюду, где только звучало когда-либо местное имя подобного рода, в таком случае мы нашли бы их во всех странах мира [*278]. Кстати заметим здесь, что точно таким образом доказывали некогда [*279] древность христианства в России, основываясь на том, что еще под актами Антиохийского Собора в 363 г. подписался русский епископ 'Αητύπατρος Ρώσου [Антипатр Росский (греч.)]. Между тем, по справке с древними писателями, оказалось, что город Ρώσσος или Ρωσόπολις, в котором имел свою кафедру этот епископ, находился отнюдь не в России, а на пределах Сирии и Киликии и Росская епархия причислялась к Антиохийскому патриархатству [*280].