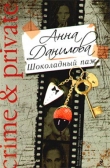Текст книги "Как цветок на заре (рассказы)"
Автор книги: Людмила Петрушевская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
А в следующий раз, когда она приехала за ним забирать его насовсем, в другой детский сад, это было уже через месяц после случая с цветами. И она уже забыла про случай с цветами, и он, наверное, забыл. Но он ей не обрадовался. Он терпеливо стоял, пока она на нем застегивала все пуговицы, завязывала шнурки и тесемки от шапки. Она его поцеловала, щека у него была холодная, податливая. Он мельком взглянул на мать, глаза у него смотрели утомленно, как будто он не держал как следует веки.
Но что ей было делать! Она была еще тогда совсем молодая. Если бы это сейчас с ней было, она бы встала с ног на голову, разбилась бы в лепешку, но не обманывала бы его с цветами и не гнала бы его от себя, когда он ночью приходил к ней, чего-то испугавшись у себя. Но он, как ни странно, случая с цветами совсем не помнил. Этот случай у него как-то сразу выветрился из памяти, как будто его не было. Он никогда не вспоминал этот случай, а она никогда не рассказывала ему его, хотя была от природы общительна и с простой душой. Но этот случай она никогда не напоминала, она только сама все время помнила и казнила себя.
Людмила Стефановна Петрушевская
Дочь Ксени
Всегда, во все времена литература бралась за перо, чтобы, описывая проституток,– оправдывать. В самом деле, смешно представить себе, что кто-либо взялся бы описывать проститутку с целью очернить ее. Задача литературы, видимо, и состоит в том, чтобы показывать всех, кого обычно презирают, людьми, достойными уважения и жалости. В этом смысле литераторы как бы высоко поднимаются над остальным миром, беря на себя функцию единственных из целого мира защитников этих именно презираемых, беря на себя функцию судей мира и защитников, беря на себя трудное дело нести идею и учить.
Действительно, чье бы сердце, даже закоренелое сердце, не содрогнулось бы при виде простушки, так и хочется сказать– простоволосой, хотя на голове у нее есть какой-то свалявшийся, как валенок, грубый шарфик, но сдвинутый на затылок, так что волосы висят. Так и тянет сказать – простоволосая и простушка, толстоватая, коротковатая, но не борец по фигуре, как бывают иногда женщины – чуть не борцы с широкими плечами, загривком и узким тазом и короткими, толстыми в икрах и узкими в щиколотках ногами.
Итак, простоволосая и простушка, потому что совсем рядом с этими словами стоит слово "проститутка", и она и есть она. Но не борец по фигуре, руки не торчат кренделями от мощности корпуса, нет. Так, серединка на половинку, простушка, и все этим сказано. И женственности особой нет, какая там женственность, когда коротковатая и полноватая, простоволосая почти, не грубятина, а стоит себе, ничем не выделяясь, в толпе, продвигается среди остальных женщин, таких же, как она,– но проститутка. Да еще в один из самых главных и незабываемых моментов в своей жизни и говорит:
– Папиросы вот передать, печенье.
– Иди, иди,– говорят женщины, находящиеся в толпе.– Там она с милиционером, может быть, разрешат.
– Только печенье и папиросы.
– Конечно, иди, иди.– Как будто только что, первый день подсудимая является подсудимой и в первый свой день она особенно изголодалась по папиросам – без отвычки, сразу, тяжело. А ведь подсудимая уже находится в тюрьме три месяца, и уже передавались ей папиросы и печенье, но тут в толпе разыгрывается совершенно незабываемая сцена, тут правит бал проститутка Ксеня, которая темным вечером, у входа в красный уголок, в толпе, продвигается, чтобы передать нищую передачку, и кому? Своей же осужденной дочери, опять-таки проститутке. Она осуждена на год, сейчас ее будут выводить из подвала, белое лицо возникнет в темном проеме, следом – или впереди – пойдет милиционер, неизвестно какой, неизвестно с каким выражением лица, когда он идет впереди или позади подсудимой с тем, чтобы посадить ее в машину. Какое может быть у него выражение лица – или он уже привык к этим уводам-приводам в зал и во двор, в машину, к этой толпе у дверей, собирающейся, когда выводят. Но все равно и в случае полной привычки у него будет особое выражение лица. И люди внимательно смотрят и упиваются несчастьем (не в смысле "наслаждаются", хотя немного и в этом смысле, немного и счастливы зрелищем, неповторимым, естественным, правдивым до озноба, с невыдуманными подробностями, с этим ожидаемым броском матери-проститутки к дочери-проститутке же с печеньем и папиросами, поскольку дочь ничего не ела с обеда),– и упиваются также неповторимым выражением лица милиционера, невообразимым, ни на что не похожим выражением, которое единственно и возможно только у милиционера в такой ситуации,– но какое это будет выражение, трудно, невозможно предугадать – какое? Что он выразит лицом, что она выразит собою, девятнадцатилетняя дочь-проститутка со своим белым лицом, которое возникнет в проеме дверей вот-вот, вот-вот, а пока мать-проститутка проходит сквозь редкую толпу со словами "папиросочек вот". Все ее тут знают, Ксеню, вон стоит двенадцатилетний, который похаживал к ним в вертеп и подарил молодой проститутке комбинацию. Вон он стоит со взрослыми мужиками как взрослый, в пальтишке-реглан с поясом, как лилипутик, и с ним стоят двое мужиков, чего они с ним стоят? Что общего они имеют с ним, спрашивается? А вот стоят же, не наклоняются к нему, а говорят в сторону крыльца, и он тоже проговаривает какие-то редкие фразы, также не им, а в общую сторону, в сторону крыльца, где сейчас покажется в мученическом темном провале белейшее лицо девятнадцатилетней жены двенадцатилетнего, ибо проститутка на то и проститутка, чтобы не презирать никого, ни старого, ни малого, ни безносого, они должны, обязаны или хотят никого не отталкивать, кто пришел к ним с дарами, а не просто так. Пришел, да еще с дарами, с бутылкой, деньгами или комбинацией, в то время как к другим ни так ни сяк не ходят, вообще не заглядывают, все заросло паутиной у них, закрылись все двери.
А сюда почему-то наведываются часто, с какой, спрашивается, стати, с какой это стати приносят? Зачем им нужна эта продажная любовь, когда кругом – зачерпни – ходит любовь простая, не требующая оплаты, а только тепла, внимания, только слов и присутствия кого-то, кто возьмет эту ждущую бескорыстную любовь и даст взамен не что-то драгоценное, а тоже просто-напросто ничто, пустяк, и при этом еще справит нужду, совершит себе необходимое и устроит этим также других.
Так нет, нет, а ходят вот туда, ходили туда, в эту комнату, где мать простоволосая и дочурка, еле-еле набравшая тела, едва-едва только отошедшая от безобразия и прыщей отрочества и уже несвежая, уже в чем-то простая-простая, без тайны, а простейшая. Кажется, что в ней нет ничего от вечного тумана и таинственности, окружающих вроде бы преступление против нравственности. Так себе, ничего, ничего совершенно особенного, а голая простота, и движения, возможно, не без примеси кокетства, но такого простого, нужного, без тайны, кокетства: с оттенком шутки, игры. Шутки и игры добродушной, без подвоха, прочно обоснованной всеми дальнейшими безобманными радостями, которые неуклонно последуют за шутками и весельем раздевающейся женщины. Но ведь может так быть, что и она обманет, запустит бутылкой и выгонит, но, видимо, и это надо уважать и прислушиваться к этому настроению, поскольку оно никакого прямого отношения к человеку, угощенному бутылкой по чему попало, не имеет, тут каприз и меланхолия отдельно взятого, не унижающего других человека, просто дикая тоска, которую приходится только уважать и с уважением перед ней отступать, потому что это не игра, а просто так вышло на сей раз, просто так.
И никто их не боится, таких настроений, поцелуй дверной пробой и иди к себе домой, ничем не обиженный, только что разопрет от несостоявшейся любви, грустно станет из-за упущенного праздника – и только. А то, что праздника нет, это не то совсем, как бывает в праздник, когда тебя не позовут, когда в репродукторах на улицах гремит музыка и все другие веселятся. Нет, тут не то, тут другое совершенно – ни у кого праздника нет, отменили, все вокруг в будничном, ничего не светло и не тепло. А будет и тепло, и светло, в следующий только раз, но снова соберутся все, и придет серьезный двенадцатилетний, которого уважают за равенство в виде принесенной комбинации, он также не изгой, не отверженный в этом мире, в этой комнате, где живут мать и дочь, прошедшие перед тем школу борьбы друг с другом. Ведь это не так просто, как кажется, что у проститутки-матери вырастает дочь-проститутка. Вроде бы вначале намерения у матери иные, вроде бы вначале мать не приветствует, что дочь хочет идти по плохой дорожке,– ведь нетрудно догадаться, что мать есть мать и свои прегрешения прощает себе, но не дочери, и хочет видеть в дочери осуществление того, что не удалось ей,скажем, чтобы дочь училась и так далее. Но нетрудно также догадаться, что дочь вырастает, желая доказать свое, и это неважно, что в ее детстве во дворе ее все шпыняли и она в злобе кусала детей – так говорили, и так оно и было на самом деле. В детстве дочь проститутки была совсем плохой, на ребрах ничего не находилось, и она была злая и грубила всем кому попало, даже старшим отвечала: "А хотя бы и так" – и вдруг расцвела. Вдруг округлилась, мяса на ней наросло в этой атмосфере вечно накрытого стола в комнате, и вдруг мать стала приплакивать не из-за того, что дочь ее в ответ на поношения по поводу плохой учебы и учительницы могла начать пинать ногой в самое больное место, в голень,– мать стала приплакивать и курила с припухшими глазами из-за того теперь, что все, все кончилось, все надежды рухнули, и дочь привела опять, и опять другого, и все ходоки в эту комнату теперь уже не относятся к этой дочке как к дочке и не угощают конфетой перед тем, как мать выставит за дверь на кухню. Нет, теперь взаимоотношения будут другие, и мать примирится с этим как вообще простой человек: так – так так.
И все потечет опять своим чередом, и дочь, избалованная дружками, совсем опростится и перестанет в чем-либо притворяться и делать начнет, только то, что в данный момент ей захочется, поскольку так ее разбаловали, так ее разнежили и утвердили на своем, поскольку так она нужна, и подумайте, за деньги – даже двенадцатилетнему, что это и может только считаться диким проявлением всеобщей любви и уважения, сразившего даже двенадцатилетнего во дворе. Так ее разбаловали, что это не могло не кончиться плохо, и она в порыве естественной тоски запустила бутылкой в голову милиционеру, зашедшему просто так, проверить, и на этом ее похождения закончились, поскольку тут милиционер и закон, не считающиеся ни с чьими причудами, ни с чьей естественной тоской и словами вроде: "Я тебя шлю к черту",– и это, в свою очередь, не могло не кончиться вот таким выездным судом в подвале дома, и не могло не кончиться выходом на улицу темным вечером пред лицо толпы, публичным явлением толпе заинтересованного данным фактом народа, увидевшего дочь Ксени, но не в драных школьных колготках и кусающую детей в драках, а вот в таком виде: в каком, еще вопрос.
Людмила Стефановна Петрушевская
Два бога
Как ни странно, но любой подвиг, святое самопожертвование или счастливое совпадение на том же месте не кончаются, как роман или пьеса заканчиваются свадьбой. Жизнь продолжается и после того счастливого совпадения, когда, к примеру, человек опоздал на корабль под названием "Титаник", или после того – в нашем случае,– когда женщина родила ребенка одна, без мужа, без семьи, совершенно отчаянно решив спасти тот сгусточек жизни, о котором ей сказала врачиха, да Тридцать пять лет, полное одиночество, даже крушение, случайная связь с парнишкой двадцати лет, он после армии, вся, видимо, жизнь впереди, веселая пирушка, метро еще работало, но уже без пересадки – а парнишка обитал чуть ли не в пригороде, это раз; второе, что они танцевали, дурачились все вместе, маленький отдел в пять душ, общим хороводом, и наша Евгения Константиновна тоже взялась плясать, девушка в очках, старший редактор, а Дима-то был курьер. И третье что Дима по-детски ошарашенно глядел на часы. До дому, до тьмутаракани, на метро и автобусе уже не доехать. Он сказал – ладно, идите, я как-то придумаю. А была ледяная ноябрьская ночка, и вот ее-то Евгения Константиновна (Геня) и Дима провели вместе, то есть вынужденно вместе. Она повела его с собой, да ладно, Дима.
Здесь была предыстория, что квартиру Гене (Евгении Константиновне) построила бабушка, дала денег, ликвидировав свой дом в пригороде. Бабушка вырастила Геню. Спасибо, но на этом дело не кончилось. Бабушка приезжала к Гене когда хотела ее увидеть, всегда неожиданно, у нее были ключи, и оставалась ночевать, если внучка приходила поздно.
И вот, добравшись до своего домашнего очага, Евгения Константиновна (в сопровождении скованного Димы) с ужасом обнаружила в уголку прихожей, за дверью, бабушкину палочку. Приехала!
Они оба засели в кухне. Тихо и аккуратно, чтобы не разбудить бабку, Евгения Константиновна постелила Димке на узком диванчике что нашлось в окрестностях – чистое банное полотенце и скатерть вместо пододеяльника. Красненькую подушечку, которая почему-то валялась на диване в кухне, Е.К. положила ему под голову. Дала еще одно полотенце, послала в душ. Потом пошла в ванну сама. Вернулась. Дима лежал смущенно, подозревая, видимо, нехорошее. Как многие девушки боятся мужчин, так парнишки опасаются взрослых женщин, это правило. То есть Дима скованно лежал на боку, скрюченный как знак доллара, накрывшись желтой льняной скатертью до ушей. Е.К. села в его ногах, потом молча заплакала, опустив голову на обеденный стол. Она ничего не сказала Диме о бабушке. Он мог этого не понять, у него у самого дома жили две бабушки, мама и тетка, он их любил, это все в отделе знали.
Дима привстал, начал утешать Е.К., гладил ее по голове, по плечам. Обычное дело, мальчик рос, видимо, в любви (те две бабушки), его гладили и утешали, и он знал, как посочувствовать, проще простого. Она прижалась к его ладони мокрой щекой. Он ее обнял, как ребенка, заговорил "ну что ты, ну что ты". Дальше гладил по спине, поворачивал к себе, склонял. Сказал священную фразу "ну иди ко мне". Как-то они уместились на диванчике, Дима даже не посмел раздеть Е.К., просто задрал на ней халат. Первый раз все прошло в суматохе, второй раз более торжественно. Дима был недавний дембель и многое знал в теории. Бабка не выходила. Заснули. Рано утром (была суббота) Дима в ужасе вскочил ехать на подготовительные курсы, сонная Е.К. даже не успела напоить его чаем, исчез. Е.К. его не провожала, он нагнулся и поцеловал ее на прощанье легким детским поцелуем, как тетю или маму, все. Хлопнула дверь. Через восемь с половиной месяцев Е.К. родила сына, причем случай с Димой больше не повторился.
Почему она оставила ребенка, не сделала аборт: во-первых, в тот день, выспавшись, вся разбитая, она отворила дверь в комнату, желая поговорить с бабкой, но никого там не было. Однако палочка в прихожей стояла, и бабушкина большая сума находилась на обычном месте, на стуле. Е.К. пошла к соседке, и та ей выложила, что вчера вечером, возвращаясь из театра, она увидела на пороге ее квартиры лежащую без сознания бабушку. Вызвали "скорую", пока она ехала час, старенькая совсем уже была плоха, но все-таки увезли ее в больницу живую. Хорошо что выползла на порог. Думали разыскать Е.К., но телефонов никаких не было. "Я ей под голову красненькую подушку положила, из комнаты",– сказала с укором соседка.
Через две недели, уже после похорон бабушки, Е.К. в ее честь решила сохранить ребенка. Для себя, как единственно близкое существо.
Но это все слова и девизы, а ежедневная жизнь оставляет их без употребления. Дима вскоре ушел из отдела в другой отдел, этажом ниже, и не курьером, а мл. редактором, учился, каждая минута на счету, пробегал мимо, радостно здоровался с Геней как с человеком, который приятен и мил. Как с первой учительницей, которая (ясно) хочет спросить многое, но некогда!
Правда, это выражение на его лице к весне сменилось каким-то преувеличенно-приветливым видом, ибо Е.К. была уже сильно тяжела, шел месяц май. В тот год стояла страшная жара, и Е.К. ходила вот именно что тяжело, даже грузно, но вид имела опрятный, аккуратный, волосы пышные, как всегда, только рот оттопыривался как у негритянки, и в руке всегда был большой, скомканный носовой платок, которым она постоянно вытирала губы.
Итак, Дима, хотя совершенно отстранился от Е.К., но все так же мило ей улыбался, не обращая внимания на ее преображенную внешность. Он вроде бы не понимал, от каких причин что происходит и сколько месяцев (недель) надо считать назад. Он был мальчиком из пригорода, возможно, там, в деревне, у него имелась девочка, однако в отделе этажом выше (где курьером теперь работал другой парнишка, теперь уже шестнадцати лет) – там-то все всё знали и считать умели. У Е.К. не было манеры что-либо скрывать. Ее любили в отделе за что-то, неведомо за что. Так просто, любили и все, вечно у ее стола толкали кроссворды после обеда, у нее же дома собирались на всякие мелкие сабантуи, короче: Диму известил Артем Михайлович, Тема, солидный дядя, обожавший Е.К. не совсем платонически. То-то и то-то, Дима, знай. У тебя (от тебя) будет ребенок. Дима улыбался как всегда (так рассказывал А.М.), совершенное дитя! Дитя, у тебя будет дитя.
Дима все так же здоровался с Е.К., радостно, и пробегал мимо, а Е.К. уже последний раз мелькнула в буфете как пузатая шхуна под парусами, белое с синим, лицо белое, бледное, синие тени под глазами, платье с белым воротничком. И растаяла. Диме было ни до чего, он сдавал экзамены на курсах и сдал! Весь май его не было, потом он вернулся на работу и опять ушел, кажется, поступать в институт.
В середине августа он появился, и вскоре его остановил в коридоре Артем Михайлович и поневоле укоризненно сказал: "У тебя, между прочим, сын родился. Запиши адрес роддома".
Дима все так же радостно, как дебил, закивал, достал ручку и записал все на каком-то клочке.
Отдел в составе троих (заведующая, Тема и некто Даша) с цветами прибыли встречать Геню из роддома. Заведующая, Светлана, выступала с георгинами, тортом и бутылкой (для медсестер). Тема волок большой пакет детского приданого, Даша принесла одежду Е.К., все было как полагается. Наша не хуже других. Сдали имущество нянечке. Расположились покурить на лавочке.
Тут же была небольшая толчея из двух девушек и молодого парня, а также маленькой толпы деревенских родственников – две тетки, бабка в платке, какая-то мятая личность типа "дядя Вася", из водопроводчиков, и – вот так финт – посреди всего этого сиял своей светлой личностью Дима с букетом гладиолусов! Это его родня, возможно, все эти люди!
– Привет, Димочка!– завопила Светлана Аркадьевна и замахала георгинами. Дима, сияя, склонил свою светлую голову. Похудел как цыпленок, видимо, из-за экзаменов.
Затем вышла смущенная Геня, ее встретил у дверей Дима и взял ребенка из рук нянечки. Все честь по чести. Тетки и бабка затолпились, взглянули, дружно сказали "Димкин", заплакали, дядя Вася вытащил из тряпочной сумочки бутылку, пластмассовые стаканчики, всех обнесли, а Геня, расцеловавшись со своей новой родней, приняла дитя на руки и отъехала с какой-то приехавшей в такси подругой, только сказала "я очень рада, всем позвоню". Дима почему-то сиял. Светлана Аркадьевна, Даша и Тема задумчиво пошли к метро, вслед за растерянными Димиными родственниками (сам Дима шел как бы тайно улыбаясь, и на вежливый вопрос Светланы, как экзамены, ответил, что все в порядке).
Затем пролетел год. Евгения Константиновна вышла на работу. Настали трудные времена. Она нашла няню, и все деньги уходили на это. Геня пополнела, как полнеют необеспеченные женщины с детьми, от хлеба и картошки, носила, видимо, чьи-то старые вещички, зашитые колготки, стоптанные туфли. В буфет она теперь не ходила, питалась взятыми из дому кусками хлеба с чем-нибудь дешевым. Стала более суровой. Торопилась уйти пораньше.
Дима пасся где-то этажом ниже, сам худой как палочка, при встречах освещался своей детской улыбкой. Он работал и учился по вечерам. Тем не менее (в отделе это знали) Дима раз в неделю посещал Егорушку, приходил по субботам поздно вечером, после занятий в институте, и просто сидел у кроватки, неотрывно глядя на ребеночка. Сидел и смотрел. Ночевал на кухне. Денег у него не было совсем, бедная оказалась его семья, дядя Вася пил, брат тоже. Затем дядя Вася за три месяца сгорел, а к моменту, когда Дима закончил свой шестилетний институтский марафон и получил диплом, его брат отравился чем-то, какой-то дрянью, и тоже ушел. Таяла Димкина большая семья, мать уже находилась на исходе дней, бабки не было давно, и вскоре у парня в живых осталась только тетка. Он жил с ней в двухкомнатной квартире в Москве, уже полноправный редактор, работяга с высшим образованием.
К тому времени Геня давно рассталась с финансово непосильной няней и отдала ребеночка в сад на пятидневку. И Дима каждую пятницу приходил к садику и забирал Егорушку, вел его домой к Гене и оставался с ними до понедельника, а в понедельник вел ребеночка рано утром в сад.
Егорушка звал Диму "папа". У мальчика были папа и мама, все как положено. А затем, когда ему уже надо было идти в школу, Дима перевез свое семейство в собственную двухкомнатную квартиру, где еще стоял в уголку костылик тетки, где мирно росли цветы, даже огромная пальма, где полы были старательно помыты, а на них радостно пестрели чистые домотканые половики; где икона висела в красном углу, а стол в кухне красовался под белой скатертью: с праздничком! Только кастрюли оказались гнутые, да посуда разномастная, да и запах стоял соответственный, запах бережливой нищеты, сладкого шерстяного тлена из битком набитых шкафов.
Егорушке понравился его новый дом, его собственная комнатка (там Дима и Геня поклеили новые обои). Папа даже где-то нашел и подколотил, подклеил ему маленькую одноместную парту для уроков, то есть жизнь потекла. Е.К. вскоре стала работать на крытом рынке, торговала цветами в горшках, Дима устроился в аспирантуру в тот институт, который он закончил, начал преподавать, а также нашел себе частные уроки для поступающих. Остался еще домик, домишко в пригороде, семейное гнездо, куда выезжали на выходные и летом и где Геня выращивала цветы и рассаду. Да и свою однокомнатную квартиру Геня сдала.
Все шло тихо, мирно в семье Егорушки, родители никогда не ссорились и дружно вопили на сына, когда он пытался капризничать. Иногда только Дима напивался до бесчувствия, поколения алкоголиков делали свое дело, однако Геня умела выводить мужа из запоя, и – умная женщина – она как-то изловчилась, накопила денег и приобрела для Димы подержанную машину синего цвета, ездить за город. Дима ошалел от счастья, все свободное время возился с этой машиной, доводил ее до кондиции, и они теперь ездили на дачу на своем транспорте, не в электричке и не в битком набитых автобусах с рюкзаками, с сумками на колесиках, с ящиками упакованных цветов в руках, нет, о нет!
Все? Нет, не все. Первое: Е.К. так и не вышла замуж за Диму. Второе: суровая жизнь закалила Диму и Геню до состояния стали, а Егорушка рос мягкий, ласковый, как бы безвольный, и уже виделся за горами призрак его возможного будущего, будущего всех мужчин Диминой семьи, и история зарождения Егорушки сулила также и со стороны матери легкомыслие и случайные связи.
Крепко думали отец с матерью, оценивая внезапно протрезвевшими сердцами свое прошлое и тот грешный момент, когда они сплелись на диванчике полуголые, похотливые, страстные, и ребенок зародился в этот нечестивый, незаконный миг... Светлым, страшным заревом вставала прошлая жизнь их племен и родов, установивших строгие правила совокупления, нужные для воспитания таких же твердых устоев у детей, чтобы все шло без стыда и сомнений, да.
Что из него выйдет, что, трепетали родители и тем суровей относились к своему простенькому, добродушному, вечно сияющему Егорушке, который всем все отдавал, все терял в школе, вечно жаждал друзей, любви, поцелуев и часто плакал, наказанный, в своей комнатке, и опять совался с поцелуями к мамочке и папочке, своим единственным на земле, рыдал и прощал, и тянулся всем существом к двум суровым богам, Диме и Евгении Константиновне, а они все замирали в предчувствии...
Людмила Стефановна Петрушевская
Скрипка
Она врала безудержно, путалась сама в своих рассказах, забывала то, что говорила вчера, и так далее. Это был типичный, легко распознаваемый случай вранья, напускания на себя важности и преподнесения всех своих действий как каких-то важных, имеющих большие последствия, в результате чего должно было что-то произойти, но ничего не происходило; а она все с тем же своим важным видом тащилась через всю палату, неся немного на отлете голубой конверт, в котором содержалось, вероятно, не бог весть какое послание, но она несла его с чудовищной важностью, всем своим видом демонстрируя высшую необходимость послать письмо. То, что содержалось в ее письме, приблизительно было знакомо всем присутствующим в больничной палате,– но, очевидно, было знакомо только намерение, с которым посылалось письмо, а не то, в какие слова она облекла это свое явное намерение, в какую форму все эти свои жалкие, всем очевидные желания упрятала и как на этот раз наврала избраннику своего сердца, некоему инженеру Валерию, живущему в другом городе.
Из этого, однако, никак не следует, что она, эта самая Лена, была болтлива или охотно вступала в объяснения по поводу своего теперешнего положения. Напротив, она была немногословна и излишне церемонна, в особенности эта церемонность выступала на сцену во время обхода главного врача, который любил с Леной беседовать, обходя по понедельникам больных. Главный врач, отечески нахмурившись, говорил, что все идет как надо, и если все так и в дальнейшем пойдет, то наша студенточка поправится и выйдет еще немного погулять, прежде чем наступит самое главное; и что бояться выходить на улицу не надо, перебивал он затем Лену, надо, надо перед родами подышать свежим воздухом, прогуляться по парку, набраться сил. "Ну а как руки?спрашивал он у Лены.– Как руки скрипачки, не отвыкнут они от струн и смычка, ведь, как известно, музыканты, да еще консерваторцы, должны заниматься в день по скольку часов?" – "По четыре, иногда по пять,– отвечала Лена, нимало не краснея,– а перед экзаменом по специальности столько, чтобы только не растянуть сухожилия,– а уж это дело выносливости".
Профессор шел дальше и наконец исчезал из палаты, и каждый продолжал заниматься своими делами, а Лена, трудолюбивая Лена, снова садилась за письмо и писала, писала, писала, пока не подходила пора запечатывать всю эту писанину и торжественно нести ее через всю палату к выходу. Или еще она шла звонить и с кем-то вела тихие переговоры, очевидно, сугубо делового характера – по ее лицу было видно, что она что-то хочет выяснить чрезвычайно важное и решающее для себя, и так происходили каждый день с этими телефонными разговорами – всякий раз было все то же озабоченное лицо, тот же тишайший голос, те же неопределенные, непонятные вопросы.
Несмотря на эти сугубо деловые телефонные разговоры, а значит, и наличие кого-то, кто что-то делал для Лены,– к ней никто никогда не приходил, и соответственно ничего на ее тумбочке не стояло, кроме пустого стакана, накрытого бумажной салфеткой.
Лена после первых дней молчаливого лежания в постели – ей не разрешили ходить, как вообще в этой больнице было принято не разрешать ходить, если имелись хоть малейшие намеки на осложнения,– так вот, после первых дней обязательного вылеживания ей наконец разрешили ходить, и она отправилась со своим очередным письмом в голубом конверте куда-то вон из палаты. Она начала ходить взад и вперед, у нее завелись какие-то тихие многозначительные знакомства с нянечками и сестрами – однако ради чего Лена предпринимала эти свои секретные переговоры с нянечками и сестрами, было неизвестно, потому что никаких реальных результатов они не давали: к Лене по-прежнему никто не приходил, по-прежнему зиял пустотой ее чистый стакан, с которым она иногда ходила пить воду. Еще Лена занималась тем, что трудилась над письмами, или шла причесываться в коридор к зеркалу, или скромно ела свой больничный обед. И всему этому, следует отметить, она придавала какой-то высший, не поддающийся толкованию смысл.
И единственным каналом, по которому просачивались хоть какие-то сведения о Лене, были ее разговоры с профессором по понедельникам, во время обхода, когда она, разрумянившись, лежала на своих высоких подушках и отвечала тихим голосом на вопросы профессора, хотя тот все мог знать по истории болезни.
Однако профессор спрашивал, а Лена ему отвечала, и из этих тихих, кратких ответов замершая палата узнавала, например, что Лена упала в обморок на улице и что подруга вызвала "скорую помощь". Далее на вопросы профессора Лена отвечала, что чувствует сейчас сильную слабость, головокружение, иногда боли в пояснице. "Полежите, полежите у нас",– говорил профессор после этих разговоров, переходя к следующей кровати.
Каждый понедельник у них возобновлялись краткие беседы, во время которых Лена однообразно жаловалась на головокружение и какую-то слабость,а анализы у нее были, как выяснилось тут же, прекрасные, и с сердцем дела обстояли прекрасно,– и вот в один прекрасный день, в один из понедельников, профессор назначил Лену на выписку, рекомендовав ей при этом как можно больше двигаться, чтобы снять слабость, образовавшуюся от лежания в больнице, и хорошенько заняться гимнастикой и подготовиться к родам, чтобы быть крепкой и сильной и все хорошо перенести. Профессор шутливо пригласил Лену приходить рожать в его дежурство, спросил в который раз, будет ли она присылать ему билеты на свои сольные концерты,– и удалился восвояси.
К этому дню, к этому понедельнику, Лена уже освоилась в палате и понемногу рассказывала о своем муже Валерии, инженере, который живет в другом городе и сейчас не может приехать. Лена рассказывала также, что была под Новый год у него дома и что родители прекрасно ее встретили и так далее.
Она все так же трудолюбиво писала письма и своей торжественной походкой шествовала через всю палату к дверям, и вела все те же секретные переговоры с нянечками, и так же тихо беседовала со своей подругой по телефону – и все понапрасну.
Однако следует сказать, что в это время ее тумбочка уже не пустовала, она была заполнена всякими фруктами и овощами и вообще едой. Это заполнение произошло довольно скоро, сразу же, как только женщины догадались о действительном положении вещей. Они сначала робко и совестливо, а затем все более спокойно и свободно начали носить на тумбочку Лены свои припасы, и Лена также сначала робко и совестливо, а затем все более свободно стала распоряжаться этими дарами: она без конца ела, грызла, тащилась к умывальнику мыть на тарелочке фрукты и снова ела. Она ела яблоки, салат, сыр и колбасу, конфетки и даже однажды съела половину кочана сырой капусты, которую как-то передали в палату для одной женщины с больным желудком.