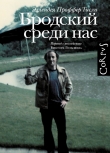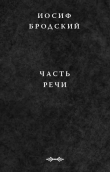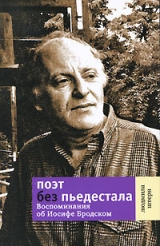
Текст книги "Поэт без пьедестала: Воспоминания об Иосифе Бродском"
Автор книги: Людмила Штерн
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава III
ЖИЗНЬ ДО БРОДСКОГО
Как-то мы с Бродским вспоминали детство – каждый, естественно, свое. Я рассказала, что прекрасно помню день, когда месяца через полтора после Победы, то есть в середине июня 1945 года, в город вошли войска Ленинградского фронта. Был солнечный, необычно жаркий день. Мы с мамой и папой стояли на углу Воинова и Литейного, а с Выборгской стороны двигались через Литейный мост колонны войсковых частей. Они шли словно в коридоре, образованном ликующей толпой. Народ встречал солдат восторженно, им бросали цветы, конфеты и даже эскимо. Многие плакали, в том числе и мои родители.
Когда мимо торжественно проходила конница, женщины подбегали к кавалеристам и подсаживали к ним в седло своих детей. Дети, попискивая от восторга, проезжали полквартала, а мамы шли рядом, и через несколько минут детей снимали.
Рядом с нами стояла семья, – не знаю, почему я ее запомнила: высокий мужчина в военно-морской форме, коротко стриженная молодая женщина в очках и рыжий мальчик лет пяти. Мальчишка весь извелся. Он плакал и просил, чтобы его тоже посадили прокатиться, а мама говорила: «Ты слишком маленький, все эти дети старше тебя, им по крайней мере десять лет». Так его и не покатали...
«Может быть, это был ты?» – «Вполне возможно, – согласился Бродский. – Мы с родителями там стояли, и больше всего на свете я хотел прокатиться верхом, но мне не разрешили». И, глядя на Иосифа, я вдруг я отчетливо и ясно увидела рыжего страдающего мальчишку.
…Наверное, взрослого Бродского я впервые увидела летом 1957 года. Это «наверное» вытекает из фразы, сказанной Иосифом при нашем формальном знакомстве: «Зуб даю, я где-то вас раньше видел». Вообще-то звучит как дешевое клише, но в данном случае это было сказано неспроста. И он, и я работали летом 1957-го в Пятом геологическом управлении на смежных планшетах. Он – на миллионной съемке на Белом море, я – на полумиллионной в Северной Карелии. Мы вполне могли столкнуться на собрании перед началом сезона, в бухгалтерии, на камералке или просто в коридоре.
Формально же мы познакомились на свадьбе моей подруги Гали Дозмаровой. До недавнего времени я была убеждена, что это произошло 20 мая 1958 года.
Число и месяц – 20-е мая – ни у кого возражений не вызывает, а вот 1958 год... Сопоставление некоторых событий ставит этот год под сомнение.
«Если ты уверена, что познакомилась с Осей в 1958-м, то это, скорее всего, был мой день рождения, – написала Дозмарова в электронном письме из Флоренции. – А если ты настаиваешь, что на свадьбе, то, скорее всего, это было в 1960-м».
«Скорее всего» – неплохой оборот для даты собственной свадьбы.
На 1960-й косвенно указывает еще один факт: в тот год Бродский подарил на день рождения моей дочери Кате ракетку для бадминтона. Катя родилась в декабре 1958-го. Преподнести такой подарок двухлетней девице еще куда ни шло, но новорожденной – ни в какие ворота.
Я неделю презирала себя за лень (надо было, как Нина Берберова, всю жизнь вести дневник), а потом решила – пусть будет 1959. В конце концов, плюс-минус один дела не меняют.
Итак, я познакомилась с Иосифом Бродским 20 мая на свадьбе моей подруги Гали Дозмаровой. Но прежде, чем рассказать о самом знакомстве с Бродским, я, будучи назначена Пименом, должна описать жениха и невесту, историю их романа, гостей и приятелей, а также грубой кистью в несколько мазков обозначить фон, на котором действовали наши герои.
Невеста, Галина Сергеевна Дозмарова-Харкевич (в дальнейшем именуемая Галкой), выглядела экзотично: раз увидишь – не забудешь. Неуправляемая копна каштановых волос, короткий, с намеком на курносость нос и большой чувственный рот. Представьте себе сигарету в углу этого чувственного рта, прищуренный от дыма серо-зеленый глаз, гитару в руках, абсолютный слух и низкий, хрипловатый голос, который сегодня назвали бы то ли сексапильным, то ли сексуальным. Кроме того, будучи мастером спорта по легкой атлетике, она обладала гибкой спортивной фигурой... Короче, многие сходили по ней с ума.
Галка была (и есть) человеком, созданным для утешения и лечения моральных травм. Кто только не рыдал у нее на груди! Кому только не подкидывала она деньжат то на выпивку, то на опохмелку, то просто на жизнь... Бездомные у нее ночевали, голодные кормились. Было время, когда Бродский от нее не вылезал. На дверях ее бывшего дома следовало бы прибить бронзовую доску: «Здесь, за каменной стеной, жил настоящий друг».
Галкино происхождение окутано легендами. Говорили, что ее мать, цыганка, во время войны была летчицей-истребителем и получила звание героя Советского Союза. Цыганка и летчик-истребитель – сочетание, согласитесь, не тривиальное. Но когда выяснилось, что Галкина мать, Раиса Фаддеевна Пивоварова, хоть и вправду летчик-истребитель, но не цыганка вовсе, а еврейка, брови окружающих поползли еще выше.
В сорок втором, после брюшного тифа, Раиса Фаддеевна оглохла на одно ухо и была переведена из скоростной авиации полка Марины Расковой в полк тихоходной авиации. При переводе ей подарили самолет с тигром на борту (он сгорел при взятии Киева) и именной пистолет... Так что Галкина родословная вполне может считаться романтической.
Странно, что, дружа с ней, я абсолютно не помнила, откуда взялся ее жених Толя Михайлов. Более того, на свадьбе я видела его в первый и последний раз в жизни, и за прошедшие с тех пор сорок лет услышала о нем только однажды. Нет, не от Галки, а от Бродского. Kaк-то в Нью-Йорке, Иосиф с несвойственным ему воодушевлением рассказал, что в Праге встретился с Толей Михайловым, пришедшим на его литературный вечер. Его рассказ звучал так:
– Подходит ко мне после выступления вполне лысый немолодой чувак и говорит: «Иосиф, вы, конечно, меня не помните. Я – Толя Михайлов». – «Как же, – говорю, – прекрасно помню, я сразу вас узнал».
– Через тридцать пять лет? Каким образом? Ты же видел его один раз в жизни! – удивляюсь я.
– По свитеру. Он был в нем на свадьбе. Так вот, Толя стал выдающимся физиком, живет в Праге, и мы замечательно провели время. Он меня поразил – пригласил в дорогой ресторан.
– Что в этом удивительного?
– А то, что в ресторан всегда приглашаю я.
Как я уже сетовала, никакими сведениями о женихе Толе Михайлове, кроме добрых слов о нем Иосифа Бродского вечность спустя, я не располагала. Но серьезное бытописательство подразумевает добросовестный сбор материала. И я послала Дозмаровой во Флоренцию очередное электронное письмо: «Откуда взялся Толя Михайлов? Зачем ты вышла за него замуж? Сколько прожила и почему разошлась?»
Через два часа пришел исчерпывающий ответ:
Толя Михайлов, на пять лет меня моложе, мама из аристократической семьи, переводчица с японского языка, папа – из крестьян, был политруком на корабле. Я познакомилась с ним в экспедиции, в Южной Якутии, близко Китай, я боялась войны и захотела дом и семью. Претендентов было три: Генка Штейнберг – вялотекущий роман длиною в несколько лет, Гошка Шилинский из профессорской семьи и, наконец, Толя. Красив как бог и искренне влюблен. Смотреть на него было одно удовольствие – словно в Лувре побывала, и это решило дело. Остальные женихи эстетику мою оценили. После трудного пятимесячного сезона – от снега до снега – я вернулась в Ленинград, и мы сняли комнату на Коломенской, 27. Мне хватило двух месяцев, чтобы разобраться. Я дала ему прозвище «половой эксцентрик» и сказала, что с меня довольно. И только крупные слезы на его благородном лице и попытка броситься под поезд на станции метро «Московская» разжалобили меня, и я протянула эту «совместовку» еще два года.
Целую, твоя Г. Д.
Гораздо более памятными были «до-Толин» и «пост-Толин» Галкины возлюбленные. Оба они приятельствовали с Бродским и заслуживают упоминания в мемуаристике.
Герой «до-Толиного» романа, Генрих Семенович Штейнберг (именуемый в дальнейшем Генкой), был приятелем Евгения Борисовича Рейна со времен пионерских лагерей.
Ныне Г. Штейнберг – академик, директор собственного Института вулканологии, бесстрашный покоритель вулканов и сердец. Любопытно, что между ним и Бродским прослеживалось определенное сходство.
Иосиф Бродский не мог вынести чужого интеллектуального превосходства и всю энергию своей души направлял на интеллектуальную победу над собеседником. Генрих Штейнберг не мог вынести чужого превосходства ни в какой сфере, но доказать свое мог в довольно узких пределах. Всю энергию своей души он направлял на демонстрацию мужского потенциала, отваги и героизма. Если соединить мощные энергетические потоки Бродского и Штейнберга в одном человеке, получился бы настоящий супермен, которого следовало «клонировать» для выживания усталого человечества.
Штейнберг уже обессмерчен в художественной литературе Андреем Битовым, рассказавшим в повести «Путешествие к другу детства» о Генкиных подвигах. Один из подвигов, а именно шестой, описан неточно. В отличие от Битова, я оказалась его свидетелем, и обязанность моя – внести поправки (см. ниже рассказ «Прыжок с Ласточкина Гнезда»).
Более известным миру является и другой возлюбленный Дозмаровой – бард Юра Кукин, ставший отцом Галиной дочери Маши. Песни Кукина «Ну что, мой друг молчишь? Мешает жить Париж...» и «Понимаешь, понимаешь, это странно...» Бродский распевал не только в тайге, но и в нью-йоркских компаниях.
А сейчас – рассказ о легендарном подвиге Генки Штейнберга.
ПРЫЖОК С ЛАСТОЧКИНА ГНЕЗДА
В августе 1955 года, закончив летнюю крымскую практику, группа студентов Ленинградского горного института решила вместе провести оставшиеся дни каникул. Было нас одиннадцать человек. Кроме геологов и геофизиков в нашу компанию затесались два молодых человека, не имеющих отношения к геологии.
Первый – Виктор Ихилевич Штерн (в дальнейшем именуемый Витей), будущий профессор Бостонского университета, с которым весной, перед отъездом на практику, у меня завязался роман и за которого через год я вышла замуж. (Для справки: недавно мы сыграли золотую свадьбу.)
Второй – поэт Евгений Борисович Рейн (в дальнейшем именуемый Женей). О моем знакомстве с Рейном – отдельный рассказ.
Мы в количестве одиннадцати человек прибыли в Ялту и сняли одну комнату с тремя кроватями. Совершенно не помню, кто с кем, на какой кровати и в какой последовательности спал. Впрочем, это и не существенно, ибо под словом «спал» я подразумеваю физический сон, а не то, о чем можно подумать на закате сексуальной революции. В те годы мы были слишком целомудренны для групповых развлечений.
Прокантовавшись неделю в Ялте, мы решили отправиться в Сочи на трофейном теплоходе «Россия», по слухам, принадлежавшем в прошлом лично Гитлеру. Каждый подсчитал свои ресурсы. Они были такие тощие, что о каютах следовало забыть. Мы могли купить только «входные» билеты на палубу. У Дозмаровой ресурсов практически не было. И даже «скинуться» не получалось. Галкина поездка оказалась под угрозой, и мы приуныли. Но тут с таинственной полуулыбкой выступил вперед Генка Штейнберг:
– О деньгах не беспокойтесь, у меня есть план.
План заключался в следующем: завтра Генка отправится в Ласточкино Гнездо. Там много домов отдыха и санаториев, в том числе и военный санаторий для командного состава. Иначе говоря, на пляже валяются дохнущие от скуки богатеи. Генка скажет кому-то, что может за деньги прыгнуть с Ласточкина Гнезда. Вояки заведутся, Генка прыгнет и... Дозмарова поедет на Кавказ.
Наутро Штейнберг исчез. Куда – не знаем, потому что на все предложения его сопровождать получили категорический отказ.
Вернулся он часа в четыре, но почему-то не домой. Мы случайно обнаружили его на ялтинской почте. По его словам, он только что отправил родителям денежный перевод.
– Откуда деньги-то? Неужели прыгнул? Ничего не отбил и не сломал?
Вместо ответа Генка задрал рубашку и оголил живот и грудь, щедро облитые йодом. Йодом были также вымазаны шея, колени и другие детали его организма. Мы зацокали языками и потребовали подробностей. Он отмахивался, не желая, видимо, хвастаться своим героизмом. Но мы пристали, и Генка раскололся.
На пляже в Ласточкином Гнезде он как бы случайно разговорился с одним загорающим телом. Слово за слово... и Генка сказал, что за две тыщи ему не слабо сигануть с утеса. Вокруг собрался народ. Кто-то стал отговаривать, кто-то подзуживать. Наконец, ударили по рукам.
Генка прыгнул, отбил все, что можно было отбить (см. облитые йодом места) и потерял сознание. Его выловил дежуривший на лодке спасатель и привел в чувство... Словом, выжил.
И что вы думаете? Сволочные отдыхающие не вручили ему обещанную сумму ни в конверте, ни на блюдечке, а вместо этого стали кричать: «Все видели, как парень прыгнул с Гнезда? Давайте, кто сколько может». Захотели очень немногие, и Генка, придя в сознание, должен был подходить к каждому за «жалкой подачкой». Набралось рублей шестьсот. «На боль наплевать, – говорил Генка, – но этого унижения я стерпеть не мог».
Тот же спасатель посадил его в автобус. На обратном пути Генкин рассудок якобы помутился. Он открыл окно автобуса и стал выбрасывать эти чертовы деньги... Все выкинуть не успел, потому что приехали в Ялту. И вот оставшиеся башли он отправил родителям в Ленинград.
– А как же Галкин билет? – заволновались мы.
– Недостойна она этих... – (Не помню точно, чего она была недостойна – то ли страданий, то ли мучений, то ли просто «много чести».)
На Галкин билет мы все же денег наскребли и на следующий день отчалили на четвертой палубе «России». Днем стояла адская жара, и матросы, поливая из шланга палубу, по нашей просьбе поливали и нас. Ночью, напротив, шел проливной дождь, и те же матросы притащили и закрыли нас брезентовым полотнищем. К утру, как пишут в романах, «распогодилось, засияло солнце, засверкало море». За двадцать минут до прибытия в Сочи Генка Штейнберг объявил, что теперь он прыгнет в море с борта «России». Но с условием: пусть не он, а мы будем собирать с пассажиров башли. Мы отговаривали, Генка уперся, подбежал к борту, начал разминаться. Отжимался, растягивался и приседал, пока мы не подошли к причалу. Прыгать было поздно.
Эпилог. Перед отъездом из Ялты мы с Витей, терзаемые подозрениями, попросили нашего приятеля Виталия Пурто, оставшегося в Ялте, смотаться в Ласточкино Гнездо и спросить, прыгал ли кто-нибудь оттуда накануне.
Через два дня на Сочинском почтамте в окошке «до востребования» нас ждала такая телеграмма:
Последний раз Ласточкина Гнезда прыгал пьяный матрос 1911 году за золотые часы тчк. Разбился насмерть тчк. Виталий.
Глава IV
ДУХОВНЫЙ ОТЕЦ
А теперь перенесемся еще на два года назад, в 1953 год. Нашему герою только что исполнилось тринадцать лет. Поскольку он в этом возрасте стихов не писал, в этой главе он фигурировать не будет: пусть немного подрастет...
Я училась в десятом классе. В марте 1953 года умер товарищ Сталин, в связи с чем я чуть было не лишилась аттестата зрелости. Нас собрали в Голубом зале 320-й женской школы Фрунзенского района (кстати, бывшей Стоюнинской гимназии, которую окончила моя мама), где мы должны были неутешно скорбеть. Учителя и ученики рыдали в голос. Некоторые прямо захлебывались от слез, другие икали. У меня с публичным проявлением скорби уже тогда были проблемы: я начала хихикать, и не могла остановиться. Меня вывели из зала, на следующий день исключили из комсомола и собирались выгнать из школы. Но мама достала медицинскую справку о том, что я страдаю невротическими аномалиями – результат детской травмы. Аномалии выражаются в неадекватном проявлении чувств: смехе от горя и плаче от радости.
Летом, после окончания школы и перед вступительными экзаменами в институт, мы с отцом поехали на неделю в Зеленогорск. Лежим на пляже, а недалеко от нас расположилась дама средних лет с сыном. Сын – брюнет, губошлеп с крупными чертами лица, вяло листает учебник химии. На лице – покорность и скука. Когда дама уходит купаться, молодой человек торопливо вытаскивает из-под полотенца другую книжку и тонет в ней носом. Дама возвращается, и до нас доносится ее гневный голос: «Женя, сколько раз можно говорить одно и тоже! Никаких книжек, кроме учебников! Сдашь, поступишь и читай на доброе здоровье!»
«Оцени демократические свободы в нашей семье, – смеется папа, – или, может быть, я плохой отец?»
Вскоре дама встает, обматывается полотенцем и делает прихотливые па, означающие смену мокрого купальника на сухое белье. Затем со словами «Ну пошли же, Женя, наконец» они удаляются с пляжа. Я гляжу им вслед и чувствую смутное сожаление, что не удалось с этим Женей познакомиться.
«Смотри-ка», – говорит папа, – мамаша забыла купальник». Я срываюсь, хватаю купальник и догоняю их в сосновой аллее, ведущей от пляжа к Приморскому шоссе. Улыбки, благодарность, снова улыбки. Но... визитными карточками мы не обменялись.
Формально познакомились мы через год у Мирры Мейлах на вечеринке по случаю ее дня рождения. Я была уже студенткой Горного института, a Мирра Мейлах – студенткой филфака Ленинградского университета.
Два слова о Мейлахах, которые тоже уже обессмерчены в художественной литературе. Один из членов этой семьи, выведенный под псевдонимом Б. Б., удостоился стать героем одноименного романа, сочиненным его близким другом А. Г. Найманом, который облил помоями своего героя с головы до ног. Этот Б. Б. (а в жизни – М. М.), будучи на десять лет моложе нас, на вечеринки к сестре не допускался, а в тот вечер скорбел ангиной и даже не был выпущен из своей комнаты. В середине бала я зашла проведать его. Ученик второго класса М. М. сидел в постели с закутанной в компресс шеей и, под окрики домработницы Фроси, с отвращеньем пил горячее молоко. Я присела на край кровати, и он вынул из-под подушки заранее заготовленную записку. Написана она была без единой орфографической ошибки и предназначена мне.
«В этом доме никто меня всерьез не принимает, а я очень люблю джаз. И я бы хотел всю жизнь сидеть рядом около с тобой и слушать пластинки».
...Накануне этого дня рождения позвонила Мирра, перечислила гостей, и в том числе одного знакомого из «Техноложки», который знает русскую поэзию и вообще литературу лучше всех на земном шаре. «Лучше меня?» – спросила наглая я. В ответ – сардонический хохот.
Студентом из «Техноложки», знающим русскую поэзию и вообще литературу «лучше всех на земном шаре», оказался молодой человек с зеленогорского пляжа по имени Женя Рейн.
Кстати, впоследствии мой отец подверг сомнению знаменитую Женюрину эрудицию, язвительно заметив, что «старик знает все, но неточно».
Мы с Рейном друг другу понравились. Некоторое время он даже за мной приударивал, но лениво и не целеустремленно. Впрочем, в памяти осталось несколько ночных звонков с попытками покорить меня поэзией.
– Слушай, чего я тебе посвятил, – гудел Рейн в трубку. – «Была ты всех ярче, нежней и прелестней. Не гони же меня, не гони».
– Женька, не валяй дурака, это Блок.
– А как насчет «Не всегда чужда ты и горда, и меня не хочешь не всегда. Тихо, тихо, нежно, как во сне, иногда приходишь ты ко мне»?
– А это Гумилев, из сборника «Костер».
– Ну и черт с тобой, спокойной ночи.
Я помню, как впервые пришла к Рейну в гости. На столе, прикрытая крахмальной салфеткой, притаилась румяная ватрушка. К ней была прислонена записка:
Женя, оцени мое благородство. Я спекла этот шедевр для твоей прекрасной дамы. За это в течение двух недель будешь без звука выносить поганое ведро и ходить за картошкой. Если она не придет, не вздумай слопать ватрушку сам. Завтра ожидаются Григорий Михайлович и Соня. Целую, мама.
В общем, роман с Рейном завял, так и не вспыхнув, и превратился в дружбу длиною в полстолетия. Мне посчастливилось стать и первым издателем его стихов. В 1963 году я напечатала на машинке в пяти экземплярах шестьдесят два его стихотворения. Мы собрали их в книжечку, переплели в красный с черными силуэтами домов «ситчик» и приклеили фотографию Рейна с сигаретой во рту перед стаканом вина. Один экземпляр сохранился и стоит у меня на полке, рядом с многочисленными его сборниками, увидевшими свет более четверти века спустя.
Бродский, познакомившись с Рейном, сразу оценил его талант и масштабность. Помню, что самым любимым стихотворением Иосифа в этом самодельном рейновском сборнике были «Комнаты»:
Я посещал такие комнаты,
в них доски неизвестной мебели,
в них подлинники незнакомые,
как будто бы меня там не было.
Неправда, был я в этих комнатах,
снимал ботинки, гладил волосы,
десяток слов, пристрастьем тронутых,
произнести мне удавалося.
Но я столы водил по комнатам,
и ставил стол почти у выхода,
столам заклеенным и погнутым
была какая в этом выгода.
А девушки, ценя материи
необычайных качеств зрительных,
располагали так на теле их,
что были грубо поразительны.
Простив столов перемещение
и кое-что из прежних выходок,
не требовали освещения.
Была какая в этом выгода?
Утрами, выходя на площади,
грузовиками дальше вывезен,
я спрыгивал на крик: «Немедленно
слезайте, вы нужны, послушайте», —
из кузова на землю вызванный.
А комнаты, как были комнаты?
Их ремонтировали, в них отчаивались,
какими стали они – в начале есть.
А мое любимое стихотворение из этого сборника – «Сосед Котов».
В коммунальной квартире жил сосед Котов,
расторопный мужчина без пальца.
Эту комнату он отсудил у кого-то.
Он судился, тот умер, а Котов остался.
Каждый вечер на кухне публично он мыл ноги
и толковал сообщенья из московской газеты «Известия».
И из тех, кто варили на кухне и мылися, многие
задавали вопросы – все Котову было известно.
Редко он напивался. Всегда в одиночку и лазил...
Было слышно и страшно, куда-то он лазил ночами,
доставал непонятные и одинокие вазы,
пел частушки, давил черепки с голубыми мечами.
Он сидел на балконе и вниз, улыбаясь, ругался,
курил и сбрасывал пепел на головы проходящих.
Писем не получал, телеграмм и квитанций пугался
и отдельно прибил – «А. М. Котов» – почтовый ящик.
Летом я переехал. Меня остановят и скажут:
– Слушай, Котова помнишь? Так вот, он убийца,
или вор, или тайный агент. – Я поверю. Мной нажит
темный след неприязни. За Котова нечем вступиться.
За фанерной стеной он остался неясен до жути.
Что он прятал? И как за него заступиться?
Впрочем, как-то я видел: из лучшей саксонской посуды
На балконе у Котова пили приблудные птицы.
Это блистательное описание советского человека несомненно займет достойное место в «совковом» этнографическом гербарии.
Рейн привел Иосифа к Анне Ахматовой. Рейна Бродский называл своим учителем. Разумеется, не единственным. Своими учителями Иосиф считал Мандельштама, Цветаеву, а также английских поэтов Фроста и Одена. Но именно Рейну первому он читал только что написанные стихи. Рейну он посвятил несколько стихотворений, лучшие из которых, на мой взгляд, – ранний «Рождественский романс», а много лет спустя – стихи из «Мексиканского дивертисмента». В предисловии к вышедшему в свет в 1991 году сборнику Рейна «Против часовой стрелки» Бродский писал:
Если <...> рай существует, то существует и возможность того, что автор этой книги и автор предисловия к ней встретятся там, преодолев свои биографии. Если нет, то автор предисловия останется во всяком случае благодарен судьбе за то, что ему удалось на этом свете свидеться с автором этих стихотворений под одной обложкой.