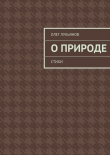О природе вещей

Текст книги "О природе вещей"
Автор книги: Лукреций Тит
Жанры:
Античная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
По бездорожным полям Пиэрид я иду, по которым
Раньше ничья не ступала нога. Мне отрадно устами
К свежим припасть родникам и отрадно чело мне украсить
Чудным венком из цветов, доселе неведомых, коим
Прежде меня никому не венчали голову Музы.
Ибо, во–первых, учу я великому знанью, стараясь
Дух человека извлечь из тесных тенет суеверий,
А, во–вторых, излагаю туманный предмет совершенно
Ясным стихом, усладив его Муз обаянием всюду.
Это, как видишь ты, смысл, несомненно, имеет разумный:
Если ребенку врачи противной вкусом полыни
Выпить дают, то всегда предварительно сладкою влагой
Желтого меда кругом они мажут края у сосуда;
И, соблазненные губ ощущеньем, тогда легковерно
Малые дети до дна выпивают полынную горечь;
Но не становятся жертвой обмана они, а, напротив,
Способом этим опять обретают здоровье и силы.
Так поступаю и я. А поскольку учение наше
Непосвященным всегда представляется слишком суровым
И ненавистно оно толпе, то хотел я представить
Это ученье тебе в сладкозвучных стихах пиэрийских,
Как бы приправив его поэзии сладостным медом.
Может быть, этим путем я сумею твой ум и вниманье
К нашим стихам приковать до тех пор, пока ты не постигнешь
Всей природы вещей и познаешь от этого пользу.
После того, как тебе объяснил я духа природу:
Как он живет, находясь в связи непосредственной с телом,
И, при разрыве ее, возвращается в первоначала,
Я приступаю к тому, что тесно сюда примыкает.
Есть у вещей то, что мы за призраки их почитаем;
Тонкой подобно плеве, от поверхности тел отделяясь,
В воздухе реют они, летая во всех направленьях.
Эти же призраки, нам представляясь, в испуг повергают
Нас наяву и во сне, когда часто мы видим фигуры
Странные призраков тех, кто лишен лицезрения света;
В ужасе мы ото сна пробуждаемся, их увидавши.
Но и подумать нельзя, чтоб могли из глубин Ахеронта
Души уйти, или между живых пролетали бы тени,
Иль чтоб могло что–нибудь от нас оставаться по смерти,
Если и тело и дух, одновременно с телом погибнув,
Врозь разошлись и опять разложились на первоначала.
Значит, я здесь говорю, что с поверхности всяких предметов
Отображения их отделяются тонкого вида.
Даже тупому уму понять это будет нетрудно.
Но, объяснивши тебе предварительно сущность и свойства
Мира начал основных, и как, различаясь по формам,
Непроизвольно они несутся в движении вечном,
Также и то, как из них созидаются всякие вещи,
Я приступаю к тому, что тесно сюда примыкает.
Есть у вещей то, что мы за призраки их почитаем;
Тонкой они подобны плеве, иль корой назовем их,
Ибо и форму и вид хранят отражения эти,
Тел, из которых они выделяясь, блуждают повсюду.
Прежде всего, от вещей очевидных для нас и доступных
Много таких выделяется тел, что расходятся сразу:
Дым от полен, например, или жар, от огня исходящий,
Или таких, что плотней и гораздо сплетеннее, вроде
Круглой запрядки цикад, оставляемой летней порою,
Или же тонкой плевы, что спадает с поверхности тела
Новорожденных телят, или скользкой змеи оболочки,
Что оставляет она на колючках; ведь часто мы видим,
Как на ветвистых кустах повисают летучие шкурки.
Если же всё это так, то и тонкие образы также
Должны итти из вещей, от поверхности тел отделяясь,
Ибо никак доказать невозможно, что те выделенья
Могут скорей отходить от вещей, чем тончайшие эти.
Да и особенно, раз заключает поверхность предметов
Множество крохотных тел, что способны от них отрываться
В точном порядке, всегда сохраняя их облик и форму,
Мчась несравненно быстрей, потому что им меньше препятствий,
Так как не часты они и на первом находятся месте.
Ибо мы видим, что много вещей к выделеньям способны
Не из глубин лишь и недр, как сказали мы раньше, но также
С самой поверхности; так они часто и цвет испускают.
Это бывает, когда фиолетовый, или же красный,
Иль желтоватый покров над обширным театром натянут
И развевается он, к шестам прикрепленный и к брусьям.
Тут и сидящий народ на ступенях, и сцены пространство
Вместе с нарядом матрон и сенаторов пышной одеждой
Эти покровы своей заливают цветною волною,
И, чем теснее кругом театрального зданья ограда,
Тем и цветистей на всем отражается отблеск прекрасный,
И улыбается всё при умеренном солнечном свете.
Если ж окраска идет от поверхности тканей, то должны
Всякие вещи давать и подобия тонкие также,
Раз от поверхности тел отлетает и то и другое.
Значит, как видно, следы несомненные форм существуют;
Реют повсюду они, состоя из прозрачнейшей ткани,
И, отделяясь, совсем недоступны для зрения порознь.
Кроме того, всякий дым, как и запах, и жар, и другие
Вещи, подобные им, истекают в рассеянном виде
Из–за того, что, внутри зародясь, из глубин возникая,
По закоулкам пути раздробляются: нет им прямого
Выхода, чтобы уйти, вырываяся сплоченным целым.
Наоборот же: плеву тончайшую внешней окраски
Не в состояньи ничто разорвать при ее отделеньи,
Раз наготове она и на первом находится месте.
Призраки все, наконец, что являются нам, отражаясь
В зеркале или в воде, иль в поверхности всякой блестящей,
Так как по виду они настоящим предметам подобны,
Должны из образов быть, что исходят от этих предметов.
Значит, у всяких вещей существуют тончайшие формы,
Или подобия их, хоть никто не способен их видеть
Порознь, но все же, путем беспрерывных своих отражений,
Видны бывают они, отдаваясь от глади зеркальной.
И сохраняться нельзя, очевидно, им иначе, чтобы
В точности отображать всевозможных предметов фигуры.
Ну, а теперь ты узнай о тончайшей природе такого
Образа. Прежде всего, ты прими во вниманье, насколько
Первоначала лежат за пределами нашего чувства,
Будучи мельче всего, что уже недоступно для глаза.
Чтобы, однако, иметь подтверждение этого, надо
Выслушать вкратце тебе, как тонки основные начала.
Много, во–первых, таких существует животных, которых
Третьей доли уже мы никак не способны увидеть.
А каковы же нутра у них части любые должны быть?
Сердца комок или глаз? Их отдельные члены, суставы?
Как они малы! А все по отдельности первоначала,
Сущность откуда души или духа должна получаться?
Разве не видно тебе, до чего они тонки и мелки?
Дальше, растения все, издающие резкий и острый
Запах, полынь, например, горьковатая, иль панацея,
Иль чернобыльник пахучий, иль терпкий тысячелистник, —
Если к любому из них ты хотя бы слегка прикоснешься
Пальцами, всё ж на руке останется запах противный.
* * *
Так что не лучше ль признать, что во множестве, многоразлично
Призраки реют вещей, но без сил и для чувств неприметно?
Но не подумай, смотри, будто те лишь летают повсюду
Призраки разных вещей, что от самых вещей отделились.
Могут рождаться они самобытно и сами возникнуть
В небе, которое мы называем воздушным пространством.
Вверх улетают они, принимая различные формы.
Так в вышине облака, как мы видим, легко заклубившись,
Светлое мира лицо омрачают порою и воздух
Нежат движеньем своим. И нередко нам кажется, будто
Там исполины летят и стелют широкие тени,
Или громада горы надвигается сверху, и камни
С гор низвергаются вдруг, заслоняя сияние солнца.
Следом же тучи бегут, принимая обличье чудовищ,
И, расплываясь затем, непрестанно свой вид изменяют,
Переходя из одних очертаний при этом в другие.
Кроме того, небеса, за минуту сверкавшие ясно,
Часто внезапно везде облекаются бурною тьмою
Так, что как будто бы весь с Ахеронта поднявшийся сумрак
Вырвался вон, захватив и заполнив небесные своды.
Вот до чего, когда черная ночь возникает из тучи,
Ужаса мрачного лик угрожает нам, сверху нависнув;
Сколь же ничтожная часть этой тучи есть ее образ,
Нам не исчислит никто и не выразит этого словом.
Ну, а теперь, как легко и как быстро рождаются эти
Призраки, как от вещей постоянным исходят потоком,
Я поясню, чтоб к словам не питал ты моим недоверья.
Ибо поверхность вещей источает всегда изобильно
То, что летит от нее. Истечения эти, встречая
Ткани какие–нибудь, проникают насквозь; но, коль скоро
Твердые камни у них на пути или дерево, тотчас
Врозь расщепляются так, что создать отражений не могут.
Если ж столкнутся они с блестящим и плотным предметом,
С зеркалом, прежде всего, – ничего не бывает такого.
Ибо им тут ни пройти, как проходят они через ткани,
Ни расщепиться нельзя: соблюдает их в целости гладкость.
Вот по причине какой отраженья оттуда к нам льются.
И, хоть внезапно поставь, хоть в любое мгновенье любую
Вещь перед зеркалом ты, – отраженье появится сразу.
Ясно теперь для тебя, что с поверхности тел непрерывно
Тонкие ткани вещей и фигуры их тонкие льются.
Множество призраков в миг, таким образом, тут возникает,
Так что мы в праве сказать, что они зарождаются быстро;
И, наподобье того, как должно во мгновение солнце
Много лучей испускать, чтобы все постоянно сияло,
Так же совсем от вещей во мгновение ока в несметном
Множестве призраки их непременно должны уноситься,
Многоразличным путем разлетаясь во всех направленьях,
Так как, куда бы вертеть мы ни начали зеркало, всюду
Вещи оно отразит, сохраняя и цвет их и форму.
Ну, а теперь, какова быстрота и подвижность, с которой
Призраки мчатся, когда сквозь воздух они проплывают,
Так что мгновенно пройти расстоянье далекое могут
К месту любому, куда побужденьем различным стремятся,
Не многословно тебе объясню, но в стихах сладкозвучных:
Лебедя краткая песнь превосходит тот крик журавлиный,
Что раздается вверху, в облаках, нагоняемых Австром.
Легким, во–первых, вещам, из мелких тел состоящим,
Чаще, чем всяким другим, быстрота очевидно присуща.
Солнечный свет, как и жар, относятся к этим предметам,
Так как они состоят из мелких начальных частичек;
Бьются как будто они друг о друга в пространстве воздушном,
Без промедленья идя непрерывно, под градом ударов:
Тотчас же луч за лучом непременно опять возникает,
Молнья за молньей летит, и одна подстрекает другую.
Значит, подобным путем непременно и призраки могут
Неизмеримую даль пробегать во мгновение ока,
Прежде всего потому, что довольно ничтожной причины,
Что бы их, сзади толкнув, далеко уносила и гнала,
Если, к тому же, вперед они столь быстролетно несутся,
И, наконец, потому, что их редкая ткань при полете
Без затрудненья пройти сквозь любые способна преграды
И просочиться везде, где угодно, в пространстве воздушном.
Кроме того, если тельца вещей, как мы видим, способны
Вон из глубин вылетать потаенных и мчаться, как мчится
Солнечный свет или жар, вылетая наружу, мгновенно
Всюду по своду небес растекаясь широким потоком,
Перелетая моря, заливая и землю и небо,
Что же ты скажешь о тех, что на первом находятся месте
И наготове стоят, и ничто им нестись не мешает?
Видишь ли ты, до чего уходить они будут скорее
И по пространству лететь во много раз дальше в то время,
Как по небесному своду проносится солнца сиянье?
Вот что послужит еще доказательством самым вернейшим
Скорости той, что вещей присуща призракам быстрым:
Стоит лишь вынести нам под открытое звездное небо
Полный водою сосуд, как сейчас же в нем отразятся
Звезды небес и лучи засверкают на глади зеркальной.
Видишь ли ты, наконец, как мгновенно является образ
Из поднебесных высот и пределов земли достигает?
Так что, опять повторю: неизбежно признать вылетанье
Телец, которые бьют по глазам, вызывая в них зренье.
Запахи также всегда от известных вещей истекают,
Так же, как холод от рек, зной от солнца, прибой от соленых
Моря валов, что кругом изъедает прибрежные стены;
Разные звуки летят постоянно по воздуху всюду;
Часто нам в рот, наконец, попадает соленая влага,
Если вдоль моря идем; а когда наблюдаем, как рядом
С нами полынный настой растворяют, мы чувствуем горечь
Так ото всяких вещей непрестанным потоком струятся
Всякие вещи, везде растекаясь, по всем направленьям;
Без остановки идет и без отдыха это теченье,
Раз непрерывно у нас возбуждается чувство, и можем
Всё мы увидеть всегда, обонять и услышать звучащим.
Дальше, раз ощупью мы, осязая любую фигуру,
Можем признать в темноте ее тою же самой, что видим
Мы среди белого дня, в освещении ярком, то, значит,
Сходным путем возбуждаются в нас осязанье и зренье.
Так что, когда мы впотьмах осязаем квадрат и таким он
Нам представляется тут, то что же квадратным при свете
Взора способно достичь, как не образ того же квадрата?
Видим из этого мы, что причиною зрения служат
Образы нам, и без них ничего мы не можем увидеть.
Призраки эти вещей, о каких говорю я, несутся
Всюду, и мчатся они, разлетаясь по всем направленьям.
Но оттого, что смотреть мы одними глазами способны,
И происходит, что там лишь, куда обращаем мы взоры,
Может по ним ударять и окраска и форма предметов.
И расстояние то, что от нас отделяет предметы,
Образ нам видеть дает и его распознать помогает.
Ибо, от вещи пойдя, он сейчас же толкает и гонит
Воздух, который меж ним и глазами у нас расположен;
Весь этот воздух тогда сквозь наши глаза проскользает
И, задевая зрачки, таким способом дальше проходит.
Так происходит, что мы различаем, насколько далеко
Каждая вещь отстоит. И чем гонится воздуха больше,
Чем протяженней струя, что наши глаза задевает,
Тем отдаленнее нам представляются разные вещи.
Надо сказать, что идет это все с быстротой чрезвычайной,
Так что мы сразу и вещь и ее расстояние видим.
Здесь не должно вызывать удивления в нас, почему же,
Ежели призраков тех, что в глаза ударяют, не можем
Видеть в отдельности мы, различаем мы самые вещи:
Так, когда ветер нас бьет, учащая порывы, иль резкий
Холод струится, то мы ведь обычно не чувствуем порознь
Ветра отдельных частиц или холода; нет, мы скорее
Их совокупность тогда ощущаем и видим, что наше
Тело удары несет, совершенно как будто бы нечто
Бьет нас, давая извне представленье о собственном теле.
Кроме того, коль стучать начинаем мы пальцем о камень,
То, прикасаясь к самой его внешней, наружной окраске,
Мы осязаньем совсем не ее ощущаем, а только
Самую твердость скалы до глубоких ее оснований.
Ну, а теперь ты узнай, почему нам за зеркалом виден
Образ; ведь кажется нам, что он вглубь отодвинут далеко.
Это похоже на то, что наружи действительно видно,
Если отворена дверь и, вид открывая свободный,
Из дому многое нам позволяет наружи увидеть.
Воздухом также двойным вызывается виденье это:
Прежде всего различать начинаем мы воздух пред дверью,
Справа и слева затем появляются створки дверные,
Свет задевает глаза после этого внешний, и воздух
Новый, и далее то, что наружи действительно видно.
Так же и образ: когда отразится от зеркала, тотчас
К нашему взору идя, пред собой он толкает и гонит
Воздух, который меж ним и глазами у нас расположен,
Делая так, что его целиком ощущаем скорее,
Нежели зеркало, мы. Но, лишь только мы зеркало видим,
Тотчас приходит от нас до него доносящийся образ
И, отраженный, опять до наших глаз достигает,
И пред собою струю он нового воздуха гонит,
Делая так, что его мы до образа видим; и это
Видеть нам образ дает в расстояньи от зеркала должном.
Так что опять повторю: удивляться нисколько не надо
Что точно так же, как в дверь, мы многое видим, и образ
Виден бывает для нас, отдаваясь от глади зеркальной,
Ибо и тут, как и там, двоякий воздействует воздух.
Части же тела, затем, что у нас расположены справа,
В зеркале будут всегда потому находиться налево,
Что, когда образ, идя, ударяется в зеркала плоскость,
Он неизменным никак обернуться не может, но прямо
Он отдается назад точно так же, как маска из глины,
Если сырою ее ударить о столб или балку;
Коль сохранила б она очертания прежние, тотчас
После удара должна наизнанку у нас обернуться:
Правый глаз у нее тут окажется левым, а бывший
Левым сначала – взамен непременно очутится справа.
Также бывает еще, что, от зеркала в зеркало образ
Передаваясь, дает до пяти и шести отражений.
И, таким образом, все потаенные даже предметы,
Хоть бы скрывались они глубоко в закоулках укромных,
Могут, извилистый путь проходя, появляться посредством
Многих зеркал и свое обнаружить присутствие в доме.
Так, отражаясь, идет из зеркала в зеркало образ:
Будучи с левой руки, переходит направо обратно
И, обернувшись, опять в положеньи является прежнем.
Мало того: зеркала из бочков, обладающих в целом
Тем же изгибом, какой существует у нашего бока,
К нам отсылают назад расположенный правильно призрак
Иль потому, что несется от зеркала к зеркалу образ
И долетает затем до нас, отразившися дважды,
Или еще потому что, идучи, образ крутится
И обращается к нам, искривлению зеркала вторя.
Далее, кажется нам, что призраки ходят и с нами
Вместе шагают и всем подражают движениям нашим
Из–за того, что та зеркала часть, от которой ушли мы,
Перестает от себя отбрасывать призраки тотчас,
Ибо отскакивать всё от вещей заставляет природа
И отражаться назад под таким же углом, как упало.
Дальше: стремятся глаза убежать и укрыться от блеска
Если же станешь смотреть ты на солнце, оно ослепляет,
Ибо и сила его самого велика, да и сверху,
В воздухе чистом летя, его призраки падают тяжко
И ударяют в глаза, приводя в разрушение ткани.
Кроме того, всякий блеск слишком яркий глаза опаляет
Часто нам в силу того, что семян в нем огня заключенных
Много, которые боль порождают, в глаза проникая.
Дальше, становится всё желтоватым, на что ни посмотрит
Всякий желтушный больной, ибо тело у них источает
Много семян желтизны навстречу призраку вещи,
Да и в глаза, наконец, у них вмешано много таких же,
Бледный оттенок всему, что затронут они, придающих.
Из темноты ж потому освещенные видим мы вещи,
Что, хотя мрачная мгла ближайшего воздуха раньше
Нам проникает в глаза открытые, их застилая,
Следом, однако, идет белизною сияющий воздух
И очищает наш взор, разгоняя все черные тени
Воздуха темного: он несравненно его и подвижней,
Тоньше гораздо его и гораздо более мощен.
Только лишь светом своим он проходы глазные заполнит,
Освободивши пути, что до этого заняты были
Воздухом темным, тотчас появляются призраки следом
Всех освещенных вещей, заставляя нас тут же их видеть.
Из освещенных же мест ничего в темноте мы не видим
Из–за того, что вослед надвигается мрачною мглою
Воздух густой и собой отверстия все заполняет;
Все занимает он тут проходы глазные, и призрак
Вещи уже никакой, ударяясь, глаза не затронет.
Если же издали мы на квадратные города башни
Смотрим, то нам потому они круглыми кажутся часто,
Что всякий угол вдали представляется нам притуплённым,
Или он даже скорей незаметен совсем: пропадает
Всякий толчок от него, и удар не доходит до глаза,
Ибо, коль воздуха слой, чрез который все призраки мчатся,
Толст, то удары слабеть начинают от частых препятствий.
Так, когда вовсе углы ускользают от нашего чувства,
Кажется нам под резец округлённой постройка из камня;
Правда, не так, как вблизи действительно круглые зданья,
Но в очертаньях своих приблизительно сходною с ними.
Кажется также, что тень шевелится наша на солнце,
По следу идя и всем подражая движениям нашим,
Ежели только шагать, по–твоему, воздух способен,
Света лишенный, и всем человека движениям вторить:
То ведь, что тенью мы все называем обычно, не может
Что–то иное собой представлять, как не воздух без света.
Это действительно так, потому что земля постепенно
Света лишается там, где солнце, идя, мы закроем,
И наполняется им в том месте, откуда уходим.
Вследствие этого нам представляется как бы бегущей
Прямо за нами та тень, что своим мы отбросили телом.
Вечно ведь света лучи изливаются прежним на смену
И исчезают, как шерсть, коль в огонь ее тянутся нити.
Вот почему так легко земля и лишается света,
И наполняется им, и смывает все черные тени.
Не допускаем при том мы, чтоб глаз хоть слегка ошибался,
Ибо увидеть, где свет, а где тени легли, – это дело
Нашего глаза; но тот же ли свет здесь сияет иль новый,
Та же иль новая тень переходит с места на место,
Иль происходит здесь то, о чем только что мы говорили, —
Этот вопрос разрешить единственно разум обязан;
Глаз же природу вещей познавать совершенно не может,
А потому не вини его в том, в чем повинен лишь разум.
Кажется нам, что корабль, на котором плывем мы, недвижен,
Тот же, который стоит причаленный, – мимо проходит;
Кажется, будто к корме убегают холмы и долины,
Мимо которых идет наш корабль, паруса распустивши.
Звезды кажутся нам укрепленными в сводах эфирных,
Но тем не менее все они движутся без перерыва,
Так как восходят и вновь к отдаленному мчатся закату,
Путь совершив в небесах и пройдя их сверкающим телом.
Кажется нам, что и солнце с луной остаются на месте,
Стоя спокойно, хотя и несутся они в самом деле.
Горы, которые ввысь из морской поднялися пучины,
Между которых проход кораблям остается обширный,
Издали всё–таки нам представляются островом целым.
Даже тогда, как уже перестали ребята кружиться,
Всё еще кажется им, что вертится атрий и ходит
Вся колоннада кругом; и едва они могут поверить,
Что не грозят задавить их, обрушившись, стены и крыша.
И над холмами когда поднимать начинает природа
Красную зорю, в лучах переливных горящую ярко,
Кажется, будто холмы, над которыми солнце восходит,
Прямо вплотную огнем раскаленным оно заливает.
Тысячи две лишь полетов стрелы отделяет нередко
Все эти горы от нас иль пятьсот перелетов копейных,
А на пространстве от них и до солнца раскинулись глади
Моря огромных равнин, под безбрежным простертых эфиром;
Многие тысячи стран в промежутке находятся этом,
Где и различный народ обитает и всякие звери.
В луже стоячей воды, глубиною не более пальца,
Что меж камней мостовой соберется на улицах наших,
Видно такую же глубь необъятную нам под землею,
Как от земли до небес, распростертую бездной открытой;
Нам представляется тут, что и тучи мы видим и небо,
И в изумленьи глядим на небесные звезды под землю.
И, наконец, если конь заупрямится борзый под нами
По середине реки, и мы взглянем на быстрые воды,
Будет казаться тогда, что влечется стремительной силой
Тело коня поперек и уносится против теченья;
И, обращая глаза на любые предметы, увидим,
Будто бы мчатся они и плывут точно так же в потоке.
Портик, который в конец из конца равномерно построен,
На протяжении всём утвержденный на равных колоннах,
Кажется всё–таки нам, если вдоль сквозь него мы посмотрим,
Мало–помалу к концу сходящимся конусом узким,
Кровлю сближая с землей и правую сторону – с левой,
Вплоть до того, пока весь не сольется в туманной вершине.
А морякам на морях представляется, будто бы солнце
Утром восходит из волн и в волнах, заходя, потухает,
Ибо они ничего, кроме моря и неба, не видят;
Но не подумай, смотри, что всегда посрамляются чувства.
Кажется в гавани тем, кто не знает морей, что хромают
Все корабли на воде и стоят с перебитой кормою,
Ибо у весел та часть, что из волн выдается соленых,
Прямо идет, и пряма у рулей их надводная доля;
Всё же, что в воду ушло, представляется нам преломленным
Загнутым будто назад и как будто изогнутым кверху,
Так что на самой почти поверхности плавает водной.
Иль, когда ветры начнут по небу ночною порою
Редкие тучи нести, то нам кажется, будто навстречу
Светлые звезды скользят и поверх облаков убегают,
Идя совсем не туда, куда мчатся они в самом деле.
Если же как–нибудь мы, случайно подпершись рукою,
Снизу надавим на глаз, то покажутся нам почему–то
Будто двойными тогда все предметы, какие мы видим:
Станет двоиться в глазах и светильника яркое пламя,
Станет двоиться и вся по дому стоящая утварь,
Так же, как лица людей и тела их начнут раздвояться.
И, наконец, когда сон дремотою сладкою свяжет
Члены, и тело лежит, безмятежным объято покоем,
Всё–таки кажется нам, что мы бодрствуем будто, и члены
Движутся наши тогда, и в тумане ночном непроглядном
Будто сияние дня и блестящее солнце мы видим;
И, находясь взаперти, мы по морю, и рекам, и горам
В страны иные идем, и поля мы пешком переходим;
Слышим мы звук голосов в суровом безмолвии ночи
И произносим слова, сохраняя, однако, молчанье.
Видим мы много еще в этом роде чудесных явлений,
Словно желающих в нас подорвать всё доверие к чувствам,
Но понапрасну: ведь тут большей частью ведут к заблужденью
Нас измышленья ума, привносимые нами самими,
Видимым то заставляя считать, что чувствам не видно.
Ибо труднее всего отделить от вещей очевидных
Недостоверную вещь, привносимую умственно нами.
Если же думает кто, что немысленно знанье, не знает,
Может ли это он знать, коль свое утверждает незнанье.
И с утверждающим так заводить не желаю я спора,
Ибо он голову там помещает, где ноги должны быть.
Но тем не менее я, допуская, что знает он это,
Как же, – спрошу, – если он не видал достоверного раньше,
Знает он то, что собой представляет незнанье и знанье,
Что породило в нем мысль как об истинном, так и о ложном,
Как разобрался он в том, что сомнительно, что достоверно?
Ты убедишься сейчас, что понятие истины чувства
В нас порождают; и чувств опровергнуть ничем невозможно,
Ибо доверие в нас возбуждать наибольшее должно
То, что само по себе своей истиной ложь побеждает.
Что же доверие в нас возбуждать может больше, чем чувство?
Будет ли разум, идя от ложного чувства, способен
Противу чувств возражать, коль из них целиком он исходит?
Если ж не верны они, то и разум весь должен быть ложен.
Или же ухо глаза опровергнуть окажется в силах,
А осязание – слух? Или вкус уличит осязанье,
Или же ноздри его укорят, иль глаза образумят?
Я полагаю, что нет: ведь особые каждому чувству
Область и сила даны, и поэтому необходимо
Чувству особому в нас ощущать то, что мягко, что твердо,
Холодно иль горячо, иль окрашено так иль иначе,
И различать у вещей присущую каждой окраску.
Силой особою вкус обладает, особо родится
Запах, особо и звук. И поэтому необходимо
Следует, что обличать не способны чувства друг друга,
Да и не могут никак они сами себя опровергнуть,
Так как им всем доверять всегда одинаково должно.
А потому то, что им показалось когда–либо, – верно.
Если же разум у нас разобраться не будет способен
В том, почему тот предмет, что квадратен вблизи, издалёка
Кажется круглым, то всё ж, когда нет оснований разумных,
Лучше ошибочно дать объясненья обеим фигурам,
Чем упускать из–под рук неизвестно куда очевидность
И, подорвав основное доверие к чувствам, низвергнуть
То, на чем зиждется вся наша жизнь и ее безмятежность.
Ибо не только падет всякий разум тогда, но погибнет
Самая жизнь вместе с ним, коль ты ввериться чувству не смеешь
И от стремнин убегать и от прочих опасностей также,
Коих бежать надлежит, и итти за противоположным.
Всё это скопище слов, таким образом, что наготове
С чувствами броситься в бой, будь уверен, – одно пустословье.
Как при постройке домов, коль начальное криво правило,
Коль наугольник фальшив и от линий прямых отступает,
Если хромает отвес и хотя бы чуть–чуть он неровен,
Всё непременно тогда выйдет здание криво и косо,
Будет горбато, вперед и назад отклоняясь нескладно,
Точно готово сейчас завалиться; и валится часто
Дом, если он пострадал от ошибок в начальном расчете;
Так и сужденье твое о вещах будет лживо и вздорно,
Если исходит оно от заведомо ложного чувства.
Ну, а теперь объяснить, каким образом чувства другие
Свой ощущают предмет, не представит больших затруднений.
Слышится, прежде всего, всякий звук или голос, как только,
В уши проникнув, своим они телом нам чувство затронут.
Ибо и голос и звук непременно должны быть телесны,
Если способны они приводить наши чувства в движенье.
Голос, к тому же, гортань нам часто скребет, и наружу
Крик исходя, все пути горловые шершавит немало.
Ибо, лишь в узкую щель, накопляясь большою толпою,
Первоначала начнут голосов вырываться наружу,
Выход, конечно, в уста, заполняемый ими, скребется.
Так что сомнения нет, что должны состоять из телесных
Голос и слово начал, раз наносят они пораненья.
Также ты знаешь, какой причиняет телу убыток,
Сколько и нервов берет, сколько сил у людей отнимает
Бесперерывная речь, от сиянья зари восходящей
Произносимая вплоть до глубокого сумрака ночи,
Если, к тому же, она произносится голосом громким.
Значит, признать мы должны непременно, что голос телесен,
Если от долгих речей убывает часть нашего тела.
Голоса грубость всегда порождается грубостью самых
Звука начал основных, а от гладкости гладкость зависит.
В уши внедряются нам разновидные первоначала:
Коль завывает труба, и глубокие звуки глухие
Дико рокочут ее, отдаваясь раскатистым шумом,
Или когда Геликон средь журчания быстрых потоков
Звонкая лебедя песнь оглашает мольбою унылой.
Дальше, когда из глубин вытесняются нашего тела
Звуки, которые мы через рот испускаем наружу,
Гибкий, искусный язык на слова разделяет их быстро,
С помощью также и губ, принимающих должную форму.
И коль не долог тот путь, по какому до нас долетает
Каждый в отдельности звук, то и сами слова непременно
Ясно доходят до нас и слышатся членораздельно:
Звук ведь тогда сохраняет свой склад, сохраняет и форму.
Если же слишком далек этот путь для отдельного звука,
В толще воздушной слова неизбежно сливаются вместе,
И, проходя сквозь нее, непременно мешается голос.
Так происходит, что ты, хоть и слышишь какие–то звуки,
Но разобраться в словах и понять их значенье не можешь:
Столь неразборчиво звук долетает до нас и столь смутно.
Часто бывает и так, что в народном собраньи до слуха
Всех долетает одно глашатая громкое слово:
Голос единственный здесь дробится на много отдельных
Вдруг, потому что идет, по отдельным ушам разбегаясь,
Звучную форму словам, направляемым в них, придавая.
Та же часть голосов, что до самых ушей не доходит,
Попусту мимо идет и, рассеявшись в воздухе, гибнет;
Часть же другая, в пути отскочивши от твердых предметов,
Звук отдает и порой морочит подобием слова.
Это усвоив, теперь ты себе самому в состояньи,
Как и другим, объяснить, каким образом в местности дикой
Скалы слова отдают, соблюдая их склад и порядок,
Ежели спутников мы, заблудившихся в горных ущельях,
Ищем и голосом их созываем разбредшихся громким.
Видеть пришлось мне места, где раз шесть или семь отдается
Изданный звук, где холмы от холмов отражают немедля
Слово за словом, на них отвечая и вторя друг другу.
Эти места, по словам в соседстве живущего люда,
Служат пристанищем Нимф, козлоногих Сатиров и Фавнов,
Это они, говорят, затевают веселье и ночью
Шумно играют везде, тишину и покой нарушая;
Рокот доносится струн, и жалобно–нежные слышны
Звуки, какие свирель из–под пальцев певцов изливает;
Издали слышит народ деревенский, как Пан, головою
Полузвериной качая венок из веток сосновых,
Часто поджатой губой скользит по стволам тростниковым,
Чтоб на цевнице его заливалася Муза лесная.
Всяких других измышляют они и страшилищ и чудищ,
Чтоб не подумал никто, что пустыни их даже богами
Брошены. А потому и слагают чудесные сказки, —
Или, быть может, еще потому они так поступают,
Что человеческий слух до всяческих росказней падок.
Я продолжаю. Тебе удивляться нимало не надо,
Что сквозь преграды, глазам ничего не дающие видеть,
Звуки доходят до нас и касаются нашего слуха.
Часто, мы видим, идет разговор за затворенной дверью,
Ибо, действительно, там по извилистым голос отверстьям
Может свободно итти, где для образов нету прохода:
Ведь расщепятся они, если эти отверстья не прямы,
Как у стекла, где проплыть может призрак любой без препятствий.
Кроме того, разлетается голос по всем направленьям,
Ибо одни из других голоса возникают: лишь только
Голос раздался один, как дробится сейчас же на много
Так же, как искры огня рассыпаются в новые искры.
Так в потаенных местах голоса постоянно роятся,
И раздается их звук, пробуждая окрестности всюду;
Призраки ж все по пути устремляются только прямому,
Как изначала пошли; и поэтому мы не способны
Видеть сквозь стены домов, голоса же оттуда мы слышим.
Впрочем, и голос, когда он проходит в замкнутые двери,
То заглушается всё ж и невнятно внедряется в уши,
Так что скорей не слова, а лишь звуки мы слышим при этом.
То, чем мы чувствуем вкус, – наш язык или нёбо, – нисколько
Более сложны для нас, при разборе их действий, не будут.
Вкус мы сначала во рту ощущаем, когда при жеваньи
Выдавим сок из еды, наподобье того, как из губки,
Если в руке ее сжать, можно досуха вытянуть воду.
Далее, выжатый сок по проходам расходится нёба
И проникает в язык, по извилистым идучи порам.
Коль основные тела сочащейся жидкости гладки,
Сладко щекочут они и сладко касаются всюду
Влажных пространств языка, из себя выделяющих слюни.
Чувство, напротив, колоть и его раздирать начинают
Эти тела тем скорей, чем грубее они и шершавей.
Вкуса услада, затем, ограничена полостью нёба.
Если же соки прошли через горло и ниже спустились,
Нет услады уже, когда сок разошелся по членам.
И безразлично, какой едою питается тело,
Лишь бы по членам могла разойтись переваренной пища,
А в животе бы всегда сохранялась должная влажность.
Ну, а теперь объясню, отчего для иного иная
Пища подходит, и как то, что гадко иному и горько,
Может казаться другим чрезвычайно приятным и вкусным.
Разница здесь велика, и различие вкусов громадно:
То, что питает одних, для других служит ядом смертельным.
Так, если только змеи коснется слюна человека,
Сгинет змея и себя самоё, искусавши, прикончит.
А с чемерицы, для нас служащей отравой смертельной,
Козы тучнеют и жир нагоняют себе перепелки.
Чтобы понять, отчего это так происходит, ты должен
Вспомнить, во–первых, о том, о чем ранее мы говорили:
Что семена у вещей перемешаны многообразно.
Далее, все существа, что живут и питаются пищей,
Раз непохожи они по наружности, и по породам
Все очертанья у них отличаются внешностью разной,
Значит, они состоят из семян точно так же различных.
Далее, коль семена отличны, должны различаться
Все промежутки, пути (что порами мы называем)
В членах повсюду, во рту и в самом, разумеется, нёбе.
Стало быть, надо одним быть поменьше, другим же – побольше:
И треугольны у тех они будут, у этих – квадратны,
Многие круглы из них, а иные и многоугольны.
Ибо, раз требует склад и движенье семян изначальных,
То непременно должны быть несхожи по складу и поры
И различаться пути, сообразно строению ткани.
Так, если сладко одним, что другому становится горьким,
То у того, кому сладко, должны, прикасаяся нежно,
Гладкие очень тела расходиться по нёбным проходам;
Наоборот, у того, кому это же кажется терпким,
Грубые в поры идут семена крючковатого складу.
Это поняв, ты легко разберешься и в прочих явленьях.
Так, если желчи приток вызывает у нас лихорадку,
Или иная болезнь по причине другой нас охватит,
Тело приходит тогда в беспорядок полнейший, и всюду
В нем положенья свои изменять начинают начала;
То, что до этого нам подходило и было приятно,
Тут не подходит уже, а другое, напротив, отрадней,
Что, проникая, могло оказаться скорее несносным.
Смесь и того я другого во вкусе имеется меда,
Как я об этом тебе говорил уже часто и раньше.
Ну, а теперь я скажу, каким образом трогает ноздри
Запах. Во–первых, вещей несомненно есть много, откуда
Запахов разных поток, изливаясь, течет и струится;
Надо считать, что они, растекаясь, разносятся всюду.
Но для различных существ приятен и запах различный
Вследствие разности форм. Из–за этого, в воздухе рея,
Издали даже пчела привлекается запахом меда,
Коршунов – падаль манит, по следам же копыт раздвоённых
Чуют собаки, куда побежать за укрывшимся зверем;
Издали слышит уже хорошо человеческий запах
Римских хранитель твердынь и спаситель их – гусь белоснежный.
Нюх, таким образом, дан различный различным созданьям
И, приводя их к еде, заставляет от смрадного яда
Прочь убегать, и зверей охраняет он этим породы.
Самые запахи все, щекотать нам способные ноздри,
Могут то дальше итти, то на ближнее лишь расстоянье.
Но никогда ни один не проходит столь длинной дороги,
Как голоса или звук, доносящийся к нам издалека,
Не говоря уж о том, что глаза поражает и зренье.
Медленно запах идет и, блуждая, в пути погибает,
Мало–помалу легко расходясь в дуновении ветра,
Так как, во–первых, с трудом покидает он недра предметов,
Ибо всегда, из глубин вытекая, является запах,
Как это видно во всем, что разбито и пахнет сильнее,
Так же как то, что растерто, и то, что разрушило пламя.
Надо заметить затем, что начала у запаха больше,
Нежели звука тела, ибо запах сквозь стену из камня
Не в состояньи пройти, голоса же и звуки проходят.
Вот почему не легко нам бывает заметить, как видишь,
В месте каком расположен предмет, от которого пахнет.
Запаха стынет толчок от того, что он в воздухе медлит,
И не доходят до чувств горячими вестники вещи.
Часто поэтому псы блуждают, следы потерявши.
Впрочем, не запахи лишь или вкусы имеют такие
Свойства, как я указал, но и вид и окраска предметов
Не одинаково всем подходящи всегда и приятны:
Могут иные из них быть резче для зренья иного.
Мало того: петуха, привыкшего крыльями хлопать
Ночью и громко кричать, призывая зарю на рассвете,
Ярые львы выносить совершенно не в силах и тотчас,
Только завидят его где–нибудь, обращаются в бегство.
Ясно, конечно, для нас, почему это так происходит:
Некие есть семена, что, от тел петухов отлетая,
Львам попадают в глаза и сверлят им зрачки, причиняя
Острую боль, и для них, хоть и лютых, она нестерпима.
Зренье же наше ничуть от подобных семян не страдает
Иль оттого, что нельзя им проникнуть в глаза, иль, проникнув,
Могут свободно уйти и задержкой своей никакого
Глазу страданья они нигде причинить не способны.
Ну а теперь ты узнай, чем движется дух, и откуда
То, что приходит на ум, приходит, ты выслушай вкратце.
Призраки разных вещей, говорю я, во–первых, витают
Многоразличным путем, разлетаясь во всех направленьях
Тонкие; так же легко они в воздухе, встретясь друг с другом,
Сходятся вместе, как нить паутины иль золота блестки.
Дело ведь в том, что их ткань по строенью значительно тоньше
Образов, бьющих в глаза и у нас вызывающих зренье,
Ибо, нам в тело они проникая чрез поры, тревожат
Тонкую сущность души и приводят в движение чувство.
Так появляются нам и Кентавры и всякие Скиллы,
С Кербером схожие псы, и воочию призраки видны
Тех, кого смерть унесла и чьи кости землею объяты:
Всякого вида везде и повсюду ведь признаки мчатся,
Частью сами собой возникая в пространстве воздушном,
Частью от разных вещей отделяясь и прочь отлетая,
И получаясь из образов их, сочетавшихся вместе.
Ведь не живым существом порождается образ Кентавра,
Ибо созданий таких никогда не бывало, конечно;
Но, коли образ коня с человеческим как–то сойдется,
Сцепятся тотчас они, как об этом сказали мы раньше,
Вследствие легкости их и строения тонкого ткани.
Так же и прочее всё в этом роде всегда возникает.
Необычайно легко и с такой быстротой они мчатся,
Как указал я уже, что любые из образов легких
Сразу, ударом одним, сообщают движение духу.
Тонок ведь ум наш и сам по себе чрезвычайно подвижен.
Что это так, без труда из дальнейшего ты убедишься.
Если есть сходство меж тем, что мы видим умом и глазами
То и причины того и другого должны быть подобны.
Раз уже я указал, что льва, предположим, я вижу
С помощью призраков, мне в глазах возбуждающих зренье,
Можно понять, что и ум приходит в движение так же,
С помощью призраков льва, да и прочее всё различая,
Как и глаза, но еще он и более тонкое видит.
И не иначе наш дух, когда сном распростерты все члены,
Бодрствует, как потому, что его в это время тревожат
Призраки те же, что ум, когда бодрствуем мы, возбуждают
Ярки настолько они, что, нам кажется, въяве мы видим
Тех, чьею жизнью давно уже смерть и земля овладели.
Из–за того это всё допускает природа свершаться,
Что в нашем теле тогда все чувства объяты покоем
И не способны к тому, чтобы истиной ложь опровергнуть.
В изнеможении сна к тому же и память слабеет,
В спор не вступая с умом, что добычей могилы и смерти
Стали давно уже те, кто живыми во сне ему снятся.
Не мудрено, наконец, что двигаться призраки могут,
Мерно руками махать да и прочие делать движенья,
Как это часто во сне, нам кажется, делает образ.
Что же? Лишь первый исчез, как сейчас же в ином положеньи
Новый родится за ним, а нам кажется, – двинулся первый.
Скорость, с которой идет эта смена, конечно, огромна:
Столь велика быстрота и столько есть образов всяких,
Столь необъятен запас частичек в любое мгновенье,
Что ощутимо для нас, и хватить его полностью может.
Много вопросов еще остается и многое надо
Выяснить, ежели мы к очевидности полной стремимся.
Первый вопрос: почему, не успело возникнуть желанье,
Как уж немедленно ум начинает об этом же думать?
Призраки все не следят ли за нашею волей и, только
Стоит лишь нам захотеть, не является ль тут же и образ,
Море ль на сердце у нас, иль земля, или самое небо?
Сходбищ народных, пиров, торжественных шествий, сражений
Не порождает ли нам по единому слову природа,
Да и к тому же, когда у людей, находящихся вместе,
Дух помышляет совсем о несхожих и разных предметах?
Что же еще нам сказать, когда видим во сне мы, как мерно
Призраки идут вперед и гибкое двигают тело,
Гибкое, ибо легко, изгибаясь, их вертятся руки,
И пред глазами у нас они вторят движеньям ногами?
Призраки, видно, сильны в искусстве и очень толковы,
Если, витая в ночи, они тешиться играми могут?
Или верней объяснить это тем, что в едином мгновеньи,
Нам ощутимом, скажу: во мгновении, нужном для звука,
Много мгновений лежит, о которых мы разумом знаем,
И потому–то всегда, в любое мгновенье, любые
Призраки в месте любом в наличности и наготове?
Столь велика быстрота и столько есть образов всяких.
Только лишь первый исчез, как сейчас же в ином положеньи
Новый родится за ним, а нам кажется, – двинулся первый,
В силу же тонкости их, отчетливо видимы духу
Только лишь те, на каких он вниманье свое остановит;
Мимо другие пройдут, к восприятью каких не готов он.
Приспособляется он и надеется в будущем видеть
Всё, что случится с любым явленьем: успех обеспечен.
Не замечаешь ли ты, что и глаз наш всегда напряженно
Приспособляется сам к рассмотрению тонких предметов,
И невозможно для нас их отчетливо видеть иначе?
Даже коль дело идет о вещах очевидных, ты знаешь,
Что без внимания к ним постоянно нам кажется, будто
Каждый предмет удален на большое от нас расстоянье;
Что же мудреного в том, что и дух упускает из виду
Всё, исключая лишь то, чему сам он всецело отдался?
И, наконец, от примет небольших мы приходим к огромным
Выводам, сами себя в западню вовлекая обмана.
Также бывает порой, что иным, не похожим на первый,
Образ заменится вдруг, и, что женщиной раньше казалось,
Может у нас на глазах оказаться нежданно мужчиной,
Или сменяются тут друг за другом и лица и возраст.
Сон и забвение нам помогают тому не дивиться.
Здесь существует еще коренное одно заблужденье,
Как я уверен; и мы всеми силами будем стремиться,
Чтоб избегал ты его и берегся от грубой ошибки,
И не считал, что глазам дарованы ясные взоры,
Чтобы могли мы смотреть; или что для ходьбы и движенья
Шагом широким вперед устроено так, что способны
Бедра и голени ног в суставах конечных сгибаться;
Или что руки у нас к плечам приспособлены крепким;
Или же кисти даны, как служанки, и справа и слева,
Чтобы мы с помощью их исполняли, что нужно для жизни.
Также и прочее всё, что толкуется в этом же роде,
Все отношенья вещей извращает превратным сужденьем.
Для применения нам ничего не рождается в теле,
То, что родится, само порождает себе примененье.
До зарождения глаз ведь и зрения не было вовсе,
До появленья на свет языка не бывало и речи,
Но, несомненно, возник он значительно ранее слова;
Уши задолго еще до того появились, как первый
Звук был услышан, и все, одним словом, отдельные члены
Существовали уже, я уверен, до их примененья.
Значит, никак не могли они все для него создаваться.
Наоборот же, вступать в рукопашные схватки и битвы,
Тело терзать и пятнать себе руки пролитою кровью
Стали задолго пред тем, как помчались блестящие стрелы.
И уклоняться от ран людей побудила природа
Раньше искусства щитом ограждать себе левую руку;
Да и привычка вверять утомленное тело покою
Много древнее, чем спать, растянувшись на мягких постелях;
И утоление жажды родилося раньше, чем кубки.
И, таким образом, всё, что нам жизнь и нужда подсказала,
Было, как можно считать, изобретено для примененья.
Иначе с тем обстоит, что само по себе появилось
И уже после того на свою указало нам пользу.
Первое место у нас занимают здесь чувства и члены.
Так что, опять повторю, совершенно немыслимо думать,
Будто бы пользой для нас обусловлено их появленье.
Также не должно тому удивляться, что в самой природе:
Всяких созданий живых заложена пищи потребность.
Ибо ведь множество тел, из вещей вытекая, выходит
Разным путем, как указывал я, но особенно много
Их из животных идет, потому что от частых движений
Много летит их из уст, при тяжелом дыханьи, и много
Также их потом идет, изнутри вытесняясь наружу.
Тело при этом редеть начинает, и вся его сущность
Рухнуть готова уже, и страдания следуют дальше.
Пища затем и нужна, чтобы ею поддерживать тело,
Чтобы она, расходясь, возрождала в нем сызнова силы
В членах и жилах и пасть ненасытного чрева заткнула.
Также и влага течет и проходит повсюду, где тело
Требует влаги себе, да и жара тела, что, скопившись
Кучей у нас в животе, опалить его могут пожаром,
Гасятся жидкостью там, растворяющей их, чтобы пламя
Члены пожечь не могло своим иссушающим пылом.
Так избавляемся мы от жажды, спирающей горло,
Так утоляем мы свой неуёмный мучительный голод.
Ну, а теперь почему подвигаться вперед мы способны,
Как захотим, и даны нам различные телодвиженья,
Сила какая дает нам возможность столь тяжкое бремя
Тела толкать, я скажу, ты же слушай, как я рассуждаю.
Я говорю, что вперед появляется призрак движенья
В духе у нас и его ударяет, как сказано раньше;
Воля родится затем: ведь никто никакого не может
Дела начать, пока дух не предвидит, чего он желает;
Что же предвидит он, то и является образом вещи.
Так что, когда возбуждается дух и охвачен стремленьем
Двигаться, тотчас удар он силе души сообщает,
Что по суставам везде и по членам рассеяна в теле;
Это не трудно ему, ибо тесно с душою он связан.
Следом же тело душа ударяет, и мало–помалу
Так вся громада вперед от толчка получает движенье.
Тело же, кроме того, редеть начинает, и воздух, —
Как подобает ему при движеньи его постоянном, —
Входит обильно в него, проникая в открытые поры,
И растекается там, доходя до мельчайших частичек
Тела. Итак, от двойной здесь исходит причины движенье:
Тело как будто корабль, что и вёсла уносят и ветер.
Да и, по правде сказать, ничего тут мудреного нету
В том, что возможно таким ничтожнейшим тельцам свободно
Тяжестью править такой и у нас поворачивать тело.
Гонит же ветер, при всей своей сущности легкой и тонкой,
Мощный корабль пред собой, как бы ни был он тяжек и грузен;
Только одною рукой его бег направляется быстрый,
Только единственный руль руководит им как угодно.
И, при посредстве колес и лебедок, без всяких усилий
Множество тяжестей кран и ворочает и поднимает.
Ну, а теперь, каким образом сон овевает покоем
Тело, заботы души изгоняя из нашего сердца,
Не многословно тебе объясню, но в стихах сладкозвучных:
Лебедя краткая песнь превосходит тот крик журавлиный,
Что раздается вверху, в облаках, нагоняемых Австром.
Ты же, прошу я, свой слух предоставь мне и ум прозорливый,
Чтобы возможность того не отвергнуть, о чем говорю я,
И не уйти, оттолкнув от сердца правдивые речи,
Будучи сам виноват, что не видишь своих заблуждений.
Сон наступает тогда, когда разбежится по членам
Сила души, и она выгоняется частью наружу,
Частью же, сбившись плотней, в глубину удаляется тела.
Все расслабляются тут и становятся дряблыми члены.
Ибо сомнения нет, что душой возбуждается чувство
В теле у нас, а когда усыпленье его пресекает,
То, безусловно, душа пребывает в смятении наша,
Выгнанной вон из него, но не вся, ибо иначе тело
Вечно б осталось лежать, объятое холодом смерти.
Если ж и части души никакой не осталось бы скрытой
В теле, подобно огню, под кучею скрытому пепла,
Чувство откуда могло оживиться бы в теле внезапно
Так же, как может огонь из потухшего пламени вспыхнуть?
Но обусловлена чем перемена такая, откуда
Может смятенье души и расслабленность тела явиться,
Я объясню, и смотри, чтоб слова я не на ветер бросил.
Прежде всего, стороной наружною всякое тело,
В силу того, что его окружают воздушные токи,
Быть под ударом должно и толчки их испытывать часто.
Вот почему большинство из созданий покрыто снаружи
Шкурою, иль скорлупой, или толстою кожей, иль коркой.
Внутренних также частей у дышащих касается воздух,
Их поражая всегда при вдыхании и выдыханьи.
А потому, что с обеих сторон ударяется тело
И проникают толчки через разные мелкие поры
В тело до самых основ и начальных его элементов,
Мало–помалу оно в разрушение как бы приходит.
Ибо тогда у начал нарушаются их положенья
В теле и духе. Душа изгоняется частью наружу,
Частью, гонимая внутрь, забивается в самые недра,
Частью ж, рассеясь везде по суставам, она не способна
Вместе сплотиться уже и взаимные делать движенья:
К соединению ей преграждает дороги природа.
Так удаляется вглубь, с нарушеньем движения, чувство;
А оттого, что уж нет ничего, чтоб поддерживать тело,
Ослабевает оно, и становятся дряблыми члены;
И опускаются руки и веки, и часто колени
Гнутся бессильно, хотя и лежит усыпленное тело.
Также за пищею сон наступает: ведь то же, что воздух,
Делает пища, когда растекается всюду по жилам.
В сон погружаешься ты наиболее тяжкий в то время,
Как иди сыт, иль устал, ибо тут постигает смятенье
Многое множество тел, потрясенных тяжелой работой.
Это ведет и к тому, что душа забивается частью
Глубже, а вон выходя, она большим потоком стремится
И, разделяясь внутри, дробится гораздо сильнее.
Если же кто–нибудь занят каким–либо делом прилежно,
Иль отдавалися мы чему–нибудь долгое время,
И увлекало наш ум постоянно занятие это,
То и во сне представляется нам, что мы делаем то же:
Стряпчий тяжбы ведет, составляет условия сделок,
Военачальник идет на войну и в сраженья вступает,
Кормчий в вечной борьбе пребывает с морскими ветрами,
Я – продолжаю свой труд и вещей неуклонно природу,
Кажется мне, я ищу и родным языком излагаю.
Да и другие дела и искусства как будто бы часто
Мысли людей, погрузившихся в сон, увлекают обманно.
Если подряд много дней с увлечением играми занят
Был кто–нибудь непрерывно, мы видим, что, большею частью,
Даже когда прекратилось воздействие зрелищ на чувства,
Всё же в уме у него остаются пути, по которым
Призраки тех же вещей туда проникают свободно.
Так в продолжение дней эти самые призраки реют
Перед глазами людей, и они, даже бодрствуя, видят
Точно и пляски опять и движения гибкого тела;
Пение звонких кифар и говора струн голосистых
Звук раздается в ушах, и привычных зрителей видно,
Сцена открыта опять и пестреет блестящим убранством.
Вот до чего велико значение склонностей, вкусов,
Как и привычки к тому постоянному делу, которым
Заняты люди, а кроме людей и животные также.
Можешь ведь ты наблюдать, в самом деле, как быстрые кони,
В сон погрузившись, потеть начинают, дышать учащенно,
Будто упорно скача за пальмою первенства в беге,
Иль, из ограды летя открытой, стремительно мчатся.
Часто охотничьи псы, несмотря на спокойную дрёму,
Вдруг или на ноги вскочат, иль громко внезапно залают,
Нюхают воздух кругом, беспокойно ноздрями поводят,
Будто бы чуют они и по следу рыщут за зверем;
Или, во сне увидав уходящего быстро оленя,
Гонят его наяву, обманный преследуя призрак,
И, лишь очнувшись от сна, прекращают напрасную травлю.
Ласковых племя щенят, к хозяйскому дому привыкших,
То ощетинится вдруг, то хочет с земли приподняться,
Будто бы видят они чужих незнакомые лица.
И чем свирепее норов у каждой отдельной породы,
Тем и неистовей будет она и во сне непременно.
Пестрые птицы летят и трепетом крыльев внезапным
Рощ священных покой нарушают ночною порою,
Коль в усыплении легком почудится им, что в погоне
Ястреб над ними парит и отважно бросается сверху.
Также и люди во сне постоянно свершать продолжают
Те же деянья, какие и въяве они совершали:
Грады пленяют цари, полоняются сами, воюют,
Крик подымая такой, как будто их режут на месте;
Многие бьются вразмах, жестоко вопят от мучений,
Точно свирепому льву иль пантере даны на съеденье,
И оглашают далеко округу стенанием громким.
Многие также во сне выдают сокровенные тайны
И выдавали не раз иные свои преступленья.
Многим является смерть, а многие будто с высоких
Гор низвергаются вниз и, будто всей тяжестью тела
Рухнув, в безумьи со сна не могут опомниться сразу
В страхе: бросает их в жар, и дрожь пробегает по телу.
Также и жаждущий пить у ручья себя видит и, жадно
Ртом приникая к воде, точно всю ее выпить стремится.
Мальчики часто во сне, представляя себя иль у ямы,
Иль у ночного горшка с приподнятой кверху рубашкой,
Весь выпускают запас накопившейся влаги из тела
И покрывала насквозь вавилонские пышные мочат.
К тем же, в кого проникать и тревожить их бурную юность
Начало семя, в тот день, лишь во членах оно созревает,
Сходятся призраки вдруг, возникая извне и являя
Образы всяческих тел, прекрасных лицом и цветущих.
Тут раздражаются в них надутые семенем части,
Так что нередко они, совершив как будто, что надо,
Вон выпуская струю изобильную, пачкают платье.
И возбуждается в нас это семя, как мы указали,
Тою порою, когда возмужалое тело окрепло.
Вследствие разных причин раздражаются разные вещи:
Образом только людским из людей извергается семя.
Только лишь выбьется вон и свое оно место оставит,
Как, по суставам стремясь и по членам, уходит из тела,
В определенных местах накопляясь по жилам, и тотчас
Тут возбуждает само у людей детородные части.
Их раздражает оно и вздувает, рождая желанье
Выбросить семя туда, куда манит их дикая похоть,
К телу стремяся тому, что наш ум уязвило любовью.
Обыкновенно ведь все упадают на рану, и брызжет
Кровь в направлении том, откуда удар был получен;
И, если близок наш враг, то обрызган он алою влагой.
Также поэтому тот, кто поранен стрелою Венеры, —
Мальчик ли ранил его, обладающий женственным станом,
Женщина ль телом своим, напоенным всесильной любовью, —
Тянется прямо туда, откуда он ранен, и страстно
Жаждет сойтись и попасть своей влагою в тело из тела,
Ибо безмолвная страсть предвещает ему наслажденье.
Это Венера для нас; это мы называем Любовью,
В сердце отсюда течет сладострастья Венерина влага,
Капля за каплей сочась, и холодная следом забота.
Ибо, хоть та далеко, кого любишь, – всегда пред тобою
Призрак ее, и в ушах звучит ее сладкое имя.
Но убегать надо нам этих призраков, искореняя
Всё, что питает любовь, и свой ум направлять на другое,
Влаги запас извергать накопившийся в тело любое,
А не хранить для любви единственной, нас охватившей,
Тем обрекая себя на заботу и верную муку.
Ведь не способна зажить застарелая язва, питаясь;
День ото дня всё растет и безумье и тяжкое горе,
Ежели новыми ты не уймешь свои прежние раны.
Если их, свежих еще, не доверишь Венере Доступной,
Иль не сумеешь уму иное придать направленье.
Вовсе Венеры плодов не лишен, кто любви избегает:
Он наслаждается тем, что дается без всяких страданий.
Чище услада для тех, кто здоров и владеет собою,
Чем для сходящих с ума. Ведь и в самый миг обладанья
Страсть продолжает кипеть и безвыходно мучит влюбленных:
Сами не знают они, что насытить: глаза или руки?
Цель вожделений своих сжимают в объятьях и, телу
Боль причиняя порой, впиваются в губы зубами
Так, что немеют уста, ибо чистой здесь нету услады;
Жало таится внутри, побуждая любовников ранить
То, что внушает им страсть и откуда родилась их ярость.
Но в упоеньи любви утоляет страданья Венера,
Примесью нежных утех ослабляя боль от укусов.
Ибо надежда живет, что способно то самое тело,
Что разжигает огонь, его пламя заставить угаснуть.
Опровергает всегда заблуждение это природа.
Здесь неизменно одно: чем полнее у нас обладанье,
Тем всё сильнее в груди распаляется дикая страстность.
Пища ведь или питье проникает во внутренность тела,
И раз она занимать способна известное место,
То и бывает легко утолить нам и голод и жажду.
Но человека лицо и вся его яркая прелесть
Тела насытить ничем, кроме призраков тонких, не могут,
Тщетна надежда на них и нередко уносится ветром.
Как постоянно во сне, когда жаждущий хочет напиться
И не находит воды, чтоб унять свою жгучую жажду,
Ловит он призрак ручья, но напрасны труды и старанья:
Даже и в волнах реки он пьет, но напиться не может, —
Так и Венера в любви только призраком дразнит влюбленных
Не в состояньи они, созерцая, насытиться телом,
Выжать они ничего из нежного тела не могут,
Тщетно руками скользя по нему в безнадежных исканьях.
И, наконец, уже слившися с ним, посреди наслаждений
Юности свежей, когда предвещает им тело восторги,
И уж Венеры посев внедряется в женское лоно,
Жадно сжимают тела и, сливая слюну со слюною,
Дышат друг другу в лицо и кусают уста в поцелуе.
Тщетны усилия их: ничего они выжать не могут,
Как и пробиться во внутрь и в тело всем телом проникнуть
Хоть и стремятся порой они этого, видно, добиться:
Так вожделенно они застревают в тенётах Венеры, —
Млеет их тело тогда, растворяясь в любовной усладе,
И, наконец, когда страсть, накопившися в жилах, прорвется,
То небольшой перерыв наступает в неистовом пыле.
Но возвращается вновь и безумье и ярость всё та же,
Лишь начинают опять устремляться к предмету желаний,
Средств не умея найти, чтобы справиться с этой напастью:
Так их изводит вконец неизвестная скрытая рана.
Тратят и силы к тому ж влюбленные в тяжких страданьях,
И протекает их жизнь по капризу и воле другого;
Всё достояние их в вавилонские ткани уходит,
Долг в небреженьи лежит, и расшатано доброе имя.
На умащенных ногах сикионская обувь сверкает,
Блещут в оправе златой изумруды с зеленым отливом,
Треплется платье у них голубое, подобное волнам,
И постоянно оно пропитано потом Венеры.
Всё состоянье отцов, нажитое честно, на ленты
Или на митры идет и заморские ценные ткани.
Пышно убранство пиров с роскошными яствами, игры
Вечно у них и вино, благовонья, венки и гирлянды.
Тщетно! Из самых глубин наслаждений исходит при этом
Горькое что–то, что их среди самых цветов донимает,
Иль потому, что грызет сознанье того, что проводят
Праздно они свою жизнь и погрязли в нечистом болоте,
Иль оттого, что намек двусмысленный, брошенный «ею»,
В страстное сердце впился и пламенем в нем разгорелся,
Или же кажется им, что слишком стреляет глазами,
Иль загляделась «она» на другого и, видно, смеется.
Эти же беды в любви настоящей и самой счастливой
Также встречаются нам; а те, что ты можешь заметить,
Даже закрывши глаза, в любви безнадежной, несчастной,
Неисчислимы. Итак, заранее лучше держаться
Настороже, как уж я указал, и не быть обольщенным,
Ибо избегнуть тенет любовных и в сеть не попасться
Легче гораздо, чем, там очутившись, обратно на волю
Выйти, порвавши узлы, сплетенные крепко Венерой.
Но, и запутавшись в них, ты всё–таки мог бы избегнуть
Зла, если сам ты себе поперек не стоял бы дороги,
Не замечая совсем пороков души или тела
И недостатков у той, которой желаешь и жаждешь.
Так большинство поступает людей в ослеплении страстью,
Видя достоинства там, где их вовсе у женщины нету;
Так что дурная собой и порочная часто предметом
Служит любовных утех, благоденствуя в высшем почете.
Часто смеются одни над другими, внушая Венеры
Милость снискать, коль они угнетаемы страстью позорной,
Не замечая своих, несчастные, больших напастей.
Черная кажется им «медуницей», грязнуха – «простушкой».
Коль сероглаза она, то – «Паллада сама», а худая —
«Козочка». Карлица то – «грациозная крошечка», «искра»;
Дылду они назовут «величавой», «достоинства полной»;
«Мило щебечет» заика для них, а немая – «стыдлива»;
Та, что несносно трещит беспрестанно, – «огонь настоящий»;
«Неги изящной полна» тщедушная им и больная;
Самая «сладость» для них, что кашляет в смертной чахотке;
Туша грудастая им – «Церера, кормящая Вакха»;
Если курноса – «Силена», губаста – «лобзания сладость».
Долго не кончить бы мне, приводя в этом роде примеры.
Но, даже будь у нее лицо как угодно прекрасно,
Пусть и всё тело ее обаянием дышит Венеры,
Ведь и другие же есть: без нее–то ведь жили мы раньше;
Всё, что дурные собой, она делает так же, мы знаем,
И отравляет себя, несчастная, запахом скверным,
Так что служанки бегут от нее и украдкой смеются.
Но недопущенный всё ж в слезах постоянно любовник
Ей на порог и цветы и гирлянды кладет, майораном
Мажет он гордый косяк и двери, несчастный, целует.
Но лишь впустили б его и пахнуло бы чем–то, как тотчас
Стал бы предлогов искать благовидных к уходу, и долго
В сердце таимая им осеклась бы слезная просьба;
Стал бы себя упрекать он в глупости, видя, что больше
Качеств он «ей» приписал, чем то допустимо для смертной.
Это для наших Венер не тайна: с тем большим стараньем
Сторону жизни они закулисную прячут от взоров
Тех, кого удержать им хочется в сети любовной.
Тщетно: постигнуть легко это можешь и вывесть наружу
Все их секреты и все смехотворные их ухищренья,
Или, с другой стороны, коль «она» и кротка и не вздорна,
Можешь сквозь пальцы взглянуть ты на слабости эти людские.
Кроме того, не всегда притворною дышит любовью
Женщина, телом своим сливаясь с телом мужчины
И поцелуем взасос увлажненные губы впивая.
Часто она от души это делает в жажде взаимных
Ласк, возбуждая его к состязанью на поле любовном.
И не могли бы никак ни скотина, ни звери, ни птицы,
Ни кобылицы самцам отдаваться в том случае, если
Не полыхала бы в них неуемно природная похоть
И не влекла бы она вожделенно к Венере стремиться.
Да и не видишь ли ты, как те, что утехой друг с другом
Сцеплены, часто от мук изнывают в оковах взаимных?
На перекрестках дорог нередко, стремясь разлучиться,
В разные стороны псы, из сил выбиваяся, тянут,
Крепко, однако, они застревают в тенётах Венеры!
И никогда б не пошли на это они, коль не знали б
Радости общих утех, что в обман и оковы ввергают.
Так что опять повторю я: утехи любви обоюдны.
Если в смешеньи семян случится, что женская сила
Верх над мужскою возьмет и ее одолеет внезапно,
С матерью схожих детей породит материнское семя,
Семя отцово – с отцом. А те, что походят, как видно,
И на отца и на мать и черты проявляют обоих,
Эти от плоти отца и от матери крови родятся,
Если Венеры стрелой семена возбужденные в теле
Вместе столкнутся, одним обоюдным гонимые пылом,
И ни одно победить не сможет, ни быть побежденным.
Может случаться и так, что дети порою бывают
С дедами схожи лицом и на прадедов часто походят.
Ибо нередко отцы в своем собственном теле скрывают
Множество первоначал в смешении многообразном,
Из роду в род от отцов к отцам по наследству идущих;
Так производит детей жеребьевкой Венера, и предков
Волосы, голос, лицо возрождает она у потомков.
Ибо ведь это всегда из семян возникает известных,
Так же, как лица у нас и тела, да и все наши члены.
Дальше: как женщин рождать способно отцовское семя,
Так материнская плоть – произвесть и мужское потомство.
Ибо зависят всегда от двоякого семени дети,
И на того из двоих родителей больше походит
Всё, что родится, кому обязано больше; и видно,
Отпрыск ли это мужской или женское то порожденье.
И не по воле богов от иного посев плодотворный
Отнят, чтоб он никогда от любезных детей не услышал
Имя отца и навек в любви оставался бесплодным.
Многие думают так и, скорбя, обагряют обильной
Кровью они алтари и дарами святилища полнят,
Чтобы могли понести от обильного семени жены.
Тщетно, однако, богам и оракулам их докучают:
Ибо бесплодны они оттого, что иль слишком густое
Семя у них, иль оно чрезмерно текуче и жидко.
Жидкое (так как прильнуть к надлежащему месту не может)
Тотчас стекает назад и уходит, плода не зачавши;
Семя же гуще, из них извергаяся сплоченным больше,
Чем надлежит, иль лететь не способно достаточно быстро,
Иль равномерно туда, куда нужно, проникнуть не может,
Или, проникнув, с трудом мешается с семенем женским.
Ибо зависит в любви от гармонии, видимо, много.
Этот скорее одну отягчает, а та от другого
Может скорей понести и беременной сделаться легче.
Многие жены, дотоль неплодными бывши во многих
Браках, нашли, наконец, однако, мужей, от которых
Были способны зачать и потомством от них насладиться.
Также нередко и те, у кого плодовитые жены
Всё ж не рожали детей, подходящих супруг находили
И свою старость детьми могли, наконец, обеспечить.
Крайне существенно тут, при смешеньи семян обоюдном,
Чтоб в сочетанье они плодотворное вместе сливались:
Жидкое семя – с густым, густое же – с семенем жидким.
Также существенно то, какой мы питаемся пищей,
Ибо от пищи одной семена в нашем теле густеют,
Наоборот, от другой становятся жиже и чахнут.
Также и способ, каким предаются любовным утехам,
Очень существен, затем, что считается часто, что жены
Могут удобней зачать по способу четвероногих,
Или зверей, потому что тогда достигают до нужных
Мест семена, коль опущена грудь и приподняты чресла.
И в сладострастных отнюдь не нуждаются жены движеньях.
Женщины сами себе зачинать не дают и мешают,
Если на похоть мужчин отвечают движением бедер
И вызывают у них из расслабленных тел истеченье.
Этим сбивают они борозду с надлежащей дороги
Плуга и семени ток отводят от нужного места.
Эти движенья всегда преднамеренно делают девки,
Чтоб не беременеть им и на сносе не быть постоянно.
И утончённей дарить мужчинам любовные ласки, —
То, что для наших супруг, очевидно, нисколько не нужно.
Да и не воля богов, не Венерины стрелы причиной
Служат того, что порой и дурнушка бывает любима.
Ибо порою ее поведенье, приветливость нрава
И чистоплотность ведут к тому, что легко приучает
Женщина эта тебя проводить твою жизнь с нею вместе.
И, в завершенье всего, привычка любовь вызывает.
Ибо всё то, что хотя и легко, но упорно долбится,
Всё ж уступает всегда и, в конце концов, подается.
Разве не видишь того, как, падая, капля за каплей,
Точит каменья вода и насквозь, наконец, пробивает?