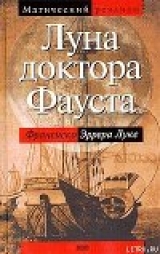
Текст книги "Луна доктора Фауста"
Автор книги: Луке Эррера
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
– Мне думается, – сурово и веско проговорил епископ, – что пришло время призвать Фауста к ответу. Его надо судить и сжечь живьем. Завтра же я велю возбудить против него дело, благо у всех на слуху случай с Францем Вейгером, законным сыном мельника. Фауст своими чарами склонил его к мужеложству.
– Франц Вейгер? – удивленно переспросил Филипп. – Да, я помню его. Такой тихий паренек, воды не замутит. В отрочестве мы часто охотились вместе, и я никогда не замечал за ним ничего подозрительного.
– Тем не менее это так, – отвечал епископ. – Фауст обольстил его, приняв женское обличье, то есть именно тем способом, о котором поведал нам высокочтимый Камерариус.
Астролог оперся на спинку кресла, окинул Филиппа долгим пристальным взглядом и заговорил благожелательно, но непреклонно:
– По всему вышеизложенному, а также по многим иным, мною не названным причинам тебе, Филипп, должно пренебречь пророчествами Фауста. Он ничего не понимает ни в расположении небесных тел, ни в тайнах оккультизма; дьявол дал ему лишь способность увлекать на стезю порока незрелых юнцов. Твое предприятие удастся как нельзя лучше – вот что я написал императору, когда он соблаговолил узнать мое мнение. Ступай, Филипп, да хранит тебя господь. Помни: одни только лавры ждут тебя на жизненном пути.
Вернек. 19 марта 1534 года
Благородному рыцарю Филиппу фон Гуттену в Вюрцбург от Даниэля Штевара.
Любезный Филипп,
Спешу уведомить тебя о некоем происшествии, нарушившем вчера вечером покой нашего богоспасаемого захолустья. В тот час, когда мы с доктором Фаустом мирно попивали вино в таверне, двери ее распахнулись, и нашим взорам во всем дородстве своем и величии предстал Иоахим Камерариус. Не тратя времени на околичности и не смущаясь моим присутствием, он с порога обрушился на нашего друга, обвиняя его в невежестве и злонамеренных измышлениях, и пригрозил ему суровой карой, если тот не прекратит вмешиваться в дела, до него не относящиеся, но представляющие изрядный интерес для братьев Вельзеров и самого императора Карла.
Фауст же, не выказывая ни малейшего замешательства, отвечал ему с обыкновенною своею насмешливостью: «Что более занимает помыслы великого Камерариуса? Судьба ли этого юноши, который сложит в Венесуэле голову, или же алчные устремления императоров и банкиров?»
Ответ этот, а вернее сказать, вопрос привел Камерариуса в неописуемое бешенство. Перехватив свой костыль на манер палицы, он вознамерился садануть им Фауста, но тот с ловкостью уклонился от удара противника, отчего сей последний с немалым грохотом грянулся оземь. Тем, однако, дело не кончилось, ибо на поверженного астролога набросился Мефистофель: сей дьявол, приявший обличье пса, впился ему клыками в левую ягодицу, каковую не оторвал напрочь лишь по чистой случайности и особенной милости господней, а затем бросился вдогонку за астрологом, выбежавшим с громкими криками на улицу. «Все вы, – обратился тогда доктор Фауст к местным жителям, сбежавшимся на шум, – все вы будете свидетелями и подтвердите мою правоту: предприятие братьев Вельзеров окончится плачевно. Слушайте меня: если Филипп фон Гуттен примет в нем участие, он умрет в тех краях злою смертью. Это говорю вам я, доктор Фауст, который продал душу дьяволу и не жалеет об этом». Толпа в остолбенении внимала ему, покуда кто-то не крикнул, что Камерариус возвращается, ведя за собой латников. «Мне пора, – сказал Фауст, – обещаю вам, что мы еще увидимся. Постарайтесь убедить или, если угодно, разубедить вашего друга. Ему следует отказаться от путешествия. Одни только беды и горести ожидают его за морем». Прежде чем исчезнуть, он вскочил на стол и крикнул изо всей мочи: «Баварцы! Не записывайтесь в экспедицию, что снаряжается в Новый Свет. Она проклята и обречена! Горе тому, кто вздумает искушать судьбу!» С этими словами он выскользнул через потайную дверь на улицу и исчез. Хочу сказать тебе, любезный Филипп, что в ту самую ночь, когда епископ выгнал нас вон, Фауст еще раз составил твой гороскоп, подтвердивший наихудшие его опасения, о чем он сообщил мне со слезами на глазах. Внемли его совету, заклинаю тебя всем святым! Доктор Фауст – величайший мудрец, какого знавал мир. Мнения его разделяют как люди легковерные и неискушенные, так и весьма опытные в житейских делах. В числе таковых назову графа Циммера, на землях которого и состоялось наше знакомство. Все, кто слышал пророчество Фауста, выказывают серьезнейшее беспокойство.
Прошу тебя, Филипп, внять голосу благоразумия и отказаться со всей решительностью от этого предприятия, сопровождающегося такими зловещими предзнаменованиями и сулящего неисчислимые беды. У нас в Вернеке никто не записался в число волонтеров, кроме бедного Франца Вейгера, которому никак не отделаться от худой славы, почему он и решил предпочесть смерть злобным выдумкам, травле и клевете.
Настало время отправляться в путь.
Утром Филипп обнял брата, обвел прощальным взглядом могучие башни старого замка, возвышавшегося над рекой и над домами Вюрцбурга, и тронул коня к югу, навстречу судьбе, которая, по словам Камерариуса, обещала быть к нему столь щедра и благосклонна.
Размашистой рысью ехал он вдоль зеленой равнины, обсаженной яблонями, и на душе у него было легко.
– Как хороша наша Бавария! – вслух восторгался он прекрасным видом, открывавшимся перед ним. – Император прав, когда говорит, что тоскует вдали от нее. Ни одного клочка невозделанной земли: вон там колосится пшеница, а там ореховая роща, а справа от меня – мельница и синие воды реки. А какие в нашем краю сосиски и колбасы! Какое неземное благоухание они издают! Подлинно, Бавария – это райский сад!
Он снова задумался о том, что его ожидает, припомнив, как радостно принимал его два месяца назад Варфоломей Вельзер – мужчина в самом расцвете лет, высокого роста, могучего сложения и с челюстями волкодава.
– Лизхен, Эльза, Варфоломей! – вскричал он при виде Гуттена. – Скорей сюда! Поглядите, кто приехал! Филипп, наш любимый кузен! Я так счастлив, что ты изъявил желание участвовать в моем походе, – добавил он по прочтении письма Карла. – Я желал этого всем сердцем, но не решался предложить тебе отправиться в Новый Свет – ведь ты занимаешь такой пост при дворе. Превосходное решение! Я положу тебе жалованье вдвое против того, что дает тебе Фердинанд, который, сдается мне, порядочный сквалыга… Над тобой будут только два человека: губернатор Амвросий Альфингер и Николаус Федерман, который поведет в Венесуэлу наши корабли. Ты станешь третьим по значению. Вот, рекомендую тебе: Варфоломей Вельзер-младший, мой преемник и наследник, – говорил он с гордостью, подталкивая к Филиппу мальчика лет восьми. – Я хочу сделать его таким же доблестным рыцарем, как ты. Нечего ему корпеть над конторскими книгами по примеру отца. Ты ведь представишь его ко двору? – добавил он просительным тоном. – Он будет твоим оруженосцем, а потом его посвятят в рыцари. Окажешь мне эту услугу, Филипп?
«Нет, отец был не прав, говоря, что Вельзер не признает ничего, кроме чистогана, – думал сейчас Гуттен, покачиваясь в такт рыси. – Отец считал, что он, хоть и породнился с нами благодаря своей двоюродной бабке, хоть и проявлял благородство по отношению к нашей семье, не дворянин, а бюргер и бюргером останется по гроб жизни, даже если император пожалует ему титул».
«Мы, рыцари старого закала, меряем жизнь честью, а он – выгодой, – вспоминались ему слова отца. – Да, он добивается моей дружбы, но вовсе не из-за возвышенных чувств, а для того, чтобы показать: и в его жилах течет капля благородной крови. Погляди, как он на каждом шагу кичится своим родством с нами, хотя мы бедны, ибо прекрасно знает, что мы своим скудным достоянием обязаны доблести наших предков, тогда как его золото добыто беззаконными плутнями, которые и вознесли его так высоко».
«Нет, – мысленно спорил он с отцом, – не мог Варфоломей Вельзер отдать капитану корабля, везшего на родину немногих уцелевших в Венесуэле рудокопов, приказ пристать к мавританскому берегу и, высадив их там, бросить на произвол судьбы, чтобы жалобы их не дошли до императора. Не мог он совершить такую низость. Но граф Циммер говорил мне, что Вельзеры – настоящие „мешки с перцем“, торгаши и скряги, даром что, если обратить все их имущество в звонкую монету, им можно будет доверху набить трюмы нескольких судов. В погоне за прибылью они будут покупать и продавать все что угодно – от сукон до рабов, без малейших колебаний снабдят оружием любого, кто заплатит, не спрашивая о том, какому богу он молится и с кем намерен воевать. У них нет убеждений, они признают только выгоду. Они будут иметь дело и с австрийским королем, и с турецким султаном, сумеют поладить со смертельными врагами – Англией и Францией. Возвышение Вельзеров, Фуггеров и подобных им происходит за счет упадка дворянства…»
Стук копыт заставил его обернуться. Филиппа догонял скакавший галопом юноша.
– Ваша милость! Здравствуйте! – закричал он, поравнявшись с ним.
Женственно-красивое лицо всадника с веселыми и плутоватыми голубыми глазами было смутно знакомо Филиппу.
– Вы не узнаете меня? Я Франц Вейгер, сын мельника!
– А-а, Франц! – приветливо воскликнул Гуттен. – Я и вправду тебя не узнал. Думал, какой-то мальчишка… Годы тебя не берут. Ведь мы с тобой сверстники.
– У нас в семье все такие, – залившись краской, отвечал Франц. – Все на диво моложавы. Мамаше моей сорок лет, а она еще хоть куда… Что только на нас не валится, а мы не стареем, хотя есть от чего поседеть и сгорбиться…
Гуттену припомнились нехорошие толки насчет Франца.
– А куда ты направляешься? – спросил он.
– За вами следом, сударь, – снова покраснел тот. – Сделайте божескую милость, возьмите меня с собою в Новый Свет. На коленях умоляю вас… Я буду у вас конюхом, слугою, оруженосцем – кем скажете…
Гуттен с любопытством воззрился на него.
– Ради матушки вашей, – чуть не плача, продолжал молить Франц, – возьмите меня с собой, а не то мне одно остается: камень на шею – да в воду!
– Да перестань хныкать! Что стряслось? Отчего ты пришел в такую отчаянность?
– Не стало мне житья в Вернеке, все надо мной смеются и издеваются…
– Кто же над тобой смеется?
– Да все! В родном доме проходу не дают. Вчера вечером отец прибил меня и обругал непотребными словами за то будто бы, что я путаюсь с мужчинами. А я не то что с мужчинами, а и с женщинами-то дела не имел, хоть мне и пошел уже двадцать третий год. Во грехе любострастия я покуда не повинен.
Гуттен выпрямился в седле и сурово сказал:
– Я тоже. Однако ничего зазорного для себя в этом не вижу.
– То вы, сударь, а то мои односельчане, которые за человека меня не считают, раз я не спал с женщиной.
– Кто сказал, что хранить целомудрие до брака надлежит только девицам? – тоном проповедника отрезал Филипп.
– Как я счастлив услышать от вас такие слова! – возликовал Франц, утирая слезу. – Ах, если бы все были такими!.. Итак, ваша милость, вы позволяете следовать за вами? Я умею стряпать и шить, держусь в седле не хуже рейтара и стреляю из арбалета без промаха. Я пригожусь вам, вот увидите, а платить мне не надо. Спать могу хоть на голой земле. Уделите от своих щедрот ломоть хлеба, тем я и сыт буду.
Гуттен глядел на него, раздумывая: «Мне и в самом деле понадобится слуга, а он обойдется мне дешево».
И он, коря себя за то, что пользуется безвыходным положением Франца, все-таки решил взять его к себе на службу.
7. СПУТНИЦАОни прибыли в Севилью первого марта 1534 года, за десять дней до назначенного срока, ибо, как сказал Франц, «всегда лучше поспешить, чем опоздать».
– Мой брат, епископ Мориц, любит повторять: «Точность – вежливость королей».
– Так чудненько быть точным, сударь, – поддакнул Франц.
– Я уже просил тебя, – строго заметил ему Филипп, – воздерживаться от твоих излюбленных словечек вроде «чудненько», «славненько», «миленько». Мужчинам не подобает сюсюкать. И незачем устраивать у себя на лбу такой кок – ты похож на попугая.
– Ах, сударь, – с наигранным ужасом отвечал Франц, – боюсь, что не убедил вас в том, что мы с доктором Фаустом безгрешны и чисты.
Когда они подъехали к Хиральде [5]5
Хиральда – достопримечательность Севильи: украшенная орнаментами башня, сначала минарет Большой мечети, затем христианская колокольня.
[Закрыть], Гуттен был мрачнее тучи. Как ни старался доказать ему Франц, что порок глубоко чужд ему, что злые сплетни распускает про него Камерариус, сам делавший ему нескромные предложения и получивший решительный отпор, вся его повадка доказывала обратное; по приезде же в Испанию начались и настоящие неприятности, ибо его оруженосец беспрестанно становился жертвой бесконечных насмешек, грубых шуток и нескромных вопросов. В этой стране «богомерзкое извращение» каралось смертью, и Филипп еще не позабыл, какое зрелище открылось ему в Толедо: на крепостной стене вниз головой висели шестеро казненных.
– Что это? – спросил он проходившего мимо солдата.
– Да вот вздернули вчера шестерых распутников, – угрюмо буркнул тот и добавил, окинув Франца многообещающим взглядом: – Тебе, дружочек, не грех бы остеречься, если тоже не хочешь задрать копыта к небу, лишившись перед этим лучшего достояния мужчины.
– Ах ты, наглец! – вскричал Гуттен. – Как ты смеешь? Где твой капитан?
Но он торопился во дворец и потому двинулся по направлению к Алькасару [6]6
Алькасар (alcazar, исп. ) – крепость, замок, дворец; название укрепленных замков или дворцов в Испании, чаще всего построенных в мавританском стиле.
[Закрыть], сопровождаемый злобными шутками и бранью.
– Что вам сказал солдат? – полюбопытствовал Франц. – Из-за чего вы напустились на него?
– В Испании тех, кто носит плащи такого покроя, как твой, считают еретиками.
– Что-то я в толк не возьму, – удивился Франц. – Мы же купили его позавчера в Бургосе на рынке.
– Купили в Бургосе, а носим в Толедо.
Севилья переживала тогда лучшие свои времена: с тех пор как по королевскому указу там сосредоточилось все, что имело отношение к Новому Свету, улицы ее были всегда запружены взбудораженными толпами, среди которых можно было встретить жителей всех испанских провинций и иноземцев со всей Европы. Эти разноязыкие полчища мечтали попасть в Америку или только что вернулись оттуда. А совсем недавно это путешествие мало кого прельщало: труды были тяжкие, опасности великие, а вознаграждение – скудное. Однако после покорения Мексики смущение умов достигло апогея. Когда же Писарро завалил метрополию сокровищами перуанского Инки, началось нечто вроде повального безумия: все хотели немедля плыть в те сказочные края, и никого не останавливали горестные рассказы сотен искалеченных ветеранов, просивших подаяния на площадях и у дверей кабаков. Гавани по обоим берегам Гвадалквивира едва вмещали флотилии судов, приплывших из-за моря и дожидавшихся очереди, чтобы выгрузить драгоценный товар в пакгаузы, амбары и арсеналы.
По числу жителей, насчитывавшему сто тысяч, Севилья давно уже обошла Толедо и становилась едва ли не самым густонаселенным городом мира.
– Никогда в жизни не видал такого столпотворения! – изумился Франц, глядя на людское море, затопившее все пространство от королевского дворца до кафедрального собора.
Мимо них важно прошествовали трое чернокожих в ярких одеждах. Самый старший из них с гордым видом отвечал на беспрестанно раздававшиеся приветствия.
– Его называют Черным Графом, – сказал Филипп. – Государь вверил его попечению две тысячи свободных негров, живущих в Севилье.
Путешественники, миновав Пуэрта-дель-Пердон, спешились и преклонили колени прямо на мостовой, по которой сновали бесчисленные прохожие.
На паперти собора вокруг одетых в черное чиновников стояли кучками по четыре-пять человек какие-то люди.
– Биржа, – объяснил Филипп. – Здесь записываются те, кто хочет плыть в Америку. Поспешим к Пуэрта-де-Херес, там мы отдохнем на постоялом дворе маэсе Родриго.
Добравшись до конца улицы, они свернули налево, отыскивая вывеску. Под апельсиновым деревом стоял монах, а рядом с ним – двое молодых индейцев, совершенно нагих, если не считать набедренных повязок и перьев на голове.
– Вот, Франц, погляди, что за люди живут в Америке.
– Я не так их себе представлял… Какие миленькие… Гуттен недовольно поморщился.
«Нет, как видно, горбатого могила исправит, – подумал он. – Висеть ему на крепостной стене вниз головой, если только господь и Пречистая Дева не вразумят его».
В открытом паланкине мимо пронесли чету карликов, богато разодетых в златотканые шелка. Крошечная женщина подмигнула Гуттену, а ее спутник, сорвав с головы бархатный берет, отвесил низкий придворный поклон. Гуттен рассмеялся, тронутый и позабавленный. Он любил карликов, состоявших в свите Фердинанда, и всегда с удовольствием болтал с ними. Ему припомнилось пророчество Фауста: «…двое карликов оплакивают вашу гибель», по спине у него поползли мурашки, но тут раздались пронзительные крики, и Франц схватил его за руку:
– Смотрите, ваша милость, турок! Турок сцепился со стражниками! Целое побоище устроил!
Четверо солдат тащили ко дворцу человека огромного роста в чалме, халате и с ятаганом в руке. Чуть поодаль корчился от боли какой-то школяр.
– Неужто вы не видите, сукины дети, – громоподобно орал турок, – что я больше католик, чем вы все, вместе взятые?! Нечего смотреть на мой наряд! Меня зовут Франсиско Герреро, я андалусиец, родом из Баэсы!
Тут Филипп узнал его.
– Франсиско Герреро! Мой янычар! Помнишь, я говорил тебе о нем? – обратился он к Францу. – Это он спас мне жизнь под Веной. Надо помочь ему! – И он тронул коня в самую гущу толпы, окружавшей место происшествия.
Однако какой-то тщедушный юркий человечек опередил его.
– Погодите, сержант! Тот, кого вы задержали, – мой друг и говорит чистую правду. Он добрый христианин, хоть и вырядился в басурманское платье. Кровь была пролита не по его вине, но из-за дерзости того, кто валяется вон там и стенает и кому дон Франсиско воздал по заслугам. Никто не смеет безнаказанно оскорблять порядочного человека. Мой друг всего лишь покарал мерзавца.
– Он прав! – подхватил Филипп, уже пробившийся сквозь скопище народа. – Я – капитан гвардии его величества и прекрасно знаю дона Франсиско.
Как видно, пелена ярости, застилавшая глаза янычару, рассеялась, и он узнал Гуттена.
– Разрази меня гром! – вскричал он. – Откуда ты взялся, Филипп?!
– Сеньор Герреро ранил человека, – вмешался сержант.
– Я же объяснил вам, что негодный школяр вздумал насмехаться над его костюмом, обзывать язычником и басурманом, того не зная, что наш несчастный друг исполняет епитимью, наложенную на него его святейшеством папой, – наставительно произнес тщедушный приятель янычара.
– Так ли это? – недоверчиво осведомился сержант.
– Клянусь Пресвятой Девой Макаренской!
Лоб сержанта прорезала морщина.
– Не отягощайте своей вины клятвопреступлением.
– А-а, опять не веришь? – потеряв голову, завопил янычар. – Так ступай же прямо к дьяволу в зад, там тебе место!
– Вон ты как заговорил? – разозлился сержант. – Стража! Что вы смотрите! Взять его!
Герреро поволокли дальше, но еще долго слышались его неистовые крики:
– Мерзавцы! Недоноски! Подлецы!
– До чего же не везет этому Герреро! – печально пробормотал человечек.
– Да уж…– отозвался Филипп. – Вы его друг?
– Две недели, как я прибыл в Севилью, две недели, как познакомился с ним, но и за столь малый срок он сумел снискать у меня живейшую приязнь. Молодец каких мало!
– Я не видел его добрых пять лет, но совершенно с вами согласен. Вы, верно, знаете, почему он в турецком костюме? Вы что-то говорили об епитимье…
– Именно так и обстоит дело, – с достоинством отвечал тот. – Вам, без сомнения, ведомо, что дон Герреро двадцать два года провел в плену у оттоманов. А чуть только сумел он освободиться, как судьба… Вы верите в судьбу?
– Еще бы мне не верить! Она одна может забросить меня в Севилью, а потом и за море…
– Ах, вы отправляетесь в Новый Свет?! Так ведь и мы с бедолагой Франсиско собирались туда!
– Не в Венесуэлу ли по поручению братьев Вельзеров? Тогда путь нам лежит в одну сторону.
– К великому прискорбию, сударь, мы-то плывем в Картахену. Должны были отчалить двенадцатого мая из Санлукара-де-Баррамеды на «Святом Антонии».
– А мы – накануне! – обрадовался Филипп. – Из той же гавани.
– Вот как? – удивленно переспросил тщедушный человечек. – Выходит, вы не слышали еще печальных вестей? Губернатор и капитан-генерал Венесуэлы, равно как и почти все его люди, убиты индейцами.
– Амвросий Альфингер погиб?
– Да, так мне сказал ваш соотечественник, такой осанистый из себя, он был вторым человеком после губернатора. Он очень был обрадован этим ужасным происшествием, иначе бы не повторял: «Наконец-то Фортуна улыбнулась и мне, теперь-то уж меня непременно сделают капитан-генералом Венесуэлы». После этого он прямиком направился в Германию. Вербовщики утверждают, что, пока это дело разъяснится, много воды утечет.
– А как звали его, не помните? – спросил Филипп, колеблясь между сомнением и уверенностью.
– Сейчас, сейчас, – отвечал тот, роясь в карманах, – он записал мне свое имя, хотел, чтобы в Венесуэле мы с Франсиско были при нем. А! Вот! – И он торжествующе развернул клочок бумаги. – Николаус Федерман! Судя по всему, он человек отважный и многоопытный во всем, что касается заморских дел. А вот о начальнике своем он отзывался очень дурно: по его словам, тот подвергал христиан телесным наказаниям и всячески над ними измывался. Его счастье, что теперь я его не встречу. Клянусь вам, я бы его убил в тот же миг, рука бы не дрогнула!
Гуттен весь напрягся, услышав, каким кровожадным тоном были произнесены эти слова.
– Я устал с дороги и хочу пить. Не продолжить ли нам беседу в кабачке «Дом Мавра» – это поблизости, в еврейском квартале. Выпьете вина, а я – лимонного соку. К сожалению, ничего крепче я в рот не беру.
– Возможно ли такое совпадение? И я дал зарок не прикасаться к хмельному!
Сопровождаемые Францем, они вошли в кабачок, где много веков назад помещались римские термы.
– Расскажите мне о моем янычаре, – попросил Филипп. – Почему же все-таки он ходит в турецком платье?
– После того как Франсиско был взят в плен папскими моряками, его привезли в крепость Сан-Анджело, и там он выложил все свои вины: и вероотступничество, и пиратство, и убийство добрых католиков под стенами Вены. Как вы понимаете, этого с лихвою хватило бы, чтобы быть повешенным, и не один раз, а семижды. Но его святейшество, каким-то чудом прознав о его злоключениях – кажется, из письма, которое послал ему некий великодушный германец, – велел привести к себе нашего Франсиско чуть ли не за час до казни. Не знаю, известно ли вам, – тут он прищелкнул языком, – что наш Франсиско – первейший в свете фигляр. Ну так вот, он призвал на помощь свои дарования и сплел такую историю, что наместник Святого Петра расчувствовался, пустил слезу и даровал ему жизнь, обязав, правда, до конца дней носить турецкое платье. Папа не ошибся в выборе наказания: не проходит недели, чтобы Франсиско не отколотили дубьем, дрекольем или еще чем похуже. По большей части достается ему из-за его лютого пристрастия к женскому полу.
– Великодушный германец, написавший папе, – это я, – весьма непринужденно сказал Филипп.
Юркий человечек переменился в лице.
– Так, значит, вы…
– Филипп фон Гуттен.
– Дон Филипп! – завопил тот в восторге. – Осчастливьте! Позвольте пожать вам руку! Нечасто встретишь на этом свете такого знатного господина, который заступался бы за обездоленных! Разрешите представиться, и не глядите, что я так бедно одет. Я дворянин из старинного рода и чистокровный баск. Зовут меня Лопе де Агирре. До сего дня я добывал себе пропитание тем, что объезжал коней.
Гуттен вместе с новым знакомцем выхлопотал Франсиско Герреро освобождение из-под стражи, для чего пришлось немало побегать по разнообразным канцеляриям военных и гражданских ведомств. Весть о гибели Альфингера подтвердилась, а потому отправка уже готовой экспедиции откладывалась на неопределенный срок.
– Думается мне, – говорил Франсиско, наслаждаясь за стаканом вина новообретенной свободой, – думается мне, сеньор Гуттен, что пора тебе взяться за ум и со всех ног мчаться за этим немцем Федерманом. Провалиться мне на этом месте, если его сделают губернатором. Эй, чертов сын! – окликнул он кабатчика. – Подай еще пинту этого «Вальдепеньяса» и по стакану лимонного сока для моих друзей!
– Ты прав! – отвечал Филипп. – Немедля отправлюсь за ним.
Янычар искоса оглядел Франца, а потом вдруг добавил, звучно отрыгнув: – Хочешь добрый совет? Не езди в Америку. И уж во всяком случае не ищи Дом Солнца.
Гуттен принужденно улыбнулся.
– Вот уже второй человек отговаривает меня от этой затеи. Первым был великий звездочет Иоганн Фауст. Может, ты тоже астролог и чернокнижник?
– Нет, клянусь Магометом! Но зато я андалусиец. А вдобавок к этому столько всякого видел и испытал, что сумел в совершенстве познать людские сердца. Таким, как ты, за морем делать нечего. Нужно обладать волчьей хваткой Лопе де Агирре, чтобы не сплоховать посреди прочего зверья. А человек, который дважды спас жизнь отпетому горемыке, будет лакомым куском для всей тамошней своры. Прости меня за прямоту, Филипп, ты еще слишком юн и не успел очерстветь душой. Оставайся здесь! Сиди дома! Держись поближе к императору! Место твое – рядом с ним!
Гуттен, усмехнувшись на эти слова, стал расспрашивать Лопе де Агирре о дороге на Барселону. Однако Герреро не успокоился. Он снова рыгнул, снова смерил Франца взглядом и не без раздражения произнес:
– А желаешь получить еще один совет? Дай-ка своему слуге коленом под зад, и чем скорее, тем лучше. У него на лбу написано, кто он таков, и кончит он плохо. Поверь мне, у меня глаз наметан.
Гуттен, не переставая посмеиваться, встал из-за стола.
– Ну, господа, прощайте. Нам пора. Судьба нас разводит, но я верю, что она уготовила нам еще встречи.
– Я ни капли в этом не сомневаюсь! – отвечал янычар. – Если уж два раза сводила она таких разных людей, как твоя милость и я, то уж наверняка столкнет и в третий. Дай-то бог, чтобы третья встреча случилась при обстоятельствах более веселых, да что-то плохо в это верится.
Филипп и Франц вышли из таверны и сели на коней. Гуттен сказал:
– Двинемся по дороге, ведущей к Кармоне. У меня предчувствие, что там мы найдем Клауса Федермана, который отныне держит в руках все дела конкисты.
– Поедемте, сударь, – согласился Франц, который в это время перемигивался с каким-то прохожим.
В Кармоне Филипп осведомился у первого же альгвасила, не видал ли тот чужеземца лет тридцати, с рыжей подстриженной бородкой, правильными чертами лица и с дергающейся головой.
– Не видал и видеть не хочу, – неприязненно ответил тот.
Филиппу, обескураженному таким ответом, ничего не оставалось, как проглотить обиду и пришпорить коня.
– Не отставай, не отставай, Франц! Гляди! Кажется, нам повезло: вон два рыцаря ордена Сантьяго. Может быть, они окажутся более приветливыми и разговорчивыми?.. Приветствую вас, господа, – по-испански обратился он к встречным.
– Guten Morgen, mein Herr, – вежливо поздоровались те.
«Нет, не зря испанцы так нас ненавидят, – думал Филипп, пока они обменивались любезностями. – Нас здесь четыре тысячи; плюнешь – в немца попадешь. А увидеть на немце плащ с крестом Святого Иакова – для испанца оскорбление не меньшее, чем помочиться на могилу самого апостола».
– Мы недавно оставили Федермана в кабачке в самом конце этой улицы, – сказал один рыцарь, а второй подхватил со смехом:
– И не думаю, чтобы он скоро оттуда ушел. Купно с какой-то красоткой, смуглой, как мавританка, он, кажется, собирается принести дары к алтарю Венеры.
– Правильно сделал, что отыскал меня, – сказал Федерман, не спуская глаз с Франца и своей случайной подружки, молча игравших в шашки за соседним столом. – Амвросий Альфингер отправился к праотцам, и Вельзерам некем заменить его на посту губернатора Венесуэлы – гожусь для этого дела я один, ибо я один смогу найти Дом Солнца. Вскоре я отправляюсь в Аугсбург через Лион, а ты поезжай в Севилью и жди меня там. Через два месяца вернусь. Вдвоем мы горы свернем, Филипп фон Гуттен!.. Однако скажи-ка мне: твой оруженосец… это он или она? Не собираешься ли ты выдать кошку за кролика или, вернее, смазливую девчонку за безбородого парня? А! Покраснел, покраснел! Кажется, я попал в самую точку! Не бойся, я не оскорблю ее стыдливости и никому не скажу о своей догадке. Неглупо придумано: переодел милашку в мужское платье и можно не бояться этих диких мест, где бродят толпы насильников и убийц… Ну, прощай, Филипп, я отправляюсь наверх слегка потешить плоть, а потом и в путь. Мне надо выехать затемно. В экспедиции ты станешь моей правой рукой. Итак, возвращайся в Севилью. До скорой встречи, брат мой!
Насмешливые похвалы Федермана его предусмотрительности встревожили Филиппа. Если Франц кажется переряженной женщиной, что подумают о его слуге их будущие спутники? Каких только сложностей не повлечет за собой это двусмысленное положение! После смерти Генриха Четвертого, брата Изабеллы Католической, который был всем известен как низкий распутник, началась гражданская война за престолонаследие, и «Сатурнов порок» стал преследоваться с невиданной дотоле жестокостью. И принцы, и владетельные герцоги расставались с жизнью по обвинению в содомском грехе: уличенных оскопляли и вешали или сжигали живьем. В Испании немцев окружает такая ненависть, что злобному извету поверит всякий. Что же делать? А может быть, и впрямь переодеть Франца в женское платье? Конечно, девица – вожделенная добыча для разбойников, но отчего бы им с Францем не присоединиться к какому-нибудь хорошо вооруженному отряду, как поступают купцы и паломники?
– Так я и сделаю! – воскликнул он, стукнув кулаком по столу, но вопрос, заданный им самому себе, остудил его пыл: «А если Франц заупрямится? Бедняга бежит от худой славы, которую откровения Камерариуса сделали совсем невыносимой. Он говорит, что впервые чувствует себя таким счастливым. Оттого у меня рука не поднимается прогнать слугу, хотя все его ужимки и повадки таковы, что могут навлечь на нас сильнейшие подозрения с самыми непредсказуемыми последствиями. Повешенные в Толедо – лишнее тому доказательство, грубые предупреждения янычара должны были насторожить меня, а недоверчивость Федермана – всерьез напугать. Нет, от Франца надлежит отделаться при первом же удобном случае. Если он все еще будет при мне ко времени нашей следующей встречи с Федерманом… Надо успеть поговорить с Клаусом перед тем, как он уедет. Надо подтвердить его мимолетное подозрение… Но мне ненавистна ложь! Рыцарю лгать не подобает, а уж мне, Гуттену, в особенности… Однако честь дороже… Дождусь, когда Федерман спустится от своей мавританки, изложу ему свои опасения… А вдруг она поможет раздобыть для Франца женское платье? А-а, вот и он!»






