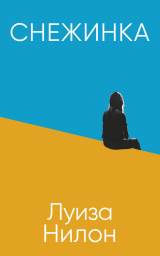
Текст книги "Снежинка"
Автор книги: Луиза Нилон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Не Мод Гонн
Бросив сумку в кухне, я пошла прямиком во двор. Билли я нашла в одном из стойл: он как раз собрался кормить новорожденную телку и сжимал в руках большую пластиковую поилку, из горлышка которой тянулась трубка. Заметив меня, дядя стал подкрадываться к жертве с преувеличенной осторожностью. Не успел он к ней прикоснуться, как та бросилась наутек.
– Иди сюда, поганец, – сказал он, хватая телку за хвост и притягивая к себе.
– Поганка, – поправила я. – Это девочка. И с коровами то же самое: ты вечно говоришь про них «сукин сын», хотя они дамы.
– В день, когда мне придется переживать о гендерной идентичности коров, я лягу на эвтаназию. – Дядя просунул пластиковую трубку в телкину глотку и поднял перевернутую бутылку у нее над головой. Молозиво медленно текло из бутылки в ее желудок. Интересно, чувствует ли она вкус?
– Вид у тебя как у мешком ударенной, – сказал Билли.
– Так и есть.
– Как все прошло?
Я покачала головой, ощущая, что краснею.
– Насколько плохо?
– Почему ты никогда не рассказывал, что бывают гречанки по имени Санта? – спросила я.
– Чего?
– Я познакомилась с девушкой. Ее зовут Санта.
– Рад за нее.
– Я думала, ты знаешь их всех.
– Греков-то? Всю древнюю цивилизацию? Я польщен.
– А говоришь о них так, будто знаешь.
Билли подпер щеку языком, словно пытаясь сложить что-то в уме.
– Ты злишься, что я не рассказываю того, что ты, насколько мне казалось, и без меня знаешь. Так?
– Нет, я злюсь, что ты рассуждаешь обо всем, как хозяин.
– Вот это обвинение.
Перепрыгнув через створки стойла, я села на солому, скрестив ноги.
– А потом, я говорю как лохушка.
– Вот-вот. Та девушка… Ее часом не Ксантой зовут? Ксан-та. Это греческое имя.
– Гребаный стыд! – Я упала в солому. Кровь прилила к голове. – А я ее все время называла как Санта-Клауса!
– Ну, теперь ты знаешь.
– Как я вообще столько прожила, ничего не зная?
– «Я знаю, что ничего не знаю». Сократ. Кстати, другим людям он тоже известен. Я не скрываю его от народа.
Я вертела в пальцах соломину. Если открыть и закрыть левый глаз, она превращается из двух размытых в одну четкую.
– Ненавижу быть дурой.
– Ты не дура. Лучше сказать, наивная.
– А это уже унизительно.
– Ничего унизительного тут нет. Наивный – отличное слово. Поищи его в словаре.
– Отстань!
– От латинского nativus – естественный, врожденный. Тот же корень, что у французского naître – рождаться. – Дядя вынул поилку у телки изо рта. Трубка волочилась по соломе, словно пуповина. – Мы все наивны. Ничего иного нам не остается.
– Ты, наверное, жутко устаешь от своего глубокомыслия.
– Я научил тебя всему, что знаю. – Билли с лязгом распахнул створки стойла.
– Кажется, в этом-то и проблема.
– Перекусить мне не сделаешь?
– А у меня есть выбор?
Я протянула руку, и он поднял меня с соломы. Возле коровника валялись три дохлых теленка.
– Ничего странного не замечаешь? – спросил Билли, пнув среднего.
– Он мертвый?
Дядя перевернул теленка мыском ботинка.
– У него ноги из середины живота растут.
– Чернобыль какой-то… А с другими двумя что не так?
– Слишком крупные. Бык производит таких крупных телят, что девочки не могут их вытолкнуть. Я сделал все, что мог, но без потерь не обошлось.
– Ясно… – Я кивнула, пытаясь совладать с эмоциями. Можно подумать, понимание ситуации делает ее легче.
* * *
Я достала из холодильника ветчину, помидоры, масло и метнула на стол.
– Какая у тебя первая ассоциация на слово «веган»? – спросила я.
– Гитлер, – ответил Билли.
– У меня тоже.
– Хотя он вряд ли был веганом.
– Ага, знаю. – Я разрезала помидоры черри пополам. – Я не успела подать на учебную субсидию.
– Почему?
– У меня аллергия на реальность.
– Лечись. А если я попробую оплатить тебе учебу за этот год?
– Ты не можешь себе это позволить.
Дядя налил воды в чайник через носик.
– А ты не можешь позволить себе не ходить в колледж. Тебе надо отсюда выбраться.
– Я не готова.
– Что значит «не готова»? Ты должна прямо рваться в город!
– Ну а я не рвусь. У нас даже интернета нормального нет.
– С крыши моей колымаги сигнал толком не ловится, – объяснил Билли.
– А на ноутбук у меня нет денег.
– Так вот из-за чего весь сыр-бор? Ты не можешь ходить в колледж из-за нашего паршивого интернет-соединения?
– Не только, полно других причин. Например, кто будет присматривать за мамой?
– Не твоя забота.
– Это ты так думаешь, но кто-то же должен за ней приглядывать. Тебя я не считаю.
– По правде говоря, ты и сама не слишком здорово с этим справляешься. – Дядя уселся за стол. – С каких пор ты заделалась матерью Терезой? Ты ищешь предлог остаться, хотя должна бы рвать отсюда когти.
– Всего на год. Я могу взять академ – отложить учебу и вернуться в следующем году. И тогда уже сделать все как следует.
– Когда ни начинай, время всегда неподходящее.
– Неправда. Я хочу жить в городе.
– Погоди-ка. – Билли, вскинув ладонь, проглотил разом полсэндвича. – Давай проясним: ты вернулась пришибленная, проведя там каких-то несколько часов, а теперь хочешь туда переехать?
– Я подам заявку на место в общежитии.
– В городе, который только что напугал тебя до усрачки?
– За год я накоплю. Ты не обязан платить мне столько же, сколько Джеймсу.
– Не бойся, я плачу ему куда меньше, чем следует, за всю его работу по хозяйству, не говоря уже о том, сколько он нянчится с твоей матерью. Все это он делает на общественных началах.
– Просто плати мне достаточно, чтобы в следующем году я смогла съехать.
– И просадить все сбережения на съемную конуру в городе?
– Все так делают.
Облизнув указательные пальцы, дядя, как ребенок, принялся подбирать ими со стола крошки черного хлеба.
– Поглядим, может, куплю тебе трейлер.
– Это значит «да»? – спрашиваю я.
– Это не значит ровным счетом ни фига.
– В любом случае я не вернусь. Не могу.
– Можешь и вернешься.
– Ты меня не заставишь.
– Господи, Дебс, сама-то себя послушай. Ты хоть понимаешь, что кочевряжишься, как избалованная девчонка? Провела денек в Дублине – и нате.
Я запрокинула голову, пытаясь сдержать слезы. Они у меня всегда близко лежат. От ненависти к себе плакать хочется еще больше. Я всхлипнула.
Билли вздохнул, смущенный:
– Да брось, этого только не хватало. Выше нос, снежинка!
– Не называй меня так.
– Не называй меня так, – передразнил он.
– Ты как малый ребенок, – огрызнулась я, но прием сработал: плакать я перестала. Я вытерла слезы рукавами рубашки.
– Дебс. – Дядя дождался, пока я подниму на него глаза. – Ты боишься Дублина. Не позволяй страху тебя остановить. Узнай город получше.
– Ты понимаешь, что в городе я знаю только казармы Коллинза и главпочтамт, куда таскалась с тобой на пару?
– Я пытался тебя радикализировать. Ты ведь у нас не Мод Гонн.
– Так и она была не бог весть что. Муза ирландской революции родом из Англии. – Я обмакнула в чай печенье с инжиром. – Ничего себе поворот!
– Ее отец – из графства Мейо, а в Англии она родилась не по своей вине. И как бы то ни было, от наивности она избавилась.
Размякшее печенье едва не упало в чай, но я успела поймать его ртом.
– Она позволила себя мифологизировать.
– Разве это плохо?
– По-моему, да.
Билли встал и в одних носках скользнул к задней двери.
– Ты отправляешься в колледж в этом году. Если мне придется взять расходы на себя, так тому и быть. – Он нагнулся надеть ботинки. – Учись водить, а с интернетом я разберусь, – сказал он и хлопнул дверью.
Сирша
Наш дом прячется в ложбине у подножия холма. Именуемого Холмом Часовщика в честь мужчины, который живет в одноэтажном доме на его вершине. Я не знаю ни его настоящего имени, ни почему его прозвали Часовщиком. Каждый день Часовщик проезжал на велике мимо наших ворот по пути в магазин за газетой. Никогда не здоровался, пахло от него старым торфом, и он единственный из всех моих знакомых курил трубку. Иногда, когда мы перегоняли стадо, Джеймс просил его постоять в воротах, и тогда я чувствовала себя обязанной с ним разговаривать, потому что он старый и одинокий. Он был немногословен, но иногда пытался угадать мой возраст. Всякий раз он ошибался в меньшую сторону и, когда я давала себе труд его поправить, смотрел с недоверием.
Луга по обеим сторонам дороги, спускающейся от дома Часовщика в деревню, пестрели от наших коров. Над кронами деревьев высился церковный шпиль. Живые изгороди были подстрижены, чтобы не загораживать пейзаж, открывавшийся между стволами двух дубов. В складке холма напротив нашего дома знак с ирландской надписью «Добро пожаловать!» приветствовал всех проезжающих нашу деревню.
Раньше на ограде возле наших ворот висела деревянная табличка. Билли вырезал ее мне в подарок на седьмой день рождения. Я очень хотела лошадь, но мама не разрешила. Вместо этого мне позволили дать имя нашему дому, что не было никаким подарком, но Билли сумел превратить в дорогой подарок то, что не стоило ни гроша. Я назвала дом так же, как собиралась назвать лошадку – Сирша, «свобода», в честь той свободы, которую мечтала ощутить, пустив лошадь галопом с холма к нам во двор.
Имя продержалось несколько месяцев, пока посреди ночи в наш сад не влетела чужая машина. Она была синяя, с поднятым спойлером, который перелетел через нашу живую изгородь, отскочив при ударе об ограду. Машина слишком быстро гнала вниз с холма; на покрытом черным льдом участке поворота ее занесло, завертело и отбросило прямо на табличку с надписью «Сирша». Погиб девятнадцатилетний парень. Иногда в годовщину его смерти родные оставляли у нашей ограды букет белых лилий. Мы смотрели, как они увядают, завернутые в грязный пластик.
В ночь той аварии мне приснился сон. В нем я была парнем и сидела за рулем. Сам сон я почти забыла, но помню, как он закончился. Я до последней секунды не видела крутой поворот у подножия холма, резко затормозила, ощутила под шинами лед – вращаться было даже приятно. В голове пронеслась прекрасная мысль. Мир закружил меня, как женщина вдруг заставляет тебя сделать оборот на танцполе, и ты чувствуешь себя немного глупо, немного немужественно, – но это не важно, это всего-навсего шалость и ты наверняка ей нравишься…
По словам мамы, я проснулась с криком прежде, чем мы услышали, как машина врезалась в ограду. Я была безутешна. Парень погиб по моей вине. Он ворвался ко мне в голову, и я помешала ему попасть в рай. Его разорвало на куски, убило вместе с машиной, обломки которой мы не переставали обнаруживать в саду. Я постоянно ревела, выла у себя в постели. Мама изо всех сил старалась меня успокоить.
Я начала ходить по ночам в трейлер. Однажды у Билли лопнуло терпение. Я сказала ему, что не могу уснуть, потому что тот парень остался у меня внутри. Дядя так сильно шлепнул меня по лицу, что я до сих пор не уверена, что это случилось на самом деле.
– Эта авария не имеет к тебе никакого отношения!.. – закричал он, а потом, закрыв лицо руками, сказал, что зол не на меня. Билли злился на мою мать.
Табличку с надписью «Сирша» мы так и не заменили. Билли о ней забыл, а я не решалась ему напомнить. Иногда по ночам мне до сих пор не спится от страха, что следующая машина, следующий призрак вот-вот потерпит крушение у нас в саду по пути к забвению.
Шлюхины ожоги
Выглянув из кухонного окна, я увидела на заднем дворе мать. Совершенно голая, она танцевала в зарослях крапивы. Стебли тянулись к ее груди, будто пальмовые листья в руках благоговейной толпы. Мамин позвоночник изгибался, и то одно плечо, то другое точно целовало ее под подбородок. Ладони описывали полукружья, словно она брела в воде. Казалось, крапива совсем ее не жалит, но тут мама показалась из зарослей, и я увидела, что все ее тело точно ошпарено.
К тому времени, как мужчины пришли на обед, она успела расчесать ожоги до крови. Билли сделал вид, что не заметил. Однажды, напившись, он назвал их шлюхиными ожогами.
Когда мама подала тарелку Джеймсу, он протянул руку и погладил красную сыпь с белыми волдырями, покрывающую ее кожу.
– Что с тобой случилось? – спросил он.
– Немного обожглась крапивой.
– Немного? Ты вся в ожогах. Ты что, упала в заросли?
– Нет, прыгнула.
– Что?
Мама заверила его, что обожглась нарочно.
– Чего ради тебе это понадобилось?
– Крапива содержит серотонин. Поэтому она и жжется: ее шипы, словно природные шприцы, вкалывают людям химикат счастья. Это полезно.
– Неужели?
– Да.
Поразмыслив мгновение, Джеймс кивнул:
– Ясно.
– С тобой, Мейв, Джимбоб рад будет нырнуть в крапиву головой вперед, – сообщил Билли, сосредоточенно обдирая шелуху с картофелины.
– Ну, я бы так не сказал.
– Если хочется наркоты, есть способы получше, – продолжал Билли.
– Помни про закон двух «Б»: блаженство и боль. Не зря их увязывают друг с другом, – напомнил Джеймс.
– Только в его случае это закон двух «П»: пьянство и похмелье, – добавила мама.
Шутка была не слишком смешная, но Джеймс захохотал так, что затрясся стол.
– Как всем нам известно, видов алкашей столько же, сколько звезд на небе. К счастью, я отношусь к общительным алкашам. Некоторым хватает серотонина, чтобы сидеть по домам и накачиваться вином прямо в кровати…
– Господи, Билли, расслабься! Это просто шутка, – сказал Джеймс.
– Ну, в любой шутке есть доля шутки.
И так каждый день. Мама с Джеймсом против нас с Билли. Состав команд определялся еще до того, как мы садились за стол.
* * *
У меня никогда не укладывалось в голове, что меня родила моя мать. Куда правдоподобнее казалось, что я возникла из навозной жижи, такая адская Венера, или вылезла из коровьей задницы. Я бы поняла, если бы моим папашей оказался Джеймс, потому что он любил маму, но, когда я родилась, ему было всего шесть лет. Джеймса зашили в рабочий комбинезон, как только он появился на свет в безземельной семье. В свои шестнадцать он подавал пиво в пабе своей матери, когда скончался мой дедушка. Билли позвал Джеймса к нам работать, и он оказался подарком судьбы, готовым доить коров, чинить заборы и принимать отел в любое время дня и ночи. Да и мама, убитая горем после смерти своего отца, оживлялась при его появлении.
Джеймс был старше меня всего на шесть лет. Он стал первым мужчиной, чье лицо я воображала, целуя по ночам подушку. Утром, когда он приходил завтракать, я предпринимала вялые попытки от него спрятаться. Укромных мест у нас в кухне было немного. Когда я куталась в шторы, снизу торчали ноги; изо дня в день залезать под стол, стараясь не задеть ноги Джеймса и взвизгивая всякий раз, как большая волосатая рука опускалась, чтобы меня схватить, тоже было нельзя. Как-то раз я спряталась за вешалкой-стойкой в задней прихожей, но это оказалось слишком далеко от кухни, и Джеймс забыл меня найти.
Я любила Джеймса, как любят диснеевских принцев, и привыкла отделять свои фантазии о нем от реальности. Слухи вокруг моей матери его нисколько не беспокоили. Ему было плевать на шепотки и перемигивания в пабе, когда перед закрытием он уходил с ней домой, чтобы провести ночь в ее постели.
Разница в возрасте между ними не бросалась в глаза, потому что мама для своего возраста выглядела молодо, а Джеймс казался старше своих лет. Билли говорил, что Джеймс прошел пубертат за полдня. Это правда. В одно мгновение он из мальчишки превратился во взрослого мужчину в шесть футов и семь дюймов ростом. Джеймс был капитаном местной команды по херлингу. Мы ходили на все его игры и смотрели, как мячик падает с неба в его протянутую ладонь, словно дар самого Бога.
* * *
Я никогда не знала, кем был мой отец, но, кажется, знаю, где меня зачали. На одном из наших полей располагается коридорная гробница каменного века с табличкой, предупреждающей, что это национальный памятник, находящийся под защитой государства, и порча земельного участка карается законом. Подростки ходят туда пить пиво. По пути к полю стоит указатель с надписью: «Ключ можно получить у мистера Уильяма Уайта. Поверните налево на перекрестке, обращайтесь в первый трейлер слева». Местный краевед, Билли время от времени проводит для любителей археологии экскурсии по кургану. Он официальный хранитель ключей и частенько оставляет ворота открытыми.
Две каменные ступени со стороны дороги отмечают вход на объект и тропинку к самому кургану, отгороженному от остального поля забором. Из земли поднимается аккуратный травяной купол. В коридорную гробницу ведет тяжелая железная дверь. Древний могильник оживляют смятые пивные банки, а порой – упаковки от презервативов. На священных камнях вытравлены имена, усердно процарапанные флопы «ОТСОСИ» соседствуют с мегалитическими зигзагами и спиральными надписями.
Название памятника, Форнокс, происходит от ирландских слов fuair, то есть «холодный», и cnoic – «холмы». Мать стала частью форнокского фольклора. Летом тысяча девятьсот девяностого года парни ходили туда, чтобы расстаться с невинностью. У мамы было единственное условие – она ни с кем не желала заниматься сексом больше раза. При мне никто об этом не упоминал, но все знали, что я знаю. Мне рассказал Билли – местный краевед.
Табернакль
Большую часть жизни моя мать провела во сне. Утренние часы лежали за гранью ее бытия. Ее будильник звонил в полдень, играя на повторе «В центре города» Петулы Кларк. Она просыпалась вовремя, чтобы приготовить обед – мужчины обедали в два. После обеда мама возвращалась в постель. Но сегодня было воскресенье – единственный день в неделе, когда ей следовало проснуться пораньше, чтобы успеть к десяти утра на мессу.
Я просунула в скважину лезвие ножа для масла и провернула его в замке до щелчка. Дверь, скрипя, открылась. По дому разнесся голос Петулы Кларк. Выключив будильник, я смотрела, как мама со стоном возвращается в реальность.
– Доброе утро, – сказала я.
– Доброе утро.
– Принести тебе кофе?
– Да, пожалуйста.
По опыту я знала: лучший способ не дать маме заснуть снова – это сделать ей кофе. Когда я вернулась с кружкой «Максвелл Хауса», она сидела за письменным столом, кутаясь в свой писательский плед.
* * *
За столом мама записывала в старую школьную тетрадь свои сны. Писала она только синими ручками и расстраивалась, если их не было рядом. Книгу своих снов мама начала писать еще до моего рождения. Она называла себя писательницей, хотя ее произведения никогда не публиковались. Посылать их в журналы или на конкурсы ей не хотелось, и, пожалуй, это было к лучшему.
Мы называли мамину спальню Табернаклем, потому что ее дверь, выкрашенная золотой краской, запиралась на такой же ключ, каким пользуется священник во время мессы. Рухни хоть весь мир, мама бы нисколько не встревожилась – главное, чтобы у нее оставалось личное пространство. Табернакль напоминал то ли арт-инсталляцию, то ли гримерку экспериментального театра. Иногда я вскрывала дверь, пока мама спит, просто чтобы взглянуть на эту комнату.
Заходя в нее, ты словно попадал в книгу-раскладушку. Мама вырывала страницы из книг и приклеивала на стены своей спальни. Сотни бумажных страниц составляли коллаж из поэм, романов и философских трактатов, посвященных единственной теме – снам. Она наклеивала их вплотную, будто сверяя улики.
Страницы скреплял малярный скотч. Приятно бывало отклеивать их друг от друга: они отлеплялись с чмоканьем и некоторым сопротивлением. Отверни уголок бумаги – найдешь под ней очередной слой снов. Потяни за титульный лист одного из ноктюрнов Джона Филда – и со стены грохнется целый манускрипт.
С потолка на косах из волос свисал мобиль из жестянок с выцарапанными на них спиралями. Жестянки сверкали небесным блеском. Казалось, что от прикосновения они зазвенят, но они издавали только нудное дребезжание, будто прекрасная женщина с противным голосом.
Под кроватью, рядом с ящиком мини-бутылочек белого вина, которые Джеймс регулярно таскал для мамы из своего семейного паба, стояла выцветшая коробка из-под печенья, полная открыток и репродукций, вырезанных из художественных журналов. На подоконнике лежал маленький синий череп из лазурита. На комоде в ногах кровати стояла темно-синяя лампа, похожая на толстую даму в широкополой шляпе. Свет лампы отбрасывал на стену мамину тень – ее удлиненный силуэт тянулся обнять близкое и недосягаемое спящее тело.
Выходить из дома мама решалась редко, разве что на мессу, в супермаркет или в отдел соцобеспечения. Билли следил, чтобы она еженедельно получала пособие, он называл его маминым грантом на занятие искусством. Он вел ее банковский счет. Мы на горьком опыте убедились, что, если дать маме доступ к деньгам, будет полный финиш. Раз в неделю Билли отвозил ее в магазин и сидел в машине, пока она ходила за продуктами. Иногда она возвращалась с пустыми руками, не считая пончика и смузи, и дяде приходилось отправлять ее обратно.
Нормальной она старалась быть только во время мессы. Дедушка был очень верующим. Пока он был жив, мы каждый вечер вставали на колени в гостиной и читали розарий. А еще он был ужасно гордый и любил, чтобы в церкви его семья выглядела прилично, поэтому вера у мамы стала ассоциироваться с элегантностью. Она с вечера выбирала наряд для утренней мессы, а утром принимала душ и тратила на сборы не меньше полутора часов.
Перед душем мама босиком выходила в сад и осторожно, неторопливо шагала по траве, будто по сцене, потом закрывала глаза, опускала руки вдоль тела и долго, медленно дышала полной грудью, вдыхая свежие запахи реальности и выдыхая собственную тайну.








