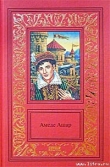Текст книги "Крокодил или война между добром и злом, случившаяся в царствование Людовика XV"
Автор книги: Луи Клод де Сен-Мартен
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Сен-Мартен, переживший ряд романтических увлечений, похоже, намеренно так никогда и не переступил известную грань. Рассуждения об «очаге чувственной страсти» (foyer d’affection), который сжигает женщину изнутри и привлекает наивных мужчин, не подозревающих о таящейся там бездне, были для Сен-Мартена доказательством того, что отношения полов должны строиться на основаниях более высоких, чем чувственные. Приводя в качестве «положительного» примера свою платоническую связь с Шарлоттой Бёклин, здесь же Сен-Мартен вспоминает о некой даме, общение с которой он прекратил, дабы не дать себе быть поглощённым (se laisser dévorer). Резюмирует эти рассуждения он афористически, возвращаясь к образу жаркого очага (foyer): «Будем же начеку, сторонясь открытого огня (tenous-nous en garde contre les fournaises)» [MP. № 265]. Себя он считал бесконечно далёким от отношений с женщинами вообще:
«Слышу в глубине души своей голос, мне говорящий, что происхожу я из некого края (духовной обители, ответственной за характер человека – М. Ф.), где женщин нет и в помине. Вот, без сомнения, причина того, что все попытки меня поженить, надо мною произведённые, окончились неудачей. Это не мешает мне, с тех пор, как обрёл я глубокие познания по поводу женщины, её уважать и любить больше, чем в пылкую пору своей молодости, хотя и знаю я также, что природа (matière) её ещё более вырождена и страшна, чем мужская» [MP № 468].
Говоря о своей «неловкости в присутствии женщин» (bêtise auprès des femmes), Сен-Мартен вспоминает, как в 20-летнем возрасте, после работы в городской управе, но ещё до начала военной службы, он сильно увлёкся одной девушкой, жившей неподалёку от Амбуаза. Вначале он решил просто написать о своих чувствах, а записку положить в конверте в шкатулку в её гардеробной, но потом, подумав, стал понемногу дополнять послание и однажды спокойно сообщил, где оставил признание, однако «таким путём я ничего не добился». Перед отъездом в полк он решил посетить её ещё раз и объясниться лично, но был принят так, что от любви «излечился» мгновенно [MP. № 119]. Несколькими годами ранее подруга его тёти недвусмысленно положила на него глаз, привлечённая его юностью. Однажды он отнёс ей тётино приглашение на обед, и состоялся такой диалог:
«– Готова поспорить, написали приглашение на обед именно вы.
– А как вы узнали? Вы же ни строчки мной написанной не видели.
– О скорее не глаза мне подсказали! Сердце!».
Однако эта история также не имела продолжения: «Этот вздор так меня отвратил, что я больше ни разу не переступил порог её дома». Посещая тётю, подруга зло смотрела на него, а когда спустя двадцать лет они вдвоём случайно оказались в соседних ложах в театре и вдруг увидели друг друга, старая знакомая узнала Сен-Мартена и «отшатнулась, будто увидала самого дьявола» [MP. № 142].
Чувственную сторону отношений Сен-Мартен всегда ставил ниже «душевного взаимопонимания»:
«Если б в юности я был бы достаточно волен, чтобы последовать по пути любовному, женщины бы увидели, что с помощью прямодушия они бы сделались владычицами души моей. Женщина, дружелюбно расположенная ко мне, которая бы поняла, как бы [бережно] я распорядился её искренностью, обеспечила бы себе безусловную власть надо мной, моим уважением и чувствами к ней. Те женщины, кого я заполучил бы лишь на том основании, что ими овладел (droit de conquête), были бы мне совсем не так дороги» [MP № 1129].
Сам процесс ухаживания за женщиной он ставил крайне невысоко, сравнивая мужчин, послушно увивающих за дамами, вальяжно принимающими это как должное, с наложницами, ублажающими в гареме турецкого султана [MP. № 312].
Образ Сен-Мартена как сурового «борца со страстями» будет искажённым, именно потому что, по его мнению, лучшим противоядием против них, и единственным, которого они заслуживали, было равнодушное презрение:
«Вспоминаю, как одна добродетельная дама навсегда отстранила от себя некого горячего мужчину, всего-навсего так протянув ему одну руку для поцелуя, после того как другую он страстно исцеловал, что, казалось, она ничего не заметила и не сделала ни малейшего усилия, чтобы ему помешать» (курсив наш – М. Ф.) [MP. № 1128].
Возвышение над «астральными» страстями – мотив, который занимает важное место и в «Крокодиле», в «назидательном рассказе одного незнакомца». Не стоит также представлять себе Сен-Мартена аскетом и ханжой, боявшимся всякого намёка на чувственность, у него встречаются смелые, колоритные и вольные образы. Он вспоминал, что в одном «очень давнишнем» произведении оставил пассаж об умственном рукоблудии (l’onanisme de l’esprit) как символе бесплодной и навязчивой мысли. Тиман, который побоялся нескромной формулировки, уговорил автора её убрать:
«Но сейчас мне на ум пришла другая, ещё более дерзкая – нам нужно самих себя заставить быть духом изнасилованными, чтобы [своему главному] делу быть полезными и стать плодовитыми» [MP. № 816].
Образы беременности и рождения как духовной работы немаловажны для Сен-Мартена, кроме пары уже процитированных вспомним и такой:
«Иногда казалось мне, что я бременен душой своей, а родить смогу только выйдя за границы мира сего. Вот что мне такую охоту придавало перейти из этого света в тот» [MP № 859].
В 1790 г. выходит начатый в Лондоне, а завершённый в Страсбурге труд «Человек желания», написанный при поддержке Тимана [MP. № 165]. Эта книга, стала, пожалуй, самой «признанной» из его работ [Moore 2006: 95], и первой, в которой заметно влияние Бёме. Сен-Мартен переведёт на французский язык ряд трудов Бёме, которого он очень высоко ценил – «человека, чистить подошвы башмаков которого я недостоин», «моего дражайшего (cherissime) Бёме» [MP. № 266, 334]. При жизни Сен-Мартена выйдет перевод «Авроры» (1800) и «Трёх начал божественной сущности» (1802), а уже после его смерти – «Сорока вопросов о душе», «Шести теософских моментов» и «Пансофического таинства» (1807) и «Тройственной жизни человека» (1809) [Gence 1824: 25–27]. В Страсбурге будет написана книга «Новый человек», изданная через два года в Париже. Работа, в которой заметно влияние шведского мистика Эммануила Сведенборга (1688–1772), была обязана, как и многие труды Сен-Мартена, активной поддержке со стороны – «побуждал» автора к её написанию внучатый племянник Сведенборга, барон Гёран-Ульрик Сильфверхьелм (1762–1819) [MP. № 165]. Излюбленная мысль Сведенборга о прямом соответствии Богу частей человеческого тела [Swedenborg 1771: 49], подпитывавшая сен-мартеновский образ человека как «всеобщего шифра и живой картины» божества [Saint-Martin 1782a I: 73], стала основой книги, построенной на представлении о человеке как «краеугольном камне храма», божественном слове [Saint-Martin 1792b: 270]. Сведенборга Сен-Мартен ценил ниже чем Бёме, полагая, что в его работах больше «астрального» [MP № 376], «в нём больше от науки душ, чем от науки духов», потому он и понятен большему числу людей, тогда как Бёме подходит лишь тем, кто вполне духовно «воссоздан» [MP. № 789].
В Страсбурге Сен-Мартен и встретил революционные события на своей родине. Спешно вернуться в Амбуаз в июне 1791 г. его заставляет страшная весть – болезнь отца, перенёсшего апоплексический удар и оставшегося парализованным [MP № 187], а позднее потерявшего рассудок [MP. № 312, 351]. Сен-Мартен покидает Париж, на две недели возвращаясь в Страсбург во время бегства Людовика в Варенн (20–21 июня 1791) [MP. № 187], но следующие два года его жизни после тяжёлого расставания с Шарлоттой будут связаны с Амбуазом, где умирал отец. Страсбургский «рай» останется в прошлом[11]11
Сен-Мартен, говоря о трёх городах, являющихся его раем, адом и чистилищем, прямо называет только рай – Страсбург [MP. № 282]. Определение остальных двух – любопытная задача, в которой специалисты не сходятся. Сен-Мартена, испытавшего шок от очередного переезда в Амбуаз летом 1792 г. из-за обострения болезни отца, спасает только «могущественная помощь моего друга Бёме» и письма «дражайшей Б. (Бёклин – М. Ф.)». Он близок к безумию и признаётся, что «там узнал ледяной ад отчаяния» [MP. № 304]. Основываясь на этом отрывке, Маттер «адом» Сен-Мартена называет его родной город Амбуаз [Matter 1862: 167]. Лотман считает «адом» Лион, где Сен-Мартен, ещё близкий масонству, «до разрыва с Виллермозом», провёл много лет [Лотман 1997: 507]. В том, что под «чистилищем» Сен-Мартена имеется в виду Париж, и Маттер и Лотман солидарны. Хотя треугольник «Лион – Страсбург – Париж» и хорошо вписывается в «культурную карту» французских путешествий Карамзина [Лотман 1997: 507], нам мнение Маттера, иногда некритически воспроизводимое [Summerfield 2008: 120], в данном случае кажется предпочтительнее.
[Закрыть]. В борьбе Провидения и земных обстоятельств, даже навязанных таким близким человеком, как отец, игравший в судьбе сына, как тот считал, роковую роль [MP. № 187], прошла вся жизнь Сен-Мартена, вкладывавшего в изречение: «Я просто цитадель, вновь и вновь осаждаемая, которую неотступно желали взять измором» [MP. № 967] именно этот смысл. Отсюда его сравнение своего земного пути с осторожным шагом канатоходца [MP № 546].
В начале 1790-х гг. Сен-Мартен подолгу живёт в особняке на улице предместья святого Гонория, дом 66 (Faubourg Saint-Honoré) в Париже и замке Пти-Бур (Petit-Bourg) в Эври, в 26 км от Парижа, на левом берегу Сены. И особняк и дворец принадлежат его покровительнице, принцессе королевской крови, дочери Луи-Филиппа Грузного (1725–1785), герцога Орлеанского, Луизе-Батильде (1750–1822), герцогине Орлеанской, также известной благодаря браку с Луи-Жозефом Конде, герцогом Бурбонским (1756–1830) как герцогиня Бурбонская [Mahul 1822: 255–259]. Эта женщина драматической судьбы и глубоких страстей, после несчастливого замужества и рождения сына, будущего герцога Энгиенского Луи-Антуана (1772–1804), стала в 1787 г. владелицей Елисейского дворца, приобретённого у последнего французского короля, и прославилась как покровительница бесчисленного множества «оккультистов» самого различного толка, от месме-ристов и иллюминистов до мистиков и прорицателей [Solans 2018]. Она играла видную роль в масонстве, будучи главой всех французских масонских лож адопции (loges d’adoption), в отличие от обычных лож принимавших как мужчин, так и женщин. Луиза-Батильда стала также поклонницей учения Сен-Мартена, который был о ней очень высокого мнения (как, впрочем, и любом ученике, отдающем всю свою душу наставнику в отличие от учителя, уделяющего тому только её часть): «герцогиня Б. (Бурбонская – М. Ф.) стоила больше всех поднаторевших в науках людей, которые её окружали» [MP. № 296]. Книга Сен-Мартена «Се человек» была скрытым посланием его покровительнице [Gence 1824: 21]. Говоря о «лжепророках», «обычных людях, которые, похоже, провозглашают покорение царства [мира] сего таким простым и очевидным, что, кажется, его осуществить можно <…> простым обретением знаний и независимо от принесения в жертву всего нашего существа и трудов его “в поте лица”» [Saint-Martin 1792a: 106–107], он предупреждал свою одарённую, но увлекающуюся «ученицу». Нужно отдать ему должное, вопреки репутации весьма «тёмного» автора, Сен-Мартен был далёк от увлечения «оккультными тайнами». Он упоминает об одном своём знакомом, с которым очень осторожно обсуждал любые «оккультные» темы в силу его крайней впечатлительности по этой части:
«В продолжение моего путешествия по Италии один человек из моего круга так его напичкал разными таинственностями (bourré de mysticités) и общениями со Святой Девой, что свернул ему мозги набекрень, и пришлось его изолировать [в лечебнице]. Общественное мнение не преминуло мне приписать это повреждение рассудка, точно так же как меня она спутала с Месмером, Калиостро и всеми теми шарлатанами, которые ей стали известны. Ведь для досужей публики всё, выходящее за пределы её “узеньких тропок” [разумения], окрашено единственным цветом – безумием» [MP. № 222].
Поразительно, но и герцогиня Бурбонская и её брат, герцог Шартрский Луи-Филипп (1747–1793), отказавшись от эмиграции, стали последовательными сторонниками Революции, лишившей их состояния и титула. Луи-Филипп принял имя Филипп Эгалитэ (Égalité фр. «равенство»), а в январе 1793 г. даже голосовал за смертную казнь короля, своего двоюродного брата (!), будучи депутатом Национального Конвента. В ноябре того же года сам Филипп Эгалитэ был гильотинирован, проведя полгода в заключении после того, как его сын Луи-Филипп (1773–1850), находясь на фронте, в апреле 1793 г. совершил государственную измену. Герцогиня Бурбонская, принявшая имя Батильды Верите (Vérité, «[гражданки] Истины»), вместе с братом была весной 1793 г. заключена под стражу, но пережила якобинскую диктатуру, в апреле 1795 г. получив свободу. После переворота 18-го фрюктидора 5-го года (4 сентября 1797 г.), направленного на ослабление роялистов в Директории, Батильда как член королевской семьи отправилась в изгнание в Испанию, где издала исповедальную книгу, посвящённую её пониманию «внутреннего христианства» [d'Orleans 1812], которую Сен-Мартен мог бы оценить. Много лет тщетно добивавшаяся права вернуться во Францию от Наполеона, по чьему приказу во рву Венсенского замка в 1804 г. был казнён её единственный сын, Луиза-Батильда только в 1814 г. смогла вновь поселиться в Париже. После возвращения Бурбонов на французский трон, она отказалась формально возобновлять брак с герцогом Бурбонским, поддерживая романтическую связь с провожавшим её в испанское изгнание жандармом, которого пережила на несколько лет. От нового короля Людовика XVIII, который помнил о революционном прошлом бывшей герцогини Бурбонской, она так и не получила назад Елисейский дворец, отдав последние годы жизни благотворительности. Архив Луизы-Батильды – мемуары и частная переписка – после её смерти был уничтожен во избежание скандала по приказу принца королевской крови Луи-Филиппа, будущего «короля французов» в 1830–1848 гг., её племянника.
11 января 1793 г. в два часа дня «на втором месяце 76-го года его жизни» умирает отец Сен-Мартена [MP. № 351]. Сын документирует всё, вплоть до последнего его взгляда и жеста. Отца, которого Сен-Мартен называл «творцом своих ясных дней», он по-своему любил, хотя и был очень далёк от него – отец в отличие от сына любил жизнь и умел ею наслаждаться. Сен-Мартен даже считал помутнение отцовского рассудка в конце жизни расплатой за земные удовольствия. Сын хотел, но уже не мог вернуть его к божественным предметам, от которых тот себя всегда защищал земными благами (dont il s’étoit toujours ombragé)[12]12
Букв. «оттенял», то есть защищался от божественного света тенью земных благ.
[Закрыть] [MP. № 351]. Сен-Мартен чувствует, что проживёт меньше отца. Через 10 дней после его кончины, 21-го января, будет прилюдно обезглавлен «гражданин Гуго Капет», последний французский король до Революции Людовик XVI. Сен-Мартен высоко ценил достойное поведение монарха во время суда [MP № 751]. 1793-й год принёс ему ещё одну печальную весть, осенью (по его сведениям, в сентябре или октябре) скончался капитан Грэнвилль, который почти тридцать лет назад ввёл его в круг мартинесистов [MP. № 439].
Следующий, 1794-й год, стал, вероятно, самым опасным в жизни Сен-Мартена. В феврале 1794 г. был национализирован особняк на улице предместья святого Гонория, что сильно огорчило его, к тому же не «принеся облегчения» судьбе Луизы-Батильды [MP № 447, 473]. Сен-Мартен не любил Париж, сравнивая его с выгребной ямой (cloaque) [MP. № 1014], и считал предпочтительным жить не в нём, а вблизи города:
«В Париже не нужно жить, если не хочешь оказаться "под ним”. Только те, кто живут рядом с Парижем, могут над ним возвыситься. Впрочем, возвыситься над всем миром можно где угодно (partout on peut être au-dessus de tout)» [MP. № 739].
Тем не менее, он благодарил судьбу за время, проведённое в парижском особняке, который был ему дороже загородного замка Пти-Бур:
«Особняк был для меня прекрасен сверх меры, а дворцы всегда внушают мне ужас» [MP № 447].
Для него дворцы являются «не только укором бедняцкой нищете, не только напрасно расходуют огромные площади, которые могли бы использоваться более полезно, но даже способности и дарования наши они используют ложно. Развивать наши таланты в области архитектуры, как и во всех иных искусствах, необходимо только для того, чтобы стремиться к почитанию Бога, а не человека» [MP. № 424]. В июне 1797 г., уже после выхода Батильды на свободу, Сен-Мартен совершает «прощальный» пятидневный визит в Пти-Бур:
«Насладился сладостными воспоминаниями, прогуливаясь в чарующем парке, где когда-то приходили мне чудесные мысли и глубоко в душе рождались чувства, которые я никогда не забуду» [MP. № 759].
До наших дней замок Пти-Бур не сохранился. Он был подожжён отступавшими из Парижа военными частями нацистской Германии в августе 1944 г., а впоследствии, как не подлежащий реконструкции, снесён.
Согласно декрету Конвента от 26–27 жерминаля второго года республики (15–16 апреля 1794 г.), дворяне и иностранцы высылаются из Парижа, и Сен-Мартен уезжает в Амбуаз. Как это ни поразительно, дворянин по происхождению, он даже одобряет такие меры:
«По правде говоря, если среди людей знатных и встречаются люди уважаемые, честные и справедливые, всё-таки нужно согласиться, что само по себе дворянство – это гангрена, живущая только за счёт пожирания того, что она окружает. Та или иная её часть, из людей состоящая, никакой роли не играет – как же нанести по дереву удар топором так, чтобы ни ветви его ни внутренность не повредить, когда оно будет падать?» [MP. № 449].
Неприятие Сен-Мартеном знати как класса, в чём-то сближавшее его с Руссо, доходило до почти физиологического отвращения:
«Крестьяне моются реже людей из высшего света, а я утверждаю, что они всё-таки не такие грязные» [MP № 515].
Стремление «выбиться в люди», то есть стать дворянином, он презирал и в самом конце жизни заметил, вспомнив название известной комедии Мольера:
«Лучше уж быть дворянином в мещанстве, чем мещанином во дворянстве» [MP № 1077].
Переписка с иностранцами с марта 1793 г. перлюстрировалась Наблюдательным комитетом (Comité de surveillance), и вскоре Сен-Мартена вызвали туда на допрос по поводу сношений на «странные» темы с швейцарским бароном, бернским магистратом Николаем-Антоном Кирхбергером (1739–1799). Эта переписка [Saint-Martin 1862], продолжавшаяся с мая 1792 г. по ноябрь 1797 г. была небезопасной – наёмники в гвардии Людовика XVI, отдававшей за него жизнь во время осады Тюильри 10 августа 1792 г., были швейцарцами, что у новых властей, и так бдительных в отношении иностранцев, могло вызвать ещё больше подозрений. У Сен-Мартена получилось оправдаться, хотя переписку с Бёклин он на время прекратил, чтобы её не компрометировать [Saint-Martin 1862: 91–92], но едва ли страх был причиной просьбы, высказанной в октябре 1793 г. Кирхбергеру:
«Прошу вас также при указании адреса в письмах ко мне слово "господин” (monsieur) убрать и заменить на "гражданин” (citoyen). Таково нынешнее обозначение всех, кто составляет французскую нацию, и я ревностно желаю ему соответствовать (je suis jaloux de m'y conformer)» [Saint-Martin 1862: 103].
На настойчивые предложения покинуть Францию на время, знакомым, готовым его приютить [MP. № 272, 288], как и ранее Сен-Мартен отвечает отказом, дорожа тем, что может наблюдать события вблизи:
«Великая картина нашей дивной революции меня притягивает к себе. Здесь мне удобнее созерцать её с позиции философа» (20 ноября 1793 г.) [Saint-Martin 1862: 108].
В мае 1794 г., через месяц после возвращения в Амбуаз, Сен-Мартен назначается своим округом ответственным за перепись книжного собрания в городе, организованного столичными властями для составления национального каталога книг. Эта работа ему по душе, потому что не тяготит ни душу, ни тело, тем более, в «делах» он ничего не смыслит [MP. № 455].
По иронии судьбы или же, как полагал Сен-Мартен, по воле Провидения, отъезд из Парижа ещё весной если и не спас ему жизнь, то не лишил свободы. Вообще то, что сын мэра Амбуаза, близко знакомый со множеством могущественных дворян королевской крови, к тому же состоявший в постоянной переписке с «швейцарцами», остался жив, можно считать если не чудом, то удачным сложением обстоятельств. Реальная угроза ареста Сен-Мартена была непосредственно связана с его близостью Батильде Орлеанской, но причины интереса к её «оккультному» кругу знакомых нужно искать в политической обстановке, сложившейся летом 1794 г. в высших эшелонах власти. К этому времени огромное влияние Максимилиана Робеспьера (1758–1794), ведущей фигуры во всесильном Комитете общественного спасения, непримиримого в поиске всё новых и новых «врагов народа» (ennemis du peuple), начинает вызывать опасение даже его соратников. Повод для того, чтобы подобраться к Робеспьеру, который был поборником введения пришедшегося не по душе «радикальным атеистам» «культа Верховного Существа», вскоре нашёлся.
В эти годы в Париже получила известность бывшая монахиня Катрин Тео (1716–1794) [Lenotre 1926; Garrett 1975: 77–96]. Она зарабатывала на жизнь прорицаниями, а с 1792 г. стала провозглашать приход царства Божьего и появление «Мессии» из среды «богоизбранного» французского народа, а себя объявила богоматерью (Mère de Dieu). В первые годы революции огромную популярность с подобными же «милленаристскими» пророчествами получила также бывшая монахиня Сюзанна Лябрусс (1747–1821) [Vulliaud 1988], которая предсказала Французскую революцию, а позднее признала Робеспьера новым «Мессией». Её судьба могла бы сложиться печально в годы якобинской диктатуры или после Термидора, но истовая католичка Лябрусс в 1792 г. отправилась в Рим проповедовать революционные идеалы [Bourgin 1907], что вскоре закончилось для неё бессрочным заключением в Мавзолее Адриана. Она была освобождена наполеоновскими войсками в феврале 1798 г. и вернулась в Париж, когда Робеспьера уже не было в живых. Вплоть до ареста весной 1793 г. Батильда Орлеанская покровительствовала Катрин Тео, как и ранее Сюзанне Лябрусс, до её отъезда. 13 февраля 1792 г. в Елисейском дворце у Батильды на прощальный вечер собирается весь «оккультный» круг, чтобы благословить Сюзанну на поездку. Среди приглашённых гостей семь «конституционных» епископов (после Революции они уже не назначались Папой Римским, а избирались выборщиками), в числе которых епископ Дордони, родного края самой Лябрусс, Пьер Понтар (1749–1832), бывший католический священник, поддержавший гражданские реформы церкви [Byrnes 2014: 88–90]. Понтар был одним из самых ярких сторонников Сюзанны Лябрусс [Crédot 1893: 510–523], выпустившим в 1797 г. собрание её трудов [Labrousse 1797]. Гораздо более сдержан другой гость этого вечера, Сен-Мартен, который не решается высказать сомнения в истинности «бого-духновенных» пророчеств Сюзанны, так и не найдя способа выразить важную для себя мысль:
«Даже не духом испытываются духи, а чем-то большим, чем он, так же, как и металлы – чем-то более сильным, чем они сами» [MP. № 34].
К духовным изысканиям самого Понтара он относился сдержанно и даже снисходительно [MP. № 324]. Летом следующего года в замке Пти-Бур, уже после ареста Батильды, Сен-Мартен станет свидетелем пророчеств и «богоматери» Тео, также его не особо впечатливших:
«Имел возможность лицезреть в Пти-Буре старую деву по имени К. (Катрин – М. Ф.), которая мне была интересна своими добродетелями и сильной харизмой, хотя речи об уме там и не было. С помощью собственного учения она меня ни в малейшей мере ни уверила ни в своей миссии, ни в новом Благовестии, ни в царстве [Божием, пока] не наступившем, ни в ничтожности прошлого, ни в бессмертии, ни во всех иных вещах, которые ученики её принимали с огромным воодушевлением. Эта новая ветвь духовного общения (commerce spirituel) мне сама себя явила, притом, что я и не искал её, как и все остальные, мне известные, дав мне возможность вновь приложить к делу своё призвание – в той его части, которая касается, в первую очередь, моей роли обозревателя» [MP. № 426].
В числе тех, кто сочувственно внимал пророчествам Катрин Тео, был не только пользовавшийся доверием Робеспьера Кристоф-Антуан Жерль (1736–1801), сблизившийся с якобинцами и увлёкшийся оккультизмом бывший настоятель католического монастыря, но и члены семьи плотника Мориса Дюпле, в доме которого равнодушный к роскоши Робеспьер жил до самой смерти [Манфред 1983: 316, 344]. Катрин Тео и Жерль ещё в мае 1794 г. были арестованы Комитетом общественной безопасности, главным органом якобинского террора. В апогей расправ, вскоре после реорганизации революционного трибунала, «упростившего» преследование «врагов народа», один из главных соратников Робеспьера, глава этого зловещего комитета Алексис Вадье (1736–1828), который вскоре сам предаст Робеспьера, 27-го прериаля II-го года (15 июня 1794 г.) обвиняет Тео и Жерля в «религиозном» заговоре против революции [Манфред 1983: 190, 344]. Робеспьер понял, что таковым же можно будет считать и культ Верховного Существа, пышно отмеченный по его инициативе в Париже за неделю до доклада Вадье. У Робеспьера чудом получилось отстоять обвиняемых и официально не дать процессу дальнейшего хода, что впрочем, ему самому не помогло. Термидорианский переворот в конце июля положит конец власти и жизни «диктатора», в душе которого в июне произошёл какой-то роковой перелом, и он от борьбы за власть отказался, мысленно обращаясь уже не к современникам, а к потомкам [Манфред 1983: 350–355]. На основе показаний Жерля к началу июля составляют список постоянных гостей замка Пти-Бур. Сен-Мартена, ордер на арест которого был выписан за неделю до свержения Робеспьера, 20 июля 1794 г., спасает то, что его уже нет в Париже, а после Термидора «дело птибурского кружка» сходит на нет. Катрин Тео умерла в тюрьме несколько месяцев спустя, а Жерль, вышедший на свободу по амнистии в октябре 1795 г., даже успел сделать журналистскую и министерскую карьеру при новой власти.
Об этих событиях Сен-Мартен узнал от своего друга, члена сведенборгианского кружка «Авиньонские иллюминаты» Гомбо дю Виньона (?-1822) [Grégoire 1828: 196–197], ещё одного подопечного Батильды. Он был арестован ещё в мае вместе с Жерлем в числе последователей Тео и вышел на свободу после июльских событий:
«Снова имел прекрасную возможность поблагодарить неистощимое Провидение, непрестанно со мной обращающееся как с избалованным ребёнком. Задержали множество людей, связанных или имеющих отношение к одной общей нашей знакомой (Батильде Орлеанской – М. Ф.), намеревались арестовать и многих других из этого списка. Хотя я больше, чем кто-либо ещё, отметился в этом «кружке» в силу целого ряда причин, меня настолько потеряли из виду, что и речи обо мне не было. Если бы я находился в Париже, без сомнения, не избежал бы этой участи. Декрет 27-го жерминаля о знати и сберёг меня. Вот и поглядите, какие же мы умные, когда [на судьбу] ропщем. Потом узнал, что имелся ордер на мой арест, выписанный на моё имя, но стало об этом мне известно только месяц спустя» [MP. № 464].
По словам Сен-Мартена, ещё не зная о грозящей ему опасности, за день до того, как пришла весть о перевороте, молясь, он был готов к тому, чтобы быть «арестованным, расстрелянным, утопленным», уверенный, в божьей помощи:
«Когда на следующий день я узнал новость [о перевороте], то просто был поражён, дивясь и восхищаясь любовью божьей ко мне. Ведь я видел, что Он благосклонно воспринял совершённую мной жертву, да даже если не брать её в расчёт, Он хорошо знал, что она для меня ничего не стоит» [MP № 542].
Излишне говорить, что Сен-Мартен даже из-за религиозного «культа Верховного Существа», введённого Робеспьером, не был его поклонником, в отличие от, например, Карамзина [Лотман 1997: 117–122, 517, 572–574]:
«”Так Ты не желаешь, чтобы Тебе хвалы воздавали”, – часто повторял я, обращаясь к Богу в своих молитвах, пока продолжалось жуткое правление, пережитое Францией под неусыпным единовластным надзором[13]13
Букв. «под тиранической ферулой». Ферула (лат. ferula, «прутик») – деревянная, реже металлическая линейка, которой били по рукам отвлёкшегося или провинившегося ученика в школе.
[Закрыть](ferule tyrannique) Робеспьера» [MP. № 465].
После падения Робеспьера участие Сен-Мартена в гражданской жизни Франции становится более заметным. По свидетельству Жанса [Gence 1824: 10], в 1794 г. (если это так, то, вероятно, осенью или зимой) Сен-Мартен даже вступает в Национальную гвардию и участвует в охране крепости Тампль, где последние месяцы в заключении доживает несчастный сын Марии-Антуанетты, после казни Людовика XVI ставший «Людовиком XVII» (1785–1795). Три года назад, в 1791 г., Сен-Мартен оказался в списке вероятных кандидатов на роль воспитателя для малолетнего наследника престола, что заставило его вспомнить собственное пророчество, данное мачехе в юности:
«Вы ещё услышите, как обо мне говорят. Не могу сказать, в какой сфере» [MP № 164].
Однако, уже встретившись с вымыслом Жанса касательно награждения крестом Святого Людовика, будем опираться в первую очередь, на слова Сен-Мартена, который упоминает только своё участие, как раз в августе-сентябре 1794 г., в охране заключённых амбуазского замка [MP. № 490], что делает возможным предположение об очередном недоразумении.
Декрет Национального конвента от 9-го брюмера III-го года (30 октября 1794 г.) создаёт прообраз Высшей нормальной школы (École normale supérieure):
«В Париже будет учреждена Нормальная школа, куда будут призваны изо всех частей Республики определённые граждане, уже наделённые знаниями в полезных науках, дабы под руководством наиболее искусных педагогов во всех родах знаний обучиться искусству преподавания» [Textes officiels 1992: 50].
Сен-Мартен как представитель Амбуаза в январе следующего, 1795 г., становится слушателем в Эколь Нормаль. Обучение в нарочито светской школе немолодой человек с уже сформированным религиозным мировоззрением считал сознательным испытанием:
«Я буду подобен металлу в плавильном горне, и быть может, выйду оттуда ещё более сильным и твёрдо убеждённым, чем раньше, в тех положениях, которыми насыщено всё моё существо» [MP № 524].
Так и случилось: 27-го февраля произошёл диспут его с преподавателем курса нравственных и политических наук, бывшим министром юстиции (с октября 1792 г. по январь 1793 г.) и министром внутренних дел (с января по август 1793 г.), Домиником Жозефом Гара (1749–1832). Сен-Мартен отстаивал мысль о несводимости познаний, в том числе нравственных, а также слов, к ощущениям, одновременно пытаясь осветить собственное, зачастую парадоксальное, отношение к решению ряда философских проблем и «непринадлежность» философским школам того времени. Фактически это была дискуссия студента с преподавателем, к тому же, по словам Сен-Мартена, Гара аудитория принимала лучше, а смех вызывали исключительно его слова. Он мысленно ставит точку в этой истории с Эколь Нормаль:
«Думаю, что роль моя там, в общем, исчерпана» [MP № 528].
Возражения Сен-Мартена против тезисов Гара выйдут в сборнике диспутов Эколь Нормаль в 1801 г. [Saint-Martin 1801]. Сама Эколь Нормаль, закрытая в 1796 г., возродится в обновлённом виде в 1808 г., уже после смерти Сен-Мартена.
«Краткое содержание обмена мнениями, имевшего место в Эколь Нормаль 9-го вентоза между одним из учеников и профессором по поводу человеческого разума» было приложено к знаменитой работе Сен-Мартена: «Письмо одному другу или Политические, философские и религиозные соображения по поводу Французской революции» (1795)[14]14
Выходные данные книги, «3-й год республики» (сентябрь 1794-сентябрь 1795 г.), говорят о публикации в 1795 г., однако, возможно, она вышла в начале следующего года. Кирхбергер в январе 1796 г. упоминает «ваш последний труд о французской революции» [Saint-Martin 1862: 248]. У Маттера [Matter 1862: 453] и в ряде современных трудов [Bates 2000: 651; Moore 2006: 73] 1796 г. стал указываться в качестве даты выхода «Письма», хотя ничто не мешает опираться на выходные данные (1795 г. издания). Каро им верен [Caro 1852: 91], а у Бэйтса приведены обе даты [Bates 2000: 645, 651].
[Закрыть]. Читатель, надеющийся обнаружить в 100-страничном «Письме» политический памфлет или хотя бы исторический обзор революционных свершений, будет разочарован. Они там не упоминаются, а мысли Сен-Мартена по поводу конкретных судьбоносных изменений в жизни его страны теряются в массиве историософских и социологических рассуждений. «Письмо», самую яркую «публицистическую» работу Сен-Мартена, нужно анализировать в контексте всей его философии во избежание скоропалительных выводов, помня при этом о чрезвычайно интересной и богатой символике самого слова «революция»[15]15
Мы коснёмся любопытной истории слова «революция» [Одесский, Фельдман 2012: 180–189], потому что французский язык сохранил весь его спектр значения, и слово это у Сен-Мартена несёт различные смыслы. Лат. revolutio восходит к глаголу revolvo (букв.: «валяю сызнова», учитывая родство «валять» в исконном значении «катать» с лат. volvo [Фасмер 1986 I: 268, 271]) – «качу назад, разворачиваю, раскрываю». Revolutio имело естественнонаучное применение и обозначало самые различные циклические природные изменения, круговерти: от астрономических («круговращение» небесных тел у Коперника) до геологических (труд Кювье о трансформациях поверхности земного шара рассуждал о les révolutions de la surface du globe). Позднее, в значении «превратность» слово обрело и применение историческое. Именно в этом смысле его использует Крокодил, когда в 35-й песне говорит о превратностях или переворотах (révolutions), которые заставил испытать императорский Рим, и «незнакомец», когда говорит о переворотах (révolutions) в царствах из-за обращений астральных сфер (песнь 88-я). Тартарская женщина упоминает о перевороте, устроенном её родом, а «незнакомец» рассуждает о переворотах, предсказанных астрономическим (для Сен-Мартена это то же самое, что и астрологическим) путём (песнь 89-я). Семантическая цепочка фр. révolution имела вид: круговращение > превращение/превратность > переворот политический > возврат нацией исконных прав. «Перемена» во время Французской революции стала обозначать возвращение нацией суверенитета, отнятого у неё королевской властью и двумя её опорами – дворянством и духовенством. Любопытную параллель, пусть и очень отдалённую, к revolutio являет арабское daulatun (масдар от глагола dala – «он круговращался») с широким спектром значений («перемена, поворот счастья, превратность, преодоление, победа, господство, владычество, государство, династия») [Гиргас 1881: 264]. Именно в значении «государство» оно вошло с озвученной te marbutah в тюркские языки (ср.: азерб. dovlst, тур. devlet, узб. davlat). Персидский сохранил всю гамму значений daula(t), группирующуюся вокруг семантического ядра со значением «круговращения».
[Закрыть].