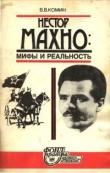Текст книги "След Махно (СИ)"
Автор книги: Лора Сотник
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Но так вечно продолжаться не могло. И отчаявшаяся Цетка придумала выход…
Ради спасения всех, кто стал заложником этой ситуации, она готовилась отдать Ивана в чужие руки, записать на чужое имя, а Нестору объявить, что ребенок умер от младенческого. Внутренне она легко настроилась на это, оставалось найти людей, согласных пойти на сделку. Конечно, умная и расчетливая Цетка была крепко обеспечена Нестором и могла долгие–долгие годы безбедно жить и тайно содержать Ивана.
Но долго ей прятаться от своего невенчанного мужа не пришлось. Едва их сыну исполнился годик, как Нестор, поджавши хвост, бежал из страны, чтобы умереть на чужбине в грязи и бесславии от своих преступлений – никогда не прощаемых пострадавшими и их потомками.
Вырос Иван, как все горбуны, очень добрым, тихим и печальным. Цетка очень заботилась о нем, вырастила, дала среднее образование, побеспокоилась о профессии, выстроила ему дом рядом со своим.
Сама же после бегства Махно за рубеж присмирела и несколько лет очень по нему тосковала. А потом вышла замуж за некоего Тищенко, тоже махрового махновца, ибо таков был круг ее знакомых. О детях, конечно, уже не думала, но в 1937 году неожиданно родила дочь Эмилию, Милу. И все повторилось сначала, словно рок висел над ней: как только появился ребенок, так сразу она осталась одна – мужа в конце того же года арестовали и больше она его не видела. О том, что его через несколько дней после ареста расстреляли, она совершенно без удивления и с великим пониманием узнала десятилетия спустя. Однако это не мешало ей пользоваться не только сокровищами от Махно, но и тем, что награбил отец ее дочери.
Мила была красивой девушкой. Окончила школу без больших успехов. Но разве это имело значение, если на ее жизнь и жизнь ее детей было вдоволь припасено добра? Надо было только уйти от тех людей, которые понимали, за счет чего она живет. Поэтому Эмилия сразу же уехала в город и там хорошо устроилась. Первое время, пока жива была Цетка, она приезжала в Славгород, пышная и благополучная, а после смерти матери ее приезды стали редкими и короткими. С Иваном она практически не поддерживала родственных отношений. Была ли у нее семья, неизвестно…
Не скоро горбатый Иван женился, зато – по страстной любви, на молоденькой и приятной внешне женщине. Жили они в ладу друг с другом. Иван жалел жену, на работу не посылал, а сам работал рабочим на местном металлообрабатывающем заводе, особенно не надрываясь. Году, наверное, в 1950‑м жена родила ему сына. И тут…
Тут надо сказать, что память о Несторе, – оторванная от его кровавой сущности и чистыми душами очищенная от преступлений, – всегда трепетно хранилась в этой семье. Наверное, даже такой, проклятый всеми земляками и к тому времени уже давно умерший, он был нужен несчастному его отпрыску. В доказательство преданности и признательности отцу за обеспеченную и беспроблемную жизнь Иван назвал сына Телесием. Это было счастливое время.
Но, как говорят, жизнь идет полосами – пришла и к Ивану черная полоса, если не считать, что вся его жизнь была такой полосой, – от оторвавшегося после родов тромба умерла любимая жена, и Телесика взялась поднимать на ноги Цетка, дабы оградить от неласковых забот возможной мачехи.
Внук Махно не блистал талантами, в школе учился посредственно, но был тихим и послушным мальчиком, к тому же физически здоровым. И это привлекало к нему симпатии. Потом Телесика призвали в армию. А после демобилизации он в Славгород не вернулся, остался где–то среди чужих людей, унеся с собой правду о прошлом своих предков и о своем происхождении.
Спустя несколько лет после тяжелой потери совсем постаревший Иван женился вторично и опять взял в жены молодую женщину, без детей и предыстории. Звали ее Марией. Мария родила ему дочь, которая, скорее всего, там же и проживает. Известно только, что Иван не увидел ее взрослой – умер в 1965 году. Цетка надолго пережила сына и упокоилась только в 1980 году, когда Телесий Иванович, сын Ивана, в дальних краях давным–давно устроился в жизни и взял в свои руки владение бабушкиными богатствами.
Конечно, Цетку дергали, несколько раз вызывали в КГБ на беседы – в Синельниково и даже в Днепропетровск. Не все вопросы она помнила, потому что сидела там растерянная и напуганная. О каких–то, возможно, не хотела рассказывать спустя годы подругам. Но отвечала искренне, без утайки.
Сначала спрашивали, знала ли она Нестора вообще. Этого факта отрицать она не могла.
– Вы знали, чем этот человек занимается? – вкрадчиво продолжал хозяин областного кабинета, где Цетку допрашивали.
– Знала, – отвечала она, – он любил купать лошадей помещика Миргородского и водить их в ночное.
– А позже?
– Позже мы стали подростками и полюбили друг друга.
– Что вас связывало с гражданином Махно в зрелом возрасте?
– Больше ничего, – призналась Цетка. – Только любовь.
– А на эксы вы с ним ходили?
– Куда?
– На экспроприации, – пояснил хозяин кабинета.
– Может, и ходили. Я не знаю… – Цетка от волнения сдвинула с головы косынку и вытерла ею помокревшие губы. – А что это такое?
– Это налеты на усадьбы граждан. Грабежи и убийства. В таких акциях вы участвовали?
Цетка истово перекрестилась.
– Какие страшные вещи вы говорите… Нет, в таком я не участвовала!
А тот, что допрашивал Цетку в Синельниково, все интересовался, звал ли ее Нестор с собой за границу и почему она с ним не уехала.
– Звать–то он звал, но кто меня там ждал с сыном–инвалидом? Да и не сделала я ничего такого, чтобы бежать.
– А он сделал?
– Он что заработал, то и получил, – Цетка опять перекрестилась, неразборчиво зашептала молитву.
– Не жалко было его другой отдавать? Муж все–таки…
– Нет, – простодушно призналась Цетка. – Он терял силы, болел. Ему не жена нужна была, а кормилица и нянька. Вон с ним поехала эта дылда, которой он до подмышек доставал, – и ладно. Я знаю, что он любил одну меня.
Даже соседку Цеткину Бараненко Александру Федоровну вызывали и допрашивали на предмет того, была ли Светлана Антоновна Григорьева причастна к махновской деятельности. Наверное, не у нее одной этим интересовались. Но предъявить Цетке таких обвинений никто не мог. Ну гуляла она с Махно, так, может, не по своей воле. И уж точно не по политическим причинам! Не только она искала судьбы в мужиках, запутавшихся в политике, – жизнь–то одна. Чья вина, что пришлось им жить в такое расхристанное время?
Единственная, кого Цетка предала, и то – невольно, на то время жила за границей, а по возвращении быстро сменила фамилию и сама остерегалась высовываться, не то что других обвинять.
Цетку в КГБ выпотрошили так, что она уже и не помнила, было ли что такое, чего бы она им не рассказала. С тем ее отпустили, предупредив, чтобы не болтала, не зажиралась на глазах у людей и вообще жила тихо и незаметно.
– Так я тихо… – попыталась сказать Цетка, но ее перебили с всезнающей ухмылочкой.
– Наслышаны, наслышаны, как вы «тихо». И про ваши молочные ванны, и про тачанки с музыкой и про сына…
– Да теперь уж нет… – Цетка с непритворным смирением наклонила голову.
Сразу после окончания Гражданской войны во всех населенных пунктах, зараженных махновщиной, постоянно работали уполномоченные КГБ. В Славгороде тоже они были. Фамилию последнего люди помнят – Тарасенко. Вот на их попечении и находилось те, кого не привлекали к ответственности, но кто оставался под наблюдением органов.
Так вот этот Тарасенко вроде беззлобный, никого зря не трогал, а тут как–то в 1954 году решил произвести у Цетки обыск, потрясти ее на предмет выявления махновских сокровищ. Но… репрессии репрессиями, а свои люди у махновцев везде оставались. И Цетка знала, к кому обратиться. Поэтому молчать не стала! После этого Тарасенко исчез из Славгорода, а на его место приехал другой. Но вскорости должность эту упразднили, всех преступников выпустили на свободу и Цетка вздохнула свободнее.
Симпатичная и любимая мной Бараненко Александра Федоровна, жена моего двоюродного деда, хорошо знавшая героев этого повествования и детали их жизни, начиная от Цетки и Махно и кончая детьми Ивана, и много–много с большим мастерством рассказывавшая мне о них, в 1972 году уехала из Славгорода к дочери, и получать дальнейшие достоверные сведения стало мне не от кого.
Цетку еще и поколение моих родителей называло Цеткой, а потом уж молодежь забыла об этом ее имени. Хоть и жила Цетка от нас на второй улице и видела я ее в свою школьную пору ежедневно, да и потом часто, а тайны ее по ней прочесть не могла. Только подругам своим, Александре Сергеевне и Александре Федоровне, которых, кстати, пережила, поверяла Светлана Антоновна все без утайки – в старости, после долгих десятилетий молчания, очень нуждалась она в том, чтобы изливать душу.
Была она хорошо сложенной, очень аккуратной, чистенькой, довольно приятной старушкой, с мелкими правильными чертами лица. Белая, слишком нежная кожа ее в старости истончилась, взялась морщинами и покрылась чуть заметными пятнами коричневого цвета, как будто на нее падала тень летних деревьев. Фигурой она казалась мельче моей коренастой бабушки Александры Сергеевны и ниже высокой и статной Александры Федоровны. Со временем, возможно, потому, что жила с повинно склоненной головой, Цетка слегка сутулилась, ходила с палочкой, хотя походка была ровной и собранной. Голос имела приятный, тихий. Говорила совершенно бесстрастно и, действительно, сильно грассировала и плевалась при этом. Впрочем, зная эту особенность, вытирала рот неизменно имеющимися у нее платочками.
Не помню, чтобы кто–то относился к ней плохо, попрекал ее или поминал ей старое… Конечно, люди и последующих поколений знали, кем была Цетка в молодости, но относились к ней чуть ли не бережно, как к олицетворению местной истории, как к символу прошлых лет или как к уникальной достопримечательности. Я наблюдала заинтересованные и оживленные взгляды, бросаемые в ее сторону, на которые она умела не реагировать. Но враждебности к ней не было – так сумела она себя поставить. Или что–то еще, непонятое мной, стояло за этим…
Сказанное не относилось к моей бабушке – так и не простившей предательства подруге своего детства. Бабушка обвиняла ее в сломанной судьбе, в том, что ее дети, выросшие в чужой среде и не знавшие родного языка, по возвращении на Родину не смогли преодолеть этот барьер, вовремя получить образование и выбиться в люди. Не раз Цетка при мне винилась перед бабушкой, а та вроде бы из вежливости и прощала ее, а после этого отворачивалась и плевалась, словно прикоснулась губами к гадине.
Иногда Цетка приходила к бабушке на посиделки, долго рассказывала о своих горестях, жаловалась на несчастье с сыном. Опять бабушка вежливо выслушивала ее, угощала чаем с рафинадом, который они кололи, зажимая в руке и ударяя по нему тупой стороной ножа, но ничто не могло растопить бабушкину душу. Бабушка твердо знала, что по вине этой женщины она стала нищей, потеряла мужа и все свои богатства, нажитые честным трудом… А сама Цетка сохранила и то, что припас ей Нестор, и то, что оставил муж, тоже награбивший немало. Бабушке пришлось до глубокой старости не выпускать иглу из рук, работать и работать. А Цетка никогда не утруждалась, даже на собственном огороде ни разу не наклонилась – у нее всегда находились помощники.
Все это было правдой. Не оставь Махно свой след в судьбе бабушки, мой отец мог бы выучиться и прожить более интересную и складную жизнь, чем прожил. А значит, и я стартовала бы в свою профессию с более выгодных позиций и могла бы достичь большего, чем теперь, ибо решение задач определяют начальные и граничные условия – этот закон математики еще никто не опроверг.
Это всеобъемлющий закон… Он работает в любой причинно–следственной связи. Кто знает, не оттого ли стал горбатым ни в чем не повинный Иван, что на него через прикосновения в чистом младенчестве перешло проклятие отца – кривляющегося урода и нелюдя? И не потому ли не смогла Цетка исправить порок своего дитяти, что предала ту добрую душу, которая первой известила мир о его приходе в жизнь?
Выходит, права была моя бабушка.
Так вот, не меньше, а то и больше остальных могла рассказать о Цетке и Махно она, эта моя бабушка по отцу, Александра Сергеевна. Но живописать и вообще распространяться про это не любила по очень простой причине: от нее, жестоко от них пострадавшей, любая правда могла бы восприниматься слушателями как навет и поношение, или как злорадство. А бабушка не хотела выглядеть в таком свете. Жившая с необыкновенным достоинством, она была далека от того и другого, ей чужды были бесчестные поступки и по–бабски пустая или безответственная болтовня. Да, она оставила внукам свое жизнеописание, но изложила его в строгих и взвешенных фразах – исключительно для истории. А не в виде забавных бывальщин для беспечного времяпровождения.
А в чем было дело – об этом речь дальше.
* * *
После ухода Цетки, узнавшей о своей беременности от Нестора, у Александры Сергеевны появились тревожные предчувствия. Рассказать мужу или матери о них она не могла, потому что сама не понимала, в чем они состоят. Конечно, прежде всего подумалось о Несторе Махно. Ведь понятно же, что он – бандит и убийца и что очень опасно находиться в поле его зрения, но к себе исходящую от него опасность Александра Сергеевна не относила. Ведь они были знакомы и очень дружили ровно с тех лет, с каких себя помнили. Неужели это для него ничего не значит?
Правда, с тех безгрешных пор он очень изменился, обагрил руки человеческой кровью, долго сидел в тюрьме, озлобился… Он и до этого–то был взрывного, какого–то дикого нрава, как будто мстил всему свету за свое сиротство, бедную жизнь в многодетной семье, необходимость трудиться и подчиняться тому, кто тебе платит за труд. Но ведь все так живут. Кто же внушил ему мысли об исключительности и о другом порядке вещей? И зачем? Зачем этот «кто–то» отравил несчастному, нелепому человеку жизнь, изломал его, сделал душу его страшным уродом?
Александре Сергеевне стало жалко Нестора.
Несколько дней спустя, возможно неделю, к ним в темноте вечера пришел Григорий Пиваков. Странно пришел – не с улицы, а с огорода, выходящего в балку с обрывистыми глинистыми склонами. Чтобы никто его не увидел, значит. Заходить в дом не стал, вызвал хозяина во двор.
– Только что узнал, браток, извини, если опоздал, – сказал он Павлу Емельяновичу шепотом.
– А что случилось?
– В эту ночь к тебе явятся махновцы – грабить. Убегайте, а? Убьют ведь…
– Куда-а убега–ать… – растерялся от неожиданности Павел Емельянович. – Это есть поздно.
– Тогда возьми это, – Григорий протянул Дилякову наган и патроны. – Понимаю, этого мало. Но сейчас, если ты не против и ничего не помешает, принесу что–нибудь посерьезнее.
– Давай!
Пока Пиваков ходил за оружием, Павел Емельянович времени не терял – мобилизовал домашних женщин, включая жениных учениц и прислугу, носить из погреба недавно привезенные для продажи мешки с сахаром и ими закрывать изнутри окна, двери, укреплять стены, баррикадировать возможные входы с улицы на чердак, задраивать все уязвимые места… Оставил только щели в окнах для обзора и отстреливания.
Пиваков не обманул, прибыл с охапкой винтовок и боеприпасов. Даже несколько гранат принес.
– Я не брошу вас, – сказал он, – останусь.
– Оставайся, как можно, – согласился Диляков. – А потом уйдешь. У моя есть выход в карьер глины. Я дам тебе науку…
– Ну ты успел… – удивился Григорий.
– Такая время, – сказал чужестранный муж Александры Сергеевны с ошибками и сильным акцентом от волнения. – Готовился моя давно…
После этого они забаррикадировали входную дверь и разошлись по своим местам: Аграфена Фотиевна осталась на печи. Туда же взобралась Александра Сергеевна и разместила рядом спящих детей: четырехлетнюю дочь Людмилу и двухмесячного сына Бориса. Ее ученицы и прислуга остались внизу, чтобы посматривать в окна и докладывать мужчинам о том, что видят.
– Ты стрелять умеешь? – перешел Григорий к делу, когда они заняли оборонительные позиции.
– Так, мало–мало могу убит.
– Лучше, конечно, не убивать. Но если они начнут, тогда уж не жалей пуль.
– Карашьо, – пообещал Павел Емельянович. – А тебе мы надо? Ты же сам махновца. Не простят они.
– Разберемся, – неопределенно ответил Григорий. – Главное, что жечь они сразу не станут, их же цель – твой товар. Это Цетка, сучка, Нестору проболталась, что ты недавно приехал, чай привез, специи…
– Цетка? А-а… Была она у нас, да.
– Сейчас Нестор злой и голодный, – продолжал Григорий, – недавно из окружения вырвался. Ему деньги нужны, продовольствие, а тут ты под руку попал со своим сахаром, с пряностями…
– Я же не виноват, меня был заказ на товар, – объяснял ситуацию Павел Емельянович. – Махно воюет, а люди живут, кушают. Города работают. И что ваш Махно, он тоже тут придет?
– Ну, к тебе он вряд ли прибудет, но он тут, да, – у Цетки. И этот налет организовал наверняка он.
– Может, просто местные махновцы шалят?
– Не-е… в Славгороде, как и в Гуляй–поле, они не посмели бы. Это батьковы огороды.
Шайка махновцев состояла из четырех–пяти человек, при ограниченной видимости посчитать их было трудно. Появились около полуночи. Спешились во дворе, встав кучным образом. Потолкались боками, затем не спеша, по–хозяйски отвели лошадей далеко в сад, затаптывая вскопанные под зиму грядки и ломая на куртинах алеющие астры и багровеющие георгины. Размялись, походили, осваиваясь и изучая место. Некоторые приникли к деревьям, пометили их мочой, другие закурили, словно хотели пропитать здешний воздух дымом и своими миазмами.
Оказывается, они поджидали телегу! Когда та приехала, прогромыхав пустой коробкой, и остановилась у ворот, махновцы приободрились и рассредоточились, изучили обстановку на улице, тенями рассыпались вокруг дома – их ведь вместе с ездовым и его спутниками стало больше. И тут те, кто был у входной двери, приступили к делу – попытались взять хозяев на испуг криками.
– Выходи, халдейское отродие, не отсидишься! – заорали они.
– Не видишь, кто к тебе пожаловал?!
– Сдавай товар бесплатно, тогда живым останешься!
Залегшие в доме люди чутко прислушивались к крикам, стараясь по их интонации определить настроение и намерения бандитов.
– Какое халдейское? – шепотом возмутился Павел Емельянович, обращаясь к Григорию. – Я ассириец. Притом наполовину русский.
– У нас ассирийцев халдеями называют, – пояснил Григорий. – Да плюнь на них!
Поскольку на крики никто не отвечал, махновцы озадачились. Такого у них еще не бывало. Обычно люди просыпались и начинали если не выходить во двор, то вести переговоры, беспокоиться. А тут тишина какая–то глухая… И вроде даже зловещая.
Посовещавшись, открыли стрельбу. Стреляли по окнам, шумно радуясь звону разбитых стекол, по дверям, по стенам, по крыше. От дома летели щепки, отваливались куски кирпичей, звенела и трещала черепичная крыша. Палили с час. Наконец убедились, что это не приведет к цели, потому что дом укреплен изнутри и пули в него не проникают, и остыли. Собравшись с духом, попытались взобраться на крышу. Оборонявшиеся какое–то время отпугивали их от стен выстрелами. Все же полностью контролировать то, что делалось вокруг дома, они не могли. Некоторые махновцы изловчились и попали наверх, затеяли там возню, начали бить по кровле, видимо, пытались разобрать ее. В итоге поняли, что и оттуда проникнуть внутрь не удастся.
– Черт, сидят, как в панцире!
– Может, их там нет? – в звонкой ночной прохладе отчетливо слышались переговоры махновцев.
– Кто же тогда отстреливается?
– А… Ну да.
– Эй, купчишка, выходи! Пока мы добрые! – закричали они в два голоса.
На печи закашлялась Аграфена Фотиевна, попытавшись что–то произнести. Она прикрывала рот рукой, била себя в грудь, чтобы прекратить приступ и не разбудить внуков. При этом выговаривала отдельные слоги и опять кашляла, так что понять ничего нельзя было. Павел Емельянович быстро метнулся и подал ей воды: «Попейте, мама».
Старушка посмотрела на зятя светлым ласковым взглядом: «Спасибо!» – прошептала.
– Что вы хотели сказат?
– Да то, что никого не узнаю по голосам, – отдышавшись, сказала она. – Хорошо ли вы с Гришей разглядели этих бандитов? Это наши люди или чужие?
За Дилякова ответил Григорий.
– Нет, чужие, – сказал он. – Махновцы теперь умные стали, боятся быть узнанными. Понимают, что когда–то с них спросится за все.
– Это хорошо…
– Это очень опасно, тетя Груня, – возразил Григорий. – Если раньше они ограбленных не трогали, то теперь стремятся не оставлять свидетелей – убивают.
Тем временем во дворе наступило затишье. Озадаченный этим, Павел Емельянович побежал на свое место, к окну. Он увидел застывших махновцев, как будто к чему–то прислушивающихся, а один из них стоял посреди двора с широко расставленными руками, как дирижер, призывающий продолжать паузу.
– Вот интересно, – вдруг сказал этот «дирижер». – От кого они закрылись?
Послышалось дружное ржание, бодрые прибаутки:
– Наверное, от трясцы болотной!
– Заразы боятся!
– Ага, от лешего, но не от нас, не-е… – и бандиты взорвались хохотом. – Мы хорошие!
– Да я не о том, мерины вы сивые! Только ржать и умеете, – сказал, тот, который заинтересовался ситуацией. – Ведь это же неспроста они так спрятались. Или они каждую ночь строят баррикады и из бойниц по воронам стреляют?!
До бандитов дошло сказанное и они поежились, словно холодный ветерок у них по спинам прошел.
– Ты хочешь сказать… они знали про нашу акцию?
– Дошло до тебя с третьего раза!
– Предатель, что ли, среди нас?
– А чего гадать? Вот выкурим их оттуда и обо всем поспрашиваем! Эй, пархатые, мы вас сейчас гранатами забросаем! – заорал очередной махновец и грязно выругался.
– Лучше по–доброму выходите!
– Сейчас мы твоих детей и жену–портисточку на куски порубим!
Ответом им опять было молчание.
– Ничего они не сделают, – между тем продолжал комментировать Пиваков, морально поддерживая своих подопечных. – Может под утро, когда поймут, что вашего сахара им не видать, и подожгут… Но не сейчас.
– А что он сказал про жену? – спросил Диляков. – Какое слово?
– Шутят так, – ответил Григорий. – Исказили два слова «портной» и «модисточка», им кажется это забавным.
– Это не ругание?
– Не–ет… Это зависть, браток.
Потом опять была пальба, от которой даже деревья вздрагивали. Все это длилось не минутами, а часами. Уже из–за восточной части горизонта выткнулся Орион и приподнялся над землей, уже проехал по ней своими нижними звездочками и присел на западе, а тут попытки захватить дом продолжались.
Вдруг возник ветерок, следом появилось приглушенное, вялое шелестение пожелтевшей листы. Незаметно небо начало терять черноту. Откуда–то из глубин безбрежной бездны на него упала тонкая тень прозрачности, мягким крылом охватывая восток, – наступал рассвет. Словно ему салютуя, возникли посланники света и дали о себе знать дальними выстрелами, глухими еще, но приближающимися.
– Это стреляют скачущие всадники, – сказал Пиваков. – К нам кто–то приближается.
– Значит, кто? Мы пан или пропал?
– Скорее мы пан, – преодолевая сомнения, сказал Пиваков. – Так себя ведут атакующие. Значит, это белые, деникинцы.
– Откуда здесь?
– Не знаю, вчера была стычка на нашем вокзале, кто–то туда прорывался со стороны Синельниково. Может, это было наступление, и деникинцы закрепились там. А может, это их разведчики прочесывают территорию.
Опытный участник боев не ошибся. Махновцы тоже насторожились и вскоре побежали в сад к лошадям, откуда размазанной черной нечистью мелькнули вон и исчезли.
– Теперь и ты уходи, Григорий, – сказал Диляков, непрестанно стреляя в воздух, чтобы приближающиеся всадники понимали, куда ехать. – Тебе пора. Ты спас нас – спасибо!
– Может…
– Нет–нет! Уходи! Вот сюда, – Павел Емельянович отбросил несколько мешков и открыл вход в подполье. – Лезь и ищи влево очень узкий щель. Это специально – для обману. Надо к нее сильно протиснуться. А потом иди и иди. Выйдешь в глина. Тоже опять в узкий щель. Дальше свобода.
– В глинище выйду, к речке?
– Да. Спеши, браток[3]3
Григорий Пиваков, спасший родительскую семью моего отца, – это отец моего классного руководителя Александра Григорьевича Пивакова, рядом с которым теперь упокоилась моя мама вечным сном.
[Закрыть]! – произнес непривычное слово Диляков, и мужчины обнялись, прощаясь навеки.
Семью, подвергшуюся нападению махновцев, действительно вынул из–под обстрела разведывательный отряд деникинских частей. Услышав в гулкой осенней ночи стрельбу и поняв, что происходит, белые разведчики поспешили на выручку к несчастным, несмотря на то, что требовалось углубиться в тыл противника почти на пять километров и действовать там на свой страх и риск.
– Живы? – спросил главный офицер, когда к нему вышел улыбающийся Павел Емельянович.
– Спасибо, – ответил тот и низко поклонился.
– Едем с нами, быстро! – распорядился офицер и, повернувшись к своим бойцам, крикнул: – Не спешиваться! Не терять бдительности!
– Девушки, вас махновцы не тронут, оставайтесь, – собираясь в дорогу, отдавала последние распоряжения Александра Сергеевна. – Утром пойдите к Порфирию Сергеевичу, скажите, чтобы возвращался жить в родительский дом, к матери.
В сопровождении этого отряда, решительного и быстрого, семья Дилякова отбыла из Славгорода и отправилась в далекий–далекий путь, за горы и моря, на Родину Павла Емельяновича, в Багдад, только что избавленный от турок и перешедший под протекторат Великобритании.
При таких обстоятельствах мой отец Диляков Борис Павлович, родившийся на Илью – 2 августа (20 июля по ст. ст.) 1919 года, покинул Родину.