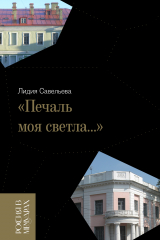
Текст книги "«Печаль моя светла…»"
Автор книги: Лидия Савельева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
После этой бомбежки долго еще во дворе, загораживая дорогу, валялся огромный толстый ствол ясеня, ожидая своей очереди на ручной распил соседями. По этому стволу мы бегали, демонстрируя физкультурные навыки и достижения. Не могу в связи с этим выбросить из мозаики памяти эпизод, когда ночью мы с Колей, спокойно возвращаясь из бомбоубежища, тренировали равновесие и ходили по этому дереву с поклажей на голове, еще не дойдя до порога дома. В это время я услышала приглушенный смех и что-то вроде поцелуев. «Что это?» – спросила я Колю. «Да это Алкина мать с фрицем», – равнодушно ответил он. Почему это засело в памяти пятилетней девочки, сейчас плохо понимаю. Но подозреваю все-таки, что уже тогда была потрясена предательством.
А ведь это были наши самые близкие соседи. Их сад и наш сад разделялись только низеньким символическим забором, а ночью в саду курил Алкин дед – старик Буряк, или Титькú, как его называла Алка.
Между тем наш отец сначала прятался в дальней каморке подвала с выходом в садовый люк (в кустах смородины), с наступлением же зимы – в сарае на сеновале.
Все время семья страшно боялась за него, так как немцы были рядом, да и некоторым соседям нельзя было доверять, так что тайна его пребывания в любую минуту могла быть раскрыта. И вот как-то раз, уже после смерти дяди Антона, Коннон подошел к моей маме и сказал, что он понял, что ее муж где-то рядом, и что, желая нам всем добра и предупреждая угон в Германию, он советует ему немедленно выйти и срочно зарегистрироваться официально в качестве хозяина какой-нибудь ремесленной лавочки, пока это не дошло до эсэсовцев. Эсэсовцев все немцы сами очень боялись. Еще недавно мы с моей ленинградской тетушкой Галей вспоминали, как рыдала и выкрикивала в истерике одна немка из женского батальона, несколько дней жившая в нашем доме, она хотела к своей «муттер» («матери»), «нах хауз» («домой»), а Коннон ее стращал: «Тише, тише, эсэс!»
Как-то раз один эсэсовец ни за что застрелил нашего Тузика, безобидную черно-белую дворнягу, которую мы все очень любили и долго оплакивали, потом он же с револьвером гнался за бабушкой, посмевшей ему что-то возразить, выкрикивая «юдэ», видимо приняв ее внешность за еврейскую. Спас иконостас, перед которым бросилась на колени глубоко верующая бабушка.
Здесь нельзя не вспомнить, как один итальянский солдат, коловший во дворе дрова, сказал бабушке, загибая по очереди пальцы на руке: «Сталин, Гитлер, Муссолини – капут… – Карашό!!!»
Вообще бабушка, будучи женщиной общественного темперамента (кстати, это было результатом именно дворянского воспитания, поскольку все дореволюционные годы она занималась общественной благотворительностью и минимально – домом и семьей), рисковала очень часто.
Прежде всего, она не смогла бросить на произвол судьбы 28 малышей соседнего, за забором сада, детдома, оставленного убегавшим в панике начальством. Вместе с верной санитаркой тетей Шурой Савченко (она потом еще долго жила с нами) бабушка, всего лишь музыкальный работник этого учреждения, приходивший до войны, как я теперь понимаю, на час-другой к этим малышам, вынуждена была сначала по максимуму отрывать от наших скудных садово-огородных и козьих припасов, а потом – идти на поклон к немцам, взывая к их гуманным чувствам, а иногда и бесшабашно требуя какого-то продовольствия для маленьких брошенных детей. Ее религиозная настроенность очень часто ей помогала.
Один случай Божьей помощи в острой, не терпящей отлагательства ситуации она любила вспоминать даже спустя многие годы. Однажды она спокойно развешивала какие-то вещи во дворе нашего дома. Неподалеку на солнышке сидел-курил эсэсовец (на вид мирный). В это время прибегает, запыхавшись, незнакомая пожилая украинка (среди них, как оказалось, встречались антисемитки) и, возбужденно выкрикивая, показывает руками: «Скорише, скорише, он там, у кущах бузку, за картоплэю, жид ховаеться!» («Скорее, скорее, вон там, в кустах сирени, за картошкой, жид прячется!»). Бабушка обомлела, эсэсовец кричит ей: «Что она говорит? Что она говорит?» И тут, как была убеждена бабушка, ее Господь благословил, чтобы помочь несчастному: «Она говорит, что ее обворовали и вор побежал в ту сторону». Эсэсовец равнодушно махнул рукой и остался сидеть развалившись.
Поскольку бабушку вызывали как русско-немецкую и русско-итальянскую переводчицу (итальянский, близкий хорошо известному ей французскому, она понимала и как музыкант, исполнявший многие итальянские арии), она знала больше других о проблемах и даже намерениях немецкого начальства. Так, она спасла двух женщин-врачей из расположенной напротив нас по Первомайскому проспекту инфекционной больницы, еврейскую национальность которых заподозрили немцы. Мой отец, замечательно рисовавший и вообще, как все признавали, очень «рукастый», подделал им паспорта, с которыми они бежали. И некоторым нашим русским пленным, которым разрешали работать на свободе, с ее подачи вовремя «нечаянно» оставляли в саду мужскую одежду и еду.
Кстати, о еде. С ней было очень сложно, ведь у нас в семье было десять ртов! Конечно, сад, огород и коза Мика были огромным подспорьем, но этого было очень мало, особенно в первый год войны, когда возможности натурального хозяйства в городе еще не умели даже использовать. Например, наш сад в сентябре уже не плодоносил, за исключением орехов. Позже маме и тете Гале иногда доставались объедки из столовой, но это бывало редко, так как хозяйственные немцы учитывали все и сами откармливали животных и, разумеется, не допускали никаких хищений. Хорошо помню, с каким чувством я смотрела на измазанного молочной кашей малыша Сережу. По рассказам моей ленинградской тетушки, я изрекла: «Когда у меня будут дети, они будут очень чистенькие». – «Что, будешь их часто купать?» – «Нет, я их буду облизывать». После этого жившая с нами беженка из Киева, художница по куклам тетя Женя Васильева, поддразнивала меня стишком: «И после варенья, и после конфеток / Я буду облизывать всех своих деток». Есть хотелось всегда, но, может, это я была такая обжорка? Тогда почему же наш Колечка, который всегда, в отличие от меня, подхватывал все детские инфекции, в этой печальной ситуации отпечатался моей памятью… с высунутым языком: «Ага-а! А я – больной, а я – больной!!»? Конечно, он радовался лишнему кусочку, тому, что семья сбивалась с ног, чтобы выменять ему, например, драгоценное яйцо, на которое я не могла не смотреть с вожделением. Мама потом рассказывала, как разрывалось ее сердце, когда она слышала мой рассудительный ответ брату: «Хоть ты и больной, а хвастываться нечего».
Кроме еды, была другая проблема – холод. Не было ни угля, ни дров, иногда приходилось жертвовать даже мебелью. Зимой мы спали в одежде и мучились от сырости. Мой отец после войны долго с улыбкой вспоминал анекдотическое легкомыслие все еще витавшей где-то в энтомологических облаках тети Гали, которая на семейном совете по этому поводу как-то предложила обменять часть собранных с огорода овощей на семечки: дескать, и топливо (шелуха), и еда (семечки), и приятное занятие одновременно.
Летом наших пленных иногда днем немцы вели строем по проспекту, тогда кто-то из соседских детей кричал: «Пленные, пленные!» Мы, остальные дети, хватали в подол и карманы все, что у нас было: помидоры, огурцы, яблоки, драгоценные картофелины, недозрелые орехи, какие-то носильные вещи, тряпки на портянки и пр., – и бежали через бульвар к ним, со смешанным чувством ужаса и надежды вглядываясь, нет ли кого из родных и знакомых. В большинстве случаев конвойные разрешали детям поменьше подходить и отдавать свои скудные подношения, но довольно часто попадались и настоящие звери. Мою подружку лет 5-6, Лиду Окуневу, когда она отдавала свою печеную тыкву пленному, один конвоир сильно ударил по плечу прикладом (потом ее мать тетя Валя, простая, уже овдовевшая солдатка с хорошо подвешенным языком и сильным чувством справедливости, устроила в немецкой офицерской столовой истерику, свидетелем которой была моя мама, очень боявшаяся за нее, но в тот раз кончилось более-менее благополучно – видимо, еще не было частей СС).
Один немецкий солдат когда-то сказал маме: « Мы… что? Простые солдаты, мы только выполняем приказы… Чего нас бояться? Мы такие же люди, как вы. А вот эсэсовцев бойтесь. Это – не люди!»
На всю жизнь запомнила я и то, что моим глазам нельзя было видеть, но близорукая моя мама, которая вела меня за руку, увидела этот ужас очень поздно. Это было довольно далеко от нашего дома («как 3-4 раза от нас до Памятника»), и я не помню, почему мы очутились летом или ранней осенью на перекрестке улиц Гоголя и Октябрьской (Жовтневой), рядом с памятником Гоголю. В конце Гоголевского бульвара стояла виселица, а на ней висел мертвый, совсем молодой парнишка с какой-то надписью на груди (потом узнала: «Партизан»). Совсем не помню народа вокруг, да его, кажется, и не было, только помню его довольно длинные каштановые волосы под ветром. Мама сразу же дернула мою руку и повернула меня обратно, мы побежали по Гоголевскому бульвару к Пушкинскому перекрестку. Мама вся дрожала и сказала, что там сейчас будут стрелять, чтобы я ни о чем не расспрашивала.
Да, наша наивная мама предполагала, что мы с Колей мало чего понимаем в стрельбе. Но даже я, а не то что Коля давно знали, что такое стрельбище, из чего там стреляют и главное – где и какой можно собирать порох, тот, который хорошо поджигается и легко взрывается. В своей слишком ранней вольнице (мама, бабушка, две тети – все заняты на каких-то работах, чтобы выжить и вытянуть детей, мы же предоставлены сами себе, да еще должны были следить за маленьким Сережей и отгонять на пастбище коз) мы, изучая окрестность, вышли на правое крыло гитлеровского штаба, от которого узкая дорожка вела на огромное стрельбище со специальными, разрисованными кругами щитами, где упражнялись немецкие солдаты и офицеры. Правда, у нас хватило разума приходить и бродить там после их утренних занятий, но задолго до вечерних. Видно, расписание приблизительно, но знали. Так вот очень скоро вся семья с ужасом наконец выяснила правду о нашем дневном времяпрепровождении. Дело в том, что у Колиных друзей-ровесников Леньки Стеблия и Леньки Буко очень ценились два вида пороха: черный мелкий, похожий на маленькие угольки одного размера (с его помощью костер горел и интересно искрился, за этим они любили наблюдать на некотором расстоянии), и рыжий, под названием динамитный, представляющий собой сантиметровые или полуторасантиметровые, как будто застывшие кусочки клея, выдавленного из тюбика. Как действовал рыжий порох, мы не знали, но предполагали, что он хорошо взрывается. Мой умный и любознательный старший брат решил это проверить и для этой цели выбрал мой любимый никелированный маленький (на пол-литра) самоварчик, отобрав его из нашего игрушечного хозяйства. Как сейчас помню: вдвоем мы аккуратно набили серединку самоварчика бумажными пакетиками вперемешку то с черным порохом, то с рыжим. Этим мы занимались перед входом в дом, сидя на скамейке. Не знаю почему, но, поднеся спичку к бумажке, Коля, по счастью, сразу бросил самоварчик в сени нашего кирпичного дома. Раздался страшный взрыв, на звук которого сбежалось несколько соседей по двору. В сенях разрушилась каменная притолока, разорвало деревянную дверь в подвал и в клочья разлетелся сам самоварчик. Что нам было потом – здесь полное отключение моей памяти, но прогулки по стрельбищу и собирание пороха были строго-настрого запрещены.
Как тут не вспомнить, что уже после войны нашему троюродному брату Жене Репетину, Колиному ровеснику, в Киеве при подобной же ситуации в 15 лет оторвало правую руку!
Среди самых страшных потрясений детской психики этого времени горестная судьба одного хорошо знакомого и любимого мною человека – тети Нади Воловик. Она была очень близкой подругой моей младшей тети, Марины, они вместе учились в мединституте и вместе работали в ближайшей от нас поликлинике, хотя жила она в Полтаве далеко от нас. Я ее очень любила с младенчества: любила забегать к ним с Мариной в поликлинику, где с интересом перебирала коробочки из-под лекарств, а подаренный ею для моих кукол никелированный кувшинчик с широким горлом в деталях помню и сейчас. Во время оккупации вдруг она, встревоженная, с другого конца города прибегает к маме: немецкими властями приказано всем евреям собрать самое ценное, продукты на три дня и явиться на биржу труда к такому-то часу. Что делать? В противном случае обещали расстрел. Надя, по матери русская, просила совета, и моя мама умоляла ее не регистрироваться как еврейке или в крайнем случае бежать. На всю жизнь запомнила мама, как плакала Надя, восклицая: «Ну чем, чем я виновата?» Но что могла моя мама? Только плакать вместе с нею. Однако тетя Надя, как и остальные ее собратья по несчастью, все же не поверила в нечеловеческую жестокость фашистов и пошла на биржу. Увы, это была хитрая ловушка: вместе с тетей Надей фашисты сожгли в подвалах Полтавского краеведческого музея около пяти тысяч евреев!!! Об этом нельзя было говорить, но кто-то из немцев проговорился при бабушке. Помню, что бегала за флаконом с нашатырем в аптечку на кухне, когда бабушка лежала в обмороке.
Много позже, когда мой брат женился на харьковчанке, мы узнали, что точно так же, обманом, фашисты одновременно расправились с тысячами харьковских евреев и матерью нашей Зиночки. Ее мама 17-летней девчонкой влюбилась во вдовца-украинца, старше ее чуть ли не на 15 лет, к тому же имевшего сына-подростка. В знак протеста против этого брака от нее отказалась правоверная еврейская семья, и маленькая Зина росла в среде местных украинских рабочих. Когда немцы заставили «зарегистрироваться» ее мать, она спрятала свою кудрявую пятилетнюю дочку у соседей. Девочка выжила только благодаря их благородному мужеству и деятельной опеке, а ее юную 22-летнюю маму фашисты безжалостно расстреляли. Здесь не могу не упомянуть: много позже, когда ей было за 50, Зине предложили германскую компенсацию за трагически погибшую мать, но она с негодованием отказалась «даже думать об этом»!
Когда мой отец легализовался, он, выпускник московского Литературного института и преподаватель вуза, категорически отверг настойчивые предложения работать в немецкой газете и, как и советовал Коннон, открыл мастерскую по производству… детских игрушек из папье-маше. В ней работало пять знакомых ему женщин-художниц, включая ленинградскую тетушку и двух беженок из Киева. (Одна из них, венгерка тетя Эдда (Эдит Гашпар), очень выразительные глаза которой в темных от голода глазницах отложились в моей памяти, на всю последующую долгую жизнь стала близкой подругой тети Гали. После войны она стала известным украинским художником, архитектором (руководила строительством улицы в разрушенном землетрясением Ташкенте), а ее, Э. Репринцевой, замечательные акварели киевского городского пейзажа и полтавских подсолнухов, как и многих других цветов, и сегодня тепло греют неотчуждаемый украинский сегмент моей души.)
Кукольную мастерскую помню очень хорошо, потому что она постоянно меня манила как заветное, фантастически интересное место. На ближней улице Короленко нашли, видимо, для аренды две довольно большие проходные комнаты на втором этаже. В одной из них складывали заготовки: глину, гипс, груды разной бумаги, включая рваную, и старые газеты, котлы для варки клейстера, краски и кисточки. Там же стояли столы для художниц. Самая замечательная, вторая, комната была для меня настоящей пещерой Аладдина: там на расставленных вдоль стен полках сохли не только гипсовые колодки для половинок игрушек, не только еще маловыразительные склеенные половинки игрушек из папье-маше, но и, о чудо, настоящие и самые разные раскрашенные куклы: пираты, солдаты, генералы, лошадки всех размеров и мастей в разных динамических позах, Деды Морозы, Снегурочки, зайчики, медвежата и пр. и пр. Фантазия художников-скульпторов и живописцев била через край, конечно, на фоне полнейшего отсутствия тогда такого сверхмирного, так необходимого всем детям инструмента познания мира.
Именно в это время к моему отцу пришел уроженец Полтавы, впоследствии известный московский художник Михаил Рудаков (его кисти пастельный большой портрет моего отца, мастерски схвативший папино выражение лица, тоже очень бережно хранится у нас в семье). Михаил Николаевич был расстрелян немцами под Харьковом как попавший в плен советский офицер, но чудом был вытащен из-под груды тел простой сельской женщиной и выжил у нее после очень тяжелых ранений. Он пробрался к своей матери в Полтаву и уговаривал моего отца бежать вместе через линию фронта известными ему тропами. Однако моя мать буквально вцепилась в отца и не позволила ему этого сделать, пугая последствиями его исчезновения для семьи. Много позже мы узнали, что Михаил Рудаков осуществил-таки этот вожделенный переход к своим, но «недремлющее око» НКВД встретило его полным недоверием, и как изменника родины его сослали на 10 лет в магаданский лагерь. Из лагеря он вышел несколько раньше, будучи реабилитированным совершенно случайно – благодаря посмертной публикации дневников известного писателя Юрия Крымова. В них он очень тепло говорил о М. Н. Рудакове и восхищался проявлениями его героизма и мужества. Возвратившись из Магадана в Полтаву, Рудаков нашел собственную мать стоящей с протянутой рукой у хлебного магазина. Забрав ее, он уехал в Москву и там начал жизнь сначала: добился признания как художник (более всего иллюстратор), женился, подрастил дочку и только летом 1962 года приехал в Полтаву с семьей и долго рассказывал моему отцу, каких несчастий и мук стоило ему исполненное решение перейти линию фронта.
Об украинском национализме на Восточной Украине никогда ничего не слышала, впрочем, может быть, это я не особенно его замечала и в детстве, и в школьные годы, да и позже, когда практически каждым летом приезжала на Украину. Но одна история о периоде оккупации в ироническом пересказе моего отца, неисправимого шутника, хорошо запомнилась. К нам в дом иногда приходил «дίд Мыкыта», родственник по мужу тети Иры. Это была курьезная и интересная фигура: человек сильно пожилой, но до самой глубокой старости удивительно лихо отплясывающий вприсядку гопака, а главное – необразованный, но очень уважающий образованность, читавший на редкость бессистемно и гораздо больше, чем могла переварить его бедная голова с трагической судьбой неучившегося «байстрюка». Читал он, как я теперь понимаю, из той богатейшей книжной сокровищницы, которая при не очень красивых обстоятельствах, вместе с картинами, посудой и пр., попала в руки его матери – в прошлом горничной едва ли не самого крупного полтавского землевладельца (сейчас уже забыла его фамилию и не исключаю, что Трощинский). С еще довоенного времени дед любил ходить на литературно-философские беседы к моему отцу, причем приходил пешком издалека, с другого конца города, нередко удивляя отца гремучей смесью искренней любознательности и невежества, щедро приправленного «дуже щырым» (папино выражение) национализмом. Так вот от него папе приходилось в 1942–1943 годах слышать о «жовто-блакытной нэньке» – Украине с ее «народным гетьманом» Петлюрой и «його дитямы», которых ждет большое будущее в союзе с Германией. Но потом, когда немцы уличили деда Мыкыту, сторожа казино, в краже какого-то сафьянного диванчика, предприимчиво пущенного дедом на сапоги, и его элементарно выпороли, тут уже все его политические пристрастия и иллюзии рассеялись как дым.
Когда положение на фронтах войны начало меняться, немцы с особым ожесточением стали устраивать облавы на жителей, пытаясь вывезти в Германию как можно больше людей трудоспособного возраста. Бесследно, например, пропал 16-летний внук деда Мыкыты, единственный сын дочери. Один раз, зайдя в небольшой магазинчик за солью, в такую облаву попала моя мама. На всю оставшуюся жизнь она сохранила горячую благодарность незнакомой продавщице, которая пожалела ее (мама говорила об оставленных маленьких детях) и с риском для собственной жизни выпустила через подсобное помещение во двор. «З Богом, дивонька, бижы!» – сказала она.
Как помнится мне сейчас, накануне отступления немцев в наш двор въехала большая и красивая легковая машина, каких до того мы и не видывали. Из нее вышел важный немецкий офицер (позже узнала – генерал) и направился прямо… к бабушке. Он назвался Арнольдом фон Бесселем, внуком Натальи Александровны Пушкиной-Меренберг. Услышав от Коннона о бабушкиных семейно-родовых корнях, он приехал к ней, внучке Александра Александровича Пушкина, то есть своей троюродной сестре, на полчаса специально, чтобы предложить вместе с семьей покинуть Союз и выехать в его родную Германию. Выслушав это чудовищное, хотя и не лишенное добрых намерений предложение, бабушка, конечно, наотрез отказалась. Я сейчас могу только предполагать, какую бурю чувств мог вызвать в ней этот разговор. В ней, вплотную соприкоснувшейся со звериным лицом фашизма, при этом матери двух фронтовиков, от которых не было вестей и о которых она неустанно молилась.
Мои сумбурные и отрывочные воспоминания об оккупации были бы неполными, если б я не рассказала о грандиозном празднике, который состоялся в нашем доме после долгожданного освобождения Полтавы 23 сентября 1943 года. Вернулись наши, и ликованию не было конца: в полную силу зазвучал рояль, молчавший так долго. Все: и счастливые освобожденные, и счастливые освободители – пели хором и в три голоса; вкушали, о счастье, настоящую тушенку; плакали, вспоминая пережитое и погибших, а бабушка не только пела романсы и арии своим глубоким оперным контральто, но и достала из дальних закромов и раздаривала памятные семейные реликвии. В частности, через много лет в киевском архиве нашлась важнейшая страничка из дневника Елизаветы Гоголь о смерти «Николеньки» Гоголя, подаренная в тот день бабушкой киевскому военному журналисту. Вечером мама уложила меня и маленького Сережу спать, сказав, что все уже расходятся, а наутро я узнала, что торжество продолжалось всю ночь. Я горько рыдала и потом еще долго-долго не могла простить маме этого невинного обмана, остро завидуя двум счастливчикам – Кольке, моему всего-то чуть-чуть старшему брату, и дочке дяди Антона Галочке.
Сразу после освобождения города мой отец ушел добровольцем на фронт. Знаю, что он всегда панически боялся встретиться на войне с Конноном. Как человек, переживший оккупацию, папа попал солдатом-связистом фактически в полуштрафной батальон, дважды был ранен, освобождал Бессарабию, Ужгород, Прагу, форсировал с тяжеленной кабельной катушкой Одер, но остался жив и закончил войну со многими наградами. Интересно, как он сам объяснял свой счастливый жребий. Во-первых, плечом и разумом своего любимого фронтового друга (который говорил про моего отца то же самое), а также тем, что никогда и ни при каких обстоятельствах не преступал простых человеческих законов ни по отношению к своим, ни по отношению к противнику. Он вынес из многих случаев своей фронтовой жизни твердое убеждение, что за каждый некрасивый поступок на войне всегда настигает бумеранг в виде неминуемой гибели. Однако скупые отцовские рассказы о войне и его хранимые в семье письма – это уже совсем другая история.
В начале 90-х годов я и моя тетя Галя, энтомолог, предприняли, каждая по своим каналам, попытки разузнать хоть что-нибудь о судьбе Коннона, фактически спасшего нашу семью от голода, а моего отца – от угона в Германию. Его следы искали во Франкфурте-на-Майне, но, к сожалению, найти не смогли…






