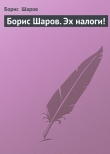Текст книги "Бой"
Автор книги: Лев Канторович
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Весна наступила сразу, в одну ночь.
Ночью вдруг пошел дождь, настоящий теплый дождь. Дождь барабанил по крышам. Под утро дождь перестал.
Борис не спал. Он лежал на спине. Он прикладывал к глазу свинцовую примочку. Когда марля высыхала, он зажигал свет и поливал марлю мутной жидкостью из бутылки. Он совсем не спал и считал, сколько раз зажигал свет. После десятого раза он перестал считать. Левая рука болела всю ночь.
Всю ночь Борис не спал, он лежал с открытыми глазами и почти ни о чем не думал. Потом окно посветлело. Он слышал, как по улице проехала телега. Копыта лошади звонко стучали по камням мостовой, и колеса гремели. Почему-то эти звуки сразу напоминали про весну.
Потом громко зачирикали воробьи. Стая воробьев села на подоконник. Солнце осветило крыши домов. Крыши блестели, как свежевыкрашенные. Только кое-где лежали клочки потемневшего снега.
Филипп Иванович сидел на скамейке. Солнце припекало, с крыш текло, ручьи журчали в канавах. Ветер дул с моря. Хороший, весенний ветер. По небу с криком носилась стая ворон. Солнце грело совсем по-настоящему. Весна началась ночью и теперь была в полном разгаре.
Филипп Иванович думал о вчерашнем соревновании боксеров. Он думал о Борисе Горбове. После боя он не видел Бориса, но знал о несчастье с рукой.
– Жаль мальчика, – сказал Филипп Иванович. Он так подолгу бывал один, что незаметно научился разговаривать сам с собою. – Ах ты, господи боже мой... Очень жаль мальчика. Однако, они крепкие ребята, и они могут хорошо справляться с несчастьями. Опять-таки – молодость. Молодость кое-что значит...
Трубка потухла, и старик завозился со спичками. Ветер мешал раскурить трубку. Когда наконец из обгорелого чубука взвился синий дымок, старик откинулся на спинку скамьи и закрыл глаза. Солнце просвечивало сквозь веки. Вороны с криком носились над деревьями.
Старику было хорошо сидеть на солнце. Очень хотелось поговорить с кем-нибудь.
В восемь часов пришел Петр Петрович. Филипп Иванович рассказал Петру Петровичу, что он думал о бое. Он еще раз переживал все волнения вчерашнего вечера. Он комментировал каждый удар Бориса. Петр Петрович слушал молча.
В конце своей длинной речи старый сторож сказал:
– И все-таки Борис – хороший боец. Он – настоящий боец. Помяните мое слово, Петр Петрович, Борис рано или поздно поколотит Титова. Жаль, что вчера Титов его так избил. Ах ты, господи боже мой, конечно, жаль! Однако они крепкие ребята, Петр Петрович. Опять-таки – молодость. Молодость кое-что значит...
– Вы правы, – сказал Петр Петрович. – Вы правы, Филипп Иванович. Конечно. Но я боюсь, у него плохо с левой рукой. Он может раскиснуть. Поражение в таком бою – нелегкая вещь. Я пойду к нему. Я пойду и поведу его к врачу. Пусть врач посмотрит его руку.
Петр Петрович ушел. Старый сторож остался один.
Борис сидел на стуле посреди комнаты.
Одной, здоровой, рукой он старался завязать шнурки на ботинках.
– Не спал? – сказал Петр Петрович сердито и сразу улыбнулся. Ничего. Вчера ты бился хорошо. Отлично бился. Мы еще победим этого чемпиона. Мы его победим, Борис. Ничего.
Петр Петрович повел Бориса к врачу. По дороге Петр Петрович не разговаривал. Он мурлыкал кавалерийские сигналы: "Рысью размашистой, но не раскидистой, чтоб не расходовать силы коней..."
"Старик действительно доволен мной!" – подумал Борис и повеселел.
Но врач огорчил обоих. Врач сказал, что сломана кисть, одна маленькая кость возле указательного пальца, и перелом серьезный. Лечение займет не меньше двух месяцев.
Вышли от врача молча и молча дошли до остановки трамвая.
– Врет он, – сказал Петр Петрович. – Врет он все.
Но Борис знал, что врач не ошибся. Борис молчал.
– Приходи на стадион, – сказал Петр Петрович. – Я зайду в Комитет и тоже приеду туда.
Он пошел прочь. Он шагал быстро. Он глубоко засунул руки в карманы куртки, и спина его сутулилась.
Борис прошел в распахнутые ворота и медленно брел по аллее. Филипп Иванович встал со своей скамейки. Левая рука Бориса была забинтована. Когда он подошел, Филипп Иванович увидел страшный кровоподтек вокруг его правого глаза. Лицо Бориса осунулось за ночь.
– Здравствуйте, товарищ Горбов, – тихо сказал старик и встал.
– Здравствуйте, – сказал Борис.
Голос у него был какой-то деревянный. Он сел на скамейку. Филипп Иванович тоже сел. Они долго молчали. Филипп Иванович пыхтел своей трубочкой.
– Вот я проиграл, – сказал Борис безжизненным голосом.
Старик проворчал что-то непонятное.
– Плохо, Филипп Иванович, – сказал Борис.
– Ах ты, господи боже мой! – сказал старик. – Простите меня, пожалуйста, товарищ Горбов, но я несогласен с вами. Проиграть-то вы, может, и проиграли, но совсем неплохо. Вы бились замечательно. Если он и победил вас...
– Он здорово побил меня, – сказал Борис. – И вы знаете, что бы ни говорили о бое, но проигрыш есть проигрыш. Я проиграл, вот и все.
Борис замолчал. Он смотрел прямо перед собой.
Потом он сказал негромко:
– Плохо, Филипп Иванович. Очень плохо.
Филипп Иванович выбил трубку о край скамейки.
– Товарищ Горбов, – сказал он. – Товарищ Горбов, голубчик, не нужно огорчаться. Я очень даже понимаю вас. Господи боже мой, поражение в таком бою – трудная вещь. Это ж не шутка! Но вы можете поверить мне, товарищ Горбов, если я говорю, что вы бились хорошо. Я совсем старый человек, но я могу понимать вас, молодых людей. Я не зря живу здесь, вижу вас, вижу, как вы тренируетесь, и все такое. Уж вы поверьте мне, товарищ Горбов. В боксе-то я кое-что понимаю. Простите, пожалуйста, простите меня, голубчик, и не обижайтесь, если я вмешиваюсь не в свое дело.
– Что вы!.. – сказал Борис. – Что вы, Филипп Иванович! Я нисколько не обижаюсь, но вы неправы...
– Я неправ? – сказал старик. – Что я не вижу, что ли? Ах ты, господи, я же вижу, как вам тяжело, а я привык относиться к вам как к родному. Вы и Андрей вроде как родные для меня. Я же знаю, что вам грустно и тяжело. Как же может быть иначе? Боже мой, я только хотел сказать, что я думаю о вас, чтобы вам стало легче. Однако, может быть, я просто не так все это представляю. Уж вы простите...
– Спасибо, – сказал Борис. – Спасибо, Филипп Иванович, но вы неправы, если думаете, будто я...
– Ах ты, господи, – сказал старик. – Опять я неправ? Я прав, товарищ Горбов, голубчик. Обязательно я прав. Уж вы поверьте мне, старому человеку. Всегда и всюду на земле было так, что самые сильные и самые лучшие люди впереди всех и лучшим приходилось труднее всех. Это ж вроде как на войне, товарищ Горбов. Вот я, старый человек, старый сторож на стадионе, я говорю вам: не нужно грустить. Не нужно. Вчерашний ваш победитель хуже вас. Ах ты, господи боже мой! Ведь завтра, то есть в следующем бою, он будет побежденным, а вы победителем! Это говорю вам я, сторож на стадионе. Уж я-то могу знать такие вещи.
– Я благодарю вас, – сказал Борис, – но все-таки вы неправы. Меня не нужно утешать.
– То есть как? Уж простите! – сказал старик. В волнении он встал и взмахнул рукой. Косматая овчинная шуба широко распахнулась. – Я ведь вижу! Я ведь вижу, что вы раскисли, товарищ Горбов. Простите, пожалуйста. Как же вас не утешать? Как же вам не сказать, товарищ Горбов? Вы молоды, вы еще не знаете, как больно бьет человека жизнь, и ничего нет удивительного в том, что вы, простите меня, раскисли. Я же вижу! Вы не спали ночь, вы в унынии, вы раскисли, вас нужно утешить. Обязательно нужно утешить. Разве не так? В чем же я неправ?
– Меня не надо утешать, – сказал Борис. – Врач сказал, что руку нужно будет лечить два месяца. Два месяца, Филипп Иванович! А через три месяца личное первенство. Понимаете? Андрей будет выступать, и Андрей побьет Титова. Андрей, а не я. Понимаете, Филипп Иванович? Я должен, должен вылечить руку и биться с Титовым. Я должен победить Титова, а это очень трудно, и для этого я должен вылечить руку и тренироваться. Может быть, мне придется до боя с Титовым работать с Андреем. Победить Андрея. И меня не нужно утешать. Я совсем не раскис, и я не в унынии, и меня не нужно утешать. Просто мне не повезло, Филипп Иванович.
– Простите меня, голубчик, – сказал старик.
– А ночь я не спал, – сказал Борис, – это верно.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
По реке плыли льдины. Вода казалась черной и густой. На льдинах лежал желтый, ноздреватый снег. Вода разъедала его. Там, где течение переворачивало льдины, сверкали синие и зеленые цвета. Лед гремел и ломался. Большие льдины сталкивались, громоздились друг на друга.
С моря дул сильный ветер. По небу неслись белые облака. Солнце часто скрывалось за облаками и снова появлялось. Снег искрился на солнце. Сияли окна в домах на набережной.
Чайка летала возле моста. Ветер топорщил перья на ее крыльях и швырял ее вниз, к темным пролетам. Чайка пронзительно вскрикивала. Черная вода бурлила под мостом.
Борис медленно шел по мосту. Он смотрел на реку, на льдины и на чайку. Он думал о бое с Титовым и о своей руке. Он совсем не думал о Маше. Он совсем не думал о ней; может быть, он даже забыл о ней. Но когда Маша окликнула его, когда он услышал ее голос, он рванулся и побежал к ней, и ему показалось, будто только о ней он помнил все последнее время, только о ней он думал. Она шла по другой стороне моста. Она первая заметила его и окликнула по имени. Он побежал к ней. Она улыбалась. Она стояла, облокотясь о перила, улыбаясь, и смотрела, как он бежит к ней.
– Маша! – крикнул он.
Недалеко от Маши стоял милиционер. Милиционер охранял мост и порядок на мосту. Он сумрачно посмотрел на Бориса, на его перевязанную руку и на черный кровоподтек вокруг его правого глаза.
– Что с тобой? – сказала Маша.
– Я очень рад. Просто я очень рад, Маша!
– Нет, правда. Что с тобой?
Лицо у Маши было испуганное. Милиционер подошел ближе. Он был в длинных брюках навыпуск. Это был милиционер речной милиции. У него было мрачное, неприветливое лицо.
– Пойдем, Маша, – сказал Борис. – Пойдем, я провожу тебя.
Милиционер смотрел им вслед.
– Отвратительно! Как можно не понимать этого? Люди, пойми ты ради бога, люди ведь вы, а не звери. Неужели ты не понимаешь? Неужели тебе самому не противно? Кровь, перебитые носы, сломанные руки. Кровь и злоба. Нет, просто безобразие, что у нас позволяют этот ваш бокс. Безобразие, безобразие, безобразие!..
– Но, Маша, это совсем не так страшно, как ты говоришь. И потом...
– Что не страшно? При чем тут страх? Я не говорю ни о каком страхе, и мне ничуть не жаль, если тебе разворотят всю физиономию. Тебе и твоим диким товарищам. Не страшно, а противно. Понимаешь или нет? Про-тив-но!
– Маша!..
– Пожалуйста, не спорь со мной. Я знаю, что говорю.
Борис не хотел спорить. Он сидел на подоконнике в Машиной комнате. Маша ходила из угла в угол.
– Маша, – сказал Борис. – Я не хочу спорить...
– И не надо, – сказала она.
Он смотрел, как она ходит взад и вперед и как она хмурит брови. Ему было так хорошо сидеть в ее комнате, и слушать ее, и смотреть на нее!
– Человеку дан мозг, – сказала она.
– Правильно, Маша, – сказал он. – Но человеку, кроме мозга, даны кулаки. Кулаками и мозгом человек может сделать очень много.
Ему нравилось дразнить ее.
– Ты говоришь глупости, – сказала она. Глаза ее блестели от гнева. Черт знает, что за глупости ты говоришь! Лучшие в истории человечества, самые лучшие люди, самые гениальные, самые великие люди – какое все они имеют отношение к кулакам, к звериным остаткам в природе человека?
– Ты неправа, Маша, – сказал он. – А война...
– Война, война! Я все время ждала, когда же ты заговоришь о войне! Что ж, война действительно во многом зависит от того, какие у людей кулаки. Но, если хочешь знать, мне гораздо ближе, гораздо дороже не лихой кавалерист с шашкой, а полководец, который в тихом кабинете решает судьбу сражений.
Теперь она стояла близко от Бориса, и она по-настоящему сердилась. Он смотрел на ее лицо и улыбался, и она сердилась еще больше.
"Милая, милая моя", – думал Борис.
– Клаузевиц? – сказал он. – Это генерал какой-то, кажется.
Маша взяла с полки книгу в сером переплете.
– Клаузевиц – замечательный человек, – сказала она. Она говорила немного снисходительно. Он так мало знал, бедняга!
– Клаузевиц – вот образец настоящего военного гения, – говорила она. – Пожалуй, никто так полно не описал войны. И он, блестящий военный, замечательный практик, отказался от военной карьеры, отказался от славы и почестей, чтобы в своем кабинете писать о войне.
Борис смотрел на ее пальцы. Она перелистывала книгу. Пальцы у нее были тонкие, длинные и измазанные чернилами.
"Как у школьницы", – подумал Борис.
"...Богато одаренный дух моего мужа с ранней юности ощущал потребность в свете и правде. Как ни разносторонне он был образован, все же мысль его была направлена по преимуществу на военные науки, которые так необходимы для блага государства: здесь было его призвание..."
Маша читала. Борис слушал ее звонкий голос. В маленькой комнате гремели гордые слова Марии фон Клаузевиц, и Маше казалось, будто она сама написала эти слова.
"...Он был очень далек от всякого мелкого тщеславия, от всякого беспокойного эгоистического честолюбия, но испытывал потребность приносить действительную пользу и применять на деле те способности, коими был одарен..."
Борис смотрел на Машу. Лицо Маши было взволновано. Она громко и отчетливо произносила слова. Борис не очень хорошо понимал, о чем она читает.
Он понял, что эта девушка так дорога ему, как еще никогда никто не был дорог в его жизни.
"...В практической жизни он не занимал такого положения, в котором эта потребность могла бы быть удовлетворена, поэтому все его устремления направились в научную область и целью жизни стала та польза, которую он надеялся принести своей книгой..."
Маша подняла голову. Борис смотрел на нее, и Маша отвернулась. Борис глубоко дышал, и у него было такое лицо, что ей показалось, будто он сейчас заговорит.
"Милая, милая, дорогая моя", – думал он. Маша отвернулась, и он смотрел на ее смуглую щеку и прядь волос над ее ухом. Конечно, он всегда любил ее, и в школе и потом, после школы, он всегда любил ее и тосковал по ней. Теперь он нашел ее, теперь он понял все и нашел ее.
Маше казалось, будто он сейчас заговорит. Но он молчал. Маша перевернула страницу.
"...Если, несмотря на это, в нем все более и более крепло решение, чтобы труд вышел в свет лишь после его смерти, то это служит лучшим доказательством того, что к его благородному стремлению достигнуть своим сочинением возможно более крупных и прочных результатов не примешивалось ни малейшего тщеславия, жажды похвалы и признания со стороны современников, ни тени каких-либо эгоистических побуждений".
Борис не отрываясь смотрел на Машу. Она не поднимала глаз от книги, но все время чувствовала, как он смотрит на нее, и ей было неловко. Ей было неловко, ей казалось, что Борис сейчас, вот сейчас заговорит с ней, прервет ее, скажет ей какие-то решительные, очень важные слова, и она не знала, что ответить, как ей быть, и она волновалась, но вместе с тем ей было приятно. Почему-то ей было приятно, что он так смотрит на нее.
"Милая, милая моя", – думал Борис. Он молчал. Он сидел совсем тихо. Старался даже дышать тихо. Он не отрываясь смотрел на Машу.
– Клаузевиц... – сказала Маша. – Клаузевиц... Он рассказал о войне в своей книге. Еще он рассказал в своей книге о человеческом разуме. Он рассказал, как разум побеждает всюду, даже на войне. Слушай: "...но война – не забава, она – не простая игра на риск и удачу, не творчество свободного вдохновения; она не шуточное средство для достижения серьезной цели..." И дальше: "...но течение ее, во всяком случае, бывает достаточно продолжительным для того, чтобы дать ему то или другое направление, то есть сохранить подчинение ее руководящей разумной воле".
Солнце вышло из-за облаков, и яркий луч осветил комнату. Золотые пылинки блестели в солнечном луче. Волосы Маши засверкали на солнце. Она не поднимала головы и перелистывала книгу.
– А вот он пишет о бое, – сказала она. – "...Средство только одно бой. Как ни разнообразно слагается война, как ни далека она от грубого излияния гнева и ненависти в форме кулачной схватки..." Видишь? Видишь, как пишет он о твоем кулачном бое.
– Но, Маша, милая... – Он сказал "милая", и он забыл, что еще хотел сказать, и растерянно замолчал. Она быстро посмотрела на него и нахмурилась.
– Разум, – сказала она. – Разум человеческий. Клаузевиц пишет... Вот... Вот слушай: "...По своему общему облику война представляет удивительную троицу, составленную из насилия как первоначального элемента, ненависти и вражды, которую следует рассматривать как слепой природный инстинкт; из игры вероятностей и случая, обращающих ее в арену свободной духовной деятельности; из подчиненности ее в качестве орудия политики, благодаря которому она подчиняется чистому разуму..." Разуму! Снова разум, снова великий разум человека. Вот он, Клаузевиц, писал книгу в тихом скромном своем кабинете. Он спокойно писал о войне, а пышные генералы сражались, и сражались короли и полководцы! Они были знамениты. Слава и почести и все такое было у них. А Клаузевиц тихо сидел в своем кабинете, был хорошим семьянином и рано умер. Он не успел кончить свою книгу и умер. Но вот теперь мы не помним имен пышных генералов и полководцев, а имя Клаузевица живое, и его великая книга живет до сих пор. Владимир Ильич необычайно ценил Клаузевица. Владимир Ильич сам перевел с немецкого целые куски из книги Клаузевица. Понимаешь, ты, кулачный боец?
– Боже мой, как ты презрительно разговариваешь со мной! – сказал Борис и засмеялся.
Маша тоже засмеялась и, смеясь, посмотрела на него.
– Маша... – сказал он тихо.
"Вот сейчас... Сейчас он скажет..."
– Маша... – сказал он еще раз.
– Да... – сказала она.
Он тяжело вздохнул.
– Маша, – сказал он. – Но ведь все-таки бой остается. Даже твой генерал говорит, что бой есть основа...
– Да, но ведь мы говорим не о том. Клаузевиц пишет дальше... Слушай: "...Мы хотим показать, как дело обстоит в действительности, и рассеять заблуждение, будто на войне можно достигнуть выдающихся успехов и без умственных способностей, одной храбростью..." Смотри, вот еще: "...В этом понимании Бонапарт был совершенно прав, когда говорил, что многие вопросы, стоящие перед полководцем, являются математической задачей, достойной усилий Ньютона и Эйлера. Главное, что здесь требуется от высших духовных сил, это цельность и анализ, доведенный до удивительного прозрения, способного на лету разрешать и разъяснять тысячи смутных представлений, одоление каждого из которых может истощить обыкновенный ум..." Так уж, если ты говоришь о войне, если ты хочешь сравнить с войной, то зачем же тренировать свои кулаки, если можно тренировать мозг? Разве не хочется тебе стать мозгом, центром, командиром в той же твоей войне, если уж обязательно нужно говорить о войне? А форма, сама суть звериных ваших драк, со всей этой кровью и синяками! Уж это просто гадость, Борис!
– Но, Маша...
– Нет, погоди. Ведь это просто ужасно, что нужно объяснять тебе, Борис. Зачем? Я никак понять не могу! Это же больно, противно, низко, человека недостойно. По моему, все это так очевидно, так ясно!
– Но, Маша, ты неправа, – сказал он. – Мне трудно спорить с тобой, и твой Клаузевиц, действительно, здорово пишет. Дай мне прочесть эту книгу, если можно. Но все-таки ты неправа. Ведь не только в самой кулачной драке дело. Да бокс это вовсе не драка...
Маша засмеялась.
– Лучше, правда, не спорь, – сказала она. – Вот прочти Клаузевица и вообще почитай побольше. Правда, лучше не спорь со мной.
"Милая моя! Она говорит со мной, как с несмышленым ребенком, и она думает, что – ничего, ничего не знаю. Как же сказать ей?"
Маша снова отвернулась. Опять у него сделалось такое лицо, будто вот-вот он скажет ей эти неизвестные и очень важные слова, и опять ей стало страшно, и вместе со страхом опять пришло ощущение чего-то неясного, непонятного, но приятного.
Они молчали довольно долго.
– Маша! – сказал Борис.
Она резко повернулась и прямо посмотрела ему в глаза.
– Мне нужно идти, – тихо сказал он.
Они стояли в полутемной передней. Ему ужасно не хотелось уходить. Он никак не мог придумать, что бы еще сказать ей. Они молча стояли друг против друга.
– Приходи, Боря, – сказала она.
– Хорошо, спасибо, – сказал он.
– Приходи, когда будет время, – сказала она.
– Спасибо, Маша. Я приду обязательно, – сказал он. – Прочитаю твоего Клаузевица и приду.
Потом они еще постояли молча, молча пожали руки, а он пошел к двери. Но щелкнул дверной замок – и дверь распахнулась.
Борис чуть не столкнулся с высоким человеком в шубе. Высокий человек прямо уставился на Бориса, и Борис попятился.
– Папа! – сказала Маша. – Здравствуй, папа! Почему ты так рано?
– Мне нужно взять кое-какие бумаги. Я уезжаю сегодня в Москву, а вечером у меня заседание, и вот я заехал сейчас. Разве ты недовольна, Машка? Или я помешал?
– Нет, что ты, папа, конечно же нет!.. Вот познакомься, пожалуйста. Боря, это мой отец.
– Здравствуйте, – сказал человек в шубе и протянул руку.
– Горбов, – сказал Борис и поклонился.
У него было такое чувство, будто отец Маши должен подозревать его в чем-то предосудительном. Было ужасно неловко. Борис от смущения поклонился слишком низко и слишком сильно пожал руку человека в шубе.
– Я с ним в школе училась, – сказала Маша. У нее тоже был смущенный вид.
– А что с его рукой? – спросил человек в шубе.
– Это я разбился, – сказал Борис. – Случайно разбил руку...
– Простите, как вас зовут?
– Горбов. Борис Горбов.
– Погодите! – сказал человек в шубе и нахмурился. – Горбов – ваша фамилия?
– Да.
– Я видел вас вчера, – сказал человек в шубе.
Борис с ужасом обернулся к Маше.
– Небезынтересно! – крикнул человек в шубе. Он уже прошел в кабинет и рылся в ящике стола. Его широкая спина была видна в распахнутую дверь. Зрелище, говорю, небезынтересное!
Он быстро вышел в переднюю, на ходу застегивая портфель.
Он поцеловал Машу в голову и молча протянул Борису руку.
– Прощайте, – сказал он.
Он ушел, и дверь захлопнулась за ним.
– До свиданья, Боря, – сказала Маша, – прочитай Клаузевица скорей.
– До свиданья, Маша, – сказал Борис.
Когда он уже стоял в дверях, Маша сказала:
– А бокс я все-таки хочу посмотреть. Я ведь никогда его не видела.
Борис шел через мост. Солнце опустилось ниже, и льдин было меньше. Льдины плыли не останавливаясь. Чайки тоже не было. Но тот же милиционер стоял посредине моста. Он пристально посмотрел на Бориса. Лицо его было неприветливо и мрачно.
Борис улыбнулся и сказал милиционеру:
– Добрый вечер, товарищ!
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
– Как нога, Андрей?
– Хорошо. Совсем хорошо.
– Совсем не больно?
– Да нет же. Правда, хорошо.
Они бежали по аллее парка. Борис прижимал к груди больную руку.
Утренний туман стлался по земле, и неясные очертания деревьев, казалось, двигались в глубине сада.
По ровным дорожкам бежать было легко. Ноги гулко ударяли о твердую землю.
Андрей бежал большими, легкими шагами. Борис бежал чуть сзади, справа от Андрея. Они сделали уже два круга и сейчас третий раз пробегали по парку.
Листья на деревьях только начали распускаться. На березах, осинах и ивах были маленькие листики, а дубы стояли еще без листьев, по-зимнему голые. Березы, осины и ивы издали казались окутанными прозрачными, светло-зелеными облаками. Корявые ветви дубов чернели.
Солнце поднялось, и туман рассеялся, сразу пропал. Легкий ветерок прошумел в ветвях. Вода на взморье покрылась рябью.
Андрей и Борис перепрыгнули невысокую изгородь и побежали напрямик по молодой траве к набережной. На другой стороне реки прозвенел трамвай. Колеса взвизгнули на повороте. Все звуки казались гораздо громче, чем они были на самом деле. По мосту через реку шла небольшая группа людей. Выл выходной день. Первые посетители шли в парк от трамвая по мосту.
Андрей прибавил шагу. Борис рванулся за ним.
– Метров двести, – сказал Борис. – Метров двести побыстрей...
– Ладно, – сказал Андрей.
Пробегая мимо моста, Борис заметил, как вдали ярко выделяется на фоне бледной зелени красная кофта девушки, идущей по мосту.
На маленькой лужайке у пруда они сделали гимнастику. Потом еще пробежались по парку до взморья. Возле лодочной пристани они разделись и оба вместе прыгнули в воду. Вода была очень холодная. Они проплыли совсем немного и вылезли на пристань.
Больная рука Бориса слегка ныла, потому что, плывя, Борис невольно пошевелил пальцами. Опухоль на руке почти прошла, но шевелить пальцами было все еще больно.
– Калеки мы с тобой, – сказал Андрей и засмеялся.
Когда они шли по набережной к мосту, их обогнала байдарка. Девушка в красной фуфайке гребла изо всех сил. Красная фуфайка ярко выделялась на фоне бледной зелени прибрежных кустов.
Борис сразу узнал Машу.
– Маша! – позвал он и сбежал к воде.
Андрей видел, как байдарка круто повернула к берегу. Борис схватил правой рукой борт байдарки. Девушка улыбалась. Лица Бориса не было видно Андрею.
Борис стоял одной ногой в воде и не замечал этого.
Андрей отвернулся и медленно пошел по аллее к мосту.
Через несколько минут Борис догнал его.
Андрей шел молча. Он посмотрел на реку. Девушка в байдарке не двигала веслом. Байдарка тихо плыла по течению.
– Я с ней в школе учился, – сказал Борис.
Борису очень хотелось рассказать Андрею о Маше, поэтому он рассказал Андрею о Клаузевице. Книга увлекла Андрея. Борис вскользь, между прочим, сказал, что книгу эту дала та самая девушка, которую они встретили в парке, и которая училась с ним в школе, и которая терпеть не может бокса.
Андрей оторвался от книги и внимательно посмотрел на Бориса. Борис отвернулся.
– Она не любит бокса? – сказал Андрей.
– То есть, видишь ли... – сказал Борис. – Видишь ли, она, может быть, изменит свое мнение.
– Под твоим влиянием? – сказал Андрей и засмеялся.
– Дурак! – сказал Борис.
__________
После тренировки Петр Петрович нарочно громко, чтобы слышал Борис, сказал Андрею:
– Видите ли, Андрей, ежели боксер связывается с любовными делами, с женщинами и все такое, ежели уж происходит такое несчастье с боксером, то боксер перестает быть боксером. Он становится мужем или папой, или еще чем-нибудь, но боксером он перестает быть. Имейте это в виду, Андрей.
В тот же вечер Борис позвонил Маше по телефону. Он сказал ей, что Клаузевица он уже прочел, но нельзя ли еще немного задержать книгу. Один парень, друг Бориса, хочет прочесть. Маша сказала, что, конечно, можно. Борис спросил: "Когда же мы увидимся?" Маша предложила вместе пойти куда-нибудь, например на концерт.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Высокий человек во фраке пробрался между стульями и пюпитрами музыкантов и вышел на середину эстрады. В зале захлопали.
Высокий человек поклонился, поднялся на небольшое возвышение и повернулся лицом к оркестру. Он поднял руки. В правой руке его была тоненькая палочка.
Гул голосов смолк. Стало очень тихо. Где-то в задних рядах стукнуло, и этот негромкий звук был слышен во всем зале.
Высокий человек взмахнул рукой, и через секунду все разом двинулись смычки, все скрипки запели вместе, потом заиграли трубы и грохнул барабан. Высокий человек управлял окрестром. Он стоял на своем возвышении, руки его взлетали над головой, и светлые волосы спутались.
Борис сидел не двигаясь. Он слегка наклонился вперед. Кроме музыки, он ничего не чувствовал, он забыл обо всем, кроме музыки. Первые, самые первые звуки симфонии завладели всеми чувствами Бориса. Он никогда не думал, что музыка может так сильно, так непреклонно владеть человеком.
Сначала мелодию сказали скрипки, потом повторили трубы, и музыка загремела, заполнила весь огромный зал грохотом и звоном. Потом мелодия изменялась, росла. Борису казалось, что весь он насквозь пропитан звуками.
Какой-то тихий инструмент повторил мелодию ясными ударчиками маленьких колокольчиков, сразу снова грянули трубы, барабаны и медные взрывы тарелок...
Три раза музыка ненадолго смолкала. Высокий человек во фраке опускал руки. Большим белым платком он вытирал лоб и шею, сзади, под волосами. Шея у него блестела от пота.
Во время трех этих коротких перерывов в зале не хлопали. В зале нарастал легкий шум, похожий на хриплый вздох. Когда человек во фраке снова подымал руки, шум сразу смолкал.
Симфония завершилась маршем. Все слилось, все подчинилось сильному, взволнованному ритму. В грохоте и звоне шла мелодия. Барабаны отбивали ее шаги. Трубы и скрипки, виолончели и литавры, все инструменты оркестра кончили симфонию мощными, медленными ударами, и спина высокого человека во фраке дрожала от напряжения.
Кончилась симфония. В зале захлопали и закричали. Высокий человек во фраке устало опустил руки. Он весь как-то поник, плечи опустились, волосы повисли по бокам лба. Потом он вздохнул, выпрямился и постарался подтянуться. Он обернулся к зрителям. Зрители захлопали еще громче. Какие-то девицы кричали: "Браво! браво!" и протискивались к самой эстраде.
Все музыканты в оркестре встали со своих мест и осторожно стучали смычками по своим инструментам. Высокий человек во фраке нагнулся и пожал руку одному из скрипачей, самому старому и седому. Потом кто-то крикнул: "Автора!" Высокий человек устало улыбнулся и стал аплодировать, глядя куда-то в середину зрительного зала. Тогда сбоку к эстраде быстрыми, мелкими шагами прошел молодой человек в очках. Он шел очень быстро, весь устремясь вперед, будто кто-то толкнул его в спину и он должен передвигать ногами, чтобы не упасть. Он взбежал на эстраду и неловко поклонился зрителям. В зале закричали, захлопали, все встали с мест и аплодировали стоя. Борис тоже встал и хлопал изо всех сил. Он видел, как Андрей аплодирует и кричит что-то, и Маша тоже аплодирует. Лицо у Андрея было просто удивительное.
Молодой человек в очках пожал руку высокому во фраке. Высокий устало улыбался. У молодого лицо было очень серьезное и бледное. Он убежал с эстрады. Высокий неторопливо пошел за ним.
В фойе к Маше подошли какие-то двое в щегольских костюмах и ярких галстуках. Маша недолго говорила с ними. Один из них, засунув руки в карманы и небрежно покачиваясь, сказал, что музыка ничего себе, хотя, конечно, вовсе не так уж хорошо, как писали, но все-таки шаг вперед. Борис разозлился. Андрей отошел в сторону. Борис тоже отошел. Они стали возле окна. Андрей смотрел на улицу, а Борис сбоку смотрел на Машу и на двух ее знакомых и злился.
– Прохвосты, – сказал Андрей.
– Кто прохвосты?
Борис не спускал глаз с Маши. Маша рассеянно улыбалась. Тот, который сказал, что музыка "шаг вперед", говорил что-то, кривляясь и жеманничая.
– Разве можно так говорить о музыке! – сказал Андрей. – Все им понятно, прохвостам, все они должны разъяснить, на все навешивать свои пошлости...