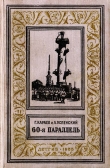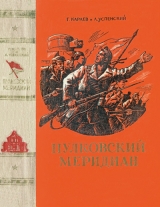
Текст книги "Пулковский меридиан"
Автор книги: Лев Успенский
Соавторы: Георгий Караев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 40 страниц)
И корабли уйдут в Ладогу и… Вот почему Джон Макферсон сделал несколько деликатных намеков, еще тогда, когда полки генерала Родзянки накатывались с юго-запада на Петроград, с целью подогреть внимание Юденича к берегам Ладожского озера. Тогда, увы, из этого ничего не вышло…
Но сейчас, когда на западе дело остановилось (если не хуже!), когда Макферсону пришлось даже спешно отменить поход на катере на завоеванную было Красную Горку, – теперь он считал своим прямым долгом повторить свой нажим, и – уже менее щепетильно.
В штабе убеждены, что большевики «забудут» про этот «запасной фронт», что с ним – «успеется». Но он – он далеко не убежден в этом. Насколько можно судить, большевики не забывают ничего или почти ничего!
Обдумав все, он решил привести в действие особый план: нанести Кронштадту совсем новый, неожиданный удар, характера которого предпочитал не открывать никому. Он уже начал исподволь, в тесной связи с адмиралом Коуэном (очень неглупый адмирал; живой и смотрящий на мир вовсе не сквозь матово-белые очки!) подготовку к этим решительным действиям. Но для них нужен был обеспеченный тыл. А его тыл – тыл Джона Макферсона-младшего, как это ни странно, лежал там, над васильковой в жаркие летние дни, беспокойной Ладогой.
Он хотел окончательно отрезать этот бассейн от Петрограда, заполучить его целиком в свои руки. Он написал об этом личный доклад в Лондон патрону. Патрон – умница: правильно оценил его мысль!
«Большевики не сообразят опасности для них Ладожского фронта? – ответил он. – Как бы не так! Хотя, впрочем, пусть их не соображают на здоровье! Тем больше причин у вас, Кэддэнхед, сделать это дело, пока они слепы. Действуйте! Остальные получат должные инструкции. Но скажите мне, мальчик, – неужели так-таки совершенно невозможно взорвать парочку-другую их мостов?»
Враги рассуждали, как им казалось, умно и трезво. Они прикидывали и приводили в связь все, что могли узнать о чуждом им мире. Но главного они понять так и не смогли. Именно поэтому история показала, что, к их несчастью, взорвать мосты оказалось немыслимым, а большевики «сообразили» все.
* * *
Речка Видлица вытекает из маленького лесного озерка Ведлозеро, лежащего на широком перешейке между двумя озерами-гигантами – Ладогой и Онегой.
Этот восточный берег древнего «Нево-озера» сравнительно низмен, болотист, лесист. Он перерезан поперек неглубокими долинами Свирицы, Онеги, Тулоксы и Видлицы. Все они, впадая в Ладогу, текут с северо-востока на юго-запад, образуя между Олонцом и тогдашней государственной границей страны как бы ряд трудно преодолеваемых, заболоченных, параллельных друг другу оборонительных рубежей.
Перед тем, кто вздумал бы, двигаясь с юга, от Олонца, пробиться на север, к прибрежным островкам Лунгула-саари и Манчин-саари, возникает весьма тяжелая задача.
Глядя на карту этих мест, и Карл фон-Маннергейм, и штабные стратеги Юденича, и их империалистические хозяева испытывали удовлетворение: перешеек был надежно защищен самой природой. Северный финский фронт упирался прямо в громадный водоем на западе и тянулся к другому такому же водоему на востоке. За него можно было быть спокойным: никакие обходы тут немыслимы! Минимальная бдительность, и – попробуйте прорывать в лоб укрепленные рубежи, господа большевики!
Вот почему белофинны почти выпустили из поля своего наблюдения широкий простор Ладоги. Могучее озеро дышало там, за острыми башенками прибрежных елей; в просветах просек в вёдро сияла его совершенно особая, темновасильковая гладь; в непогоду оно билось о берег рыже-зелеными пресными волнами. Пусть бьет, пусть дышит!
Белым оно казалось гигантом-правофланговым, защищающим их с запада. Но именно на него там, в тишине синего вагона на путях Балтийской ветки, много вечеров подряд пристально и молчаливо смотрел товарищ Сталин. Озеро так же не было финским, как залив у Красной Горки не принадлежал ни Юденичу, ни Неклюдову. Озеро было нашим! Это решило все.
В последние дни июня редкие ночные прохожие в Петрограде видели, как один за другим разводились в белых ночах невские мосты. Два небольших военных корабля шли куда-то вверх по Неве. Люди опытные понимали: это двинуты в поход миноносцы. «Амурец» можно было прочитать на борту одного. Другой носил имя «Уссуриец».
Агент английской разведки, капитан Бойс, несколько озабоченный своей перепиской с мистером Макферсоном, отметил это обстоятельство в донесениях. Он навел справки. Оказалось, однако, что суда идут ремонтироваться на какую-то верфь где-то там, в верхнем течении Невы. Что ж! Это вполне возможно.
На деле же оба миноносца миновали и Усть-Ижору с ее заводью, и пороги, и Дубровку, и Шлиссельбург. Они пересекли южный залив озера, прошли под берегом мимо Кабоны и бок о бок со сторожевыми кораблями «Яузой» и «Выдрой» укрылись в устье речки Свирицы.
Вечером двадцать седьмого, – в тот самый чуть-чуть дымный, мглистый летний вечер погожего июня, когда Вова Гамалей писал в Корпове свое письмо деду, когда послание полковника Люндеквиста уже лежало в потайном ящике на квартире у госпожи Петровской, когда уложенный врачами в госпиталь Павел Лепечев в первый раз был выпущен на прогулку в Петергофский парк, – этим самым вечером, около половины одиннадцатого ночи, «Амурец» и «Уссуриец» встретили возле устья речки Олонки целую флотилию: три наши канонерки и трех ветеранов Ладоги, колесные пароходы «Кибальчич», «Гарибальди» и «Ланской». Пароходы сидели глубоко в воде: красноармейские ветхие фуражки, матросские бескозырки там и сям виднелись над релингами и фальшбортами. Очень нетрудно было понять, подойдя вплотную, что суда везут куда-то десантный отряд.
Работник медико-санитарной службы штаба Петроградского фронта Владимир Щегловитов понял это вдруг, внезапно, увидев корабли уже вблизи с мостика «Уссурийца».
Понял и испугался. Растерянность овладела им.
По командировке штаба, с целым рядом важнейших поручений от того, кто заменил для него теперь трагически исчезнувших Лишина и Лебедева, он был направлен сюда, на Ладогу, с кораблями, предназначенными укрепить и усилить какую-то из большевистских флотилии, то ли Ладожскую, то ли Онежскую.
Ему были даны точные инструкции о том, за чем он должен наблюдать и что выяснить на этом захолустном, неподвижном, второсортном участке фронта. Но никто ни единым словом не заикнулся ему о готовящейся тут операции… Неужели о ней не знали ни в «Центре», ни в других местах?
Это было бы страшно! Это требовало от него немедленных действий; а он связан по рукам и ногам. Что делать?
Правда, он знал, что завтра, совсем рано поутру, с флотилии должен был направиться в Петроград связной быстроходный катер. Но он не мог вернуться с ним: во-первых, это повлекло бы за собой совершенно недопустимые вопросы и объяснения; во-вторых, – раз так, ему надлежало быть именно здесь: выяснить все до конца… Дьяволы! Как они могли сохранить такую тайну? Как?
После того как две недели назад группа Лишина была разгромлена, Щегловитову волей-неволей пришлось увидеть себя на более высоком и более ответственном, чем было доныне, подпольном посту. Теперь он держал связь вверх с человеком, фанатически ненавидящим большевиков, с неким графом Борисом Ниродом. Нирод, – сам в прошлом морской офицер, бывший гардемарин, – был в свою очередь тесно связан с кем-то в Кронштадте; но и он ничего, очевидно, не знал… Ужасно…
Ночь была еще очень светлой – пять суток назад миновал самый долгий день. Берег на востоке, озаренный теплыми лучами зари; корабли, к которым они подходили с подветренной стороны; далее лица солдат на их палубах – все рисовалось с той чистотой и ясностью, какую видишь только на больших водных просторах. Небо казалось вымытым и отполированным, как старый фаянс. Тонкий месячный серпик опускался в спокойные воды…
Щегловитов отошел от командира миноносца (боялся, что тот обратит внимание на его выражение лица).
Что делать? Как известить, пока еще не поздно? Или уже поздно? Боже мой! Да если бы около него был хоть какой-нибудь балбес, на которого он мог бы положиться… Хоть кто-нибудь более или менее известный ему…
Он растерялся окончательно, мальчишка. Самостоятельных задач ему никогда не приходилось решать. Как поступить?
У них в семье был обычай – в затруднительных случаях служить молебен святому Пантелеймону… Мама всегда говорила…
Красивое лицо его исказилось, типичное личико «душки-поручика», юнца исполнительного, звезд с неба не хватающего, избалованного, не имеющего своей воли…
«Святой преподобный отец Пантелеймон! – шептал он про себя, как в детстве перед классной работой, стискивая зубы и без мысли упираясь глазами в подходящий все ближе и ближе борт «Кибальчича». – Святой великомученик Пантелеймон! Помоги мне! Не оставляй нас! Дай мне совет: что делать?..»
В ту же минуту он весь вздрогнул. Мягкий румяный рот его приоткрылся почти в ужасе… «Нет… Этого не может быть! Это – бред! Жерве? Левка Жерве! Здесь? Красноармеец? Я ошибаюсь… Нет – он, он, он!»
На палубе «Кибальчича», возле самого трапа, приготовившись по команде поймать брошенный с «Уссурийца» конец, стоял с винтовкой за плечами, в старенькой суконной гимнастерке, в совершенно неожиданной именно здесь университетской студенческой фуражке с выцветшим голубым околышем на голове, в крепко закрученных брезентовых обмотках над грубыми солдатскими башмаками, тоже совсем еще молодой человек, тоже почти мальчик, невысокого роста, очень плечистый, с некрасивым открытым лицом, чем-то напоминающий портреты юноши-Бетховена…
«Нет, нет! Никакой ошибки! Его не спутаешь! Это – Лева Жерве, брат его гимназического одноклассника и друга – Юрки Жерве, брат Елены Николаевны, сын директора и совладельца «Русского Дюфура», внучатый племянник и любимец этого, как его… Пулковского астронома… ну, чёрт! Гамалея! Господи… Да это же настоящее чудо! Святой Пантелеймон, голубчик, спасибо, спасибо тебе!»
– Жерве! – отчаянно закричал он через неширокое пространство, которое их еще отделяло. – Жерве, Лева! Откуда вы тут?..
Юноша вздрогнул в свою очередь, поднял голову.
– Господи… Володя! Не может быть! Вот – неожиданная встреча…
Он тоже растерялся на минуту. Но в следующий миг, когда Щегловитов перескочил, торопливо сбежав с мостика, на борт «Кибальчича», открытая, несколько «грубо-резаная», но очень приятная физиономия его осветилась радостной улыбкой: что может быть чудесней, чем так вот, на фронте, перед боем, внезапно, среди тысяч незнакомых людей встретить своего человека – друга, или друга твоих друзей, кого-то, кто знал твое детство, учился в одной школе с тобой, помнит многое памятное и милое тебе!..
Лев Жерве протянул руку этому командиру. Легкое смущение изобразилось на миг на его лице. У него была одна ужасная досадная особенность памяти: превосходно запоминая черты людей, интонации их голоса, мельчайшие факты из жизни, даже их имена, – он роковым образом забывал фамилии… «Боже мой… Ну – как же? Юркин одноклассник, конечно… Володя, Володя? Фу ты! Фамилия какая-то такая… Как у кого-то из министров до революции, до войны… Коковцев? Нет! Сазонов? Нет, не Сазонов…»
– Простите, Володя! – сконфуженно пробормотал он. – Я отлично помню вас. Вы дружили с Эпштейном и с этим еще, с сыном адвоката… Но фамилию вашу я забыл…
– Мою? Тимашев моя фамилия! Владимир Тимашев! – быстро проговорил Щегловитов, делая жест не то удивления, не то признательности. – Левушка, дорогой мой… У меня к вам, конечно, множество вопросов! Мы будем беседовать потом часами; раз уж мы встретились, Но сейчас вы должны прежде всего оказать мне огромную услугу… Дело чрезвычайной важности! Я должен немедленно отправить срочное донесение в Петроград. Три креста! Мне нужен человек, на которого я могу положиться, как на себя… Я в растерянности… И вдруг – вы!.. И – рядовой! Где ваш командир? Я отправлю донесение с вами. Подождите меня тут.
Он быстро пошел к капитанской рубке. Лева Жерве остался один.
«Тимашев? – повторил он про себя. – Как? Разве «Тимашев»? Хотя, пожалуй… А мне казалось что-то вроде «Тимирязев»… Но, значит, верно: только Тимирязев – был юстиции, а Тимашев чего? А! Торговли и промышленности! Вспомнил! Ти-ма-шев? Да, да… Пожалуй… Или…»
Никто и никогда не исследовал – то ли по неумению выяснить ее законы, то ли по каким другим причинам, – какую роль в нашей жизни, в событиях больших и малых, играет то, что люди именуют «случайностью». А роль эта порою поразительна.
То, что Владимир Щегловитов, сын камергера и внук сенатора, будучи командиром Красной Армии и шпионом «Национального центра», встретил 27 июня 1919 года на одном из судов Ладожской флотилии своего однокашника по дореволюционной школе, Льва Жерве, сына крупного инженера, а теперь красноармейца – это все было чистейшей и голой случайностью.
Однако вовсе не случайно этот молодой еще и неопытный человек, Щегловитов, поступил как будто непредусмотрительно, доверившись ему.
Он отлично знал и старшую сестру Льва Жерве – красивую золотоволосую девушку из богатой семьи, барышню с чрезмерной любовью к искусству и с той декадентской психологией, которую лет пять-семь назад люди еще вполне одобрительно называли «гниловатенькой»… Бывает же дорогой гниловатенький лимбургский сыр или лучшие рябчики с душком, радость гастрономов!
Он дружил когда-то и с Юрием Жерве: щучий сын Юрка сам себя называл «последним из Борджиа», гордясь и хвастаясь своей беспринципностью, своим воинствующим, убежденным эгоизмом. Во время войны он даже попал в «непромокаемое положение» по каким-то темным делам – оказался в тюрьме… Ну, – что из этого!?
Кто-то год назад рассказал Щегловитову: Жерве эмигрировали в Финляндию… Говорили, собственно, про Люсю: она уехала со своим давним поклонником, японским атташе, капитаном Като Мацунага… Но у Щегловитова сложилось впечатление, что улизнула вовремя и вся семья.
А чему удивляться: Николай Робертович был видным биржевым тузом, человеком состоятельным; все понятно!.. И если Левик Жерве почему-то здесь, да еще в красноармейской форме, – так ведь и он-то сам – точно в таком же положении…
Будь у него время для размышлений, он, вероятно, проявил бы хоть некоторую осторожность. Но времени как раз не было; все пришлось решать в считанные минуты, и главную роль сыграла опять-таки чистейшая случайность.
Разыскивая командира десантной части, в которой числился красноармеец Жерве, Щегловитов даже покраснел от внезапного внутреннего стыда: безобразие! Жерве на несколько лет моложе; ему не больше девятнадцати, а какая выдержка!.. Не закричал, как сделал он сам: «Эй, Щегловитов!» Вполне разумно, очень ловко разыграл забывчивость… Забыл он фамилию, а? Чушь! Просто он дал возможность ему назваться так, как Володя считал для себя удобным… Очень умно! Очевидно – свой, и стреляный воробей!
Это обстоятельство окончательно загипнотизировало его. Радуясь совершенно немыслимой удаче, он в несколько минут разыскал комбата, отрекомендовался, изложил просьбу… Сейчас уже трудно установить, чем эта просьба была мотивирована, но – неважно!
Важно то, что десять минут спустя, наспех обменявшись с Жерве адресами, не успев перекинуться даже парой связных слов (да не так-то было и просто в их положении начать откровенничать среди толпы шумных кое-как одетых, и молодых, и уже бородатых десантников), работник штаба Тимашев перескочил снова на борт «Уссурийца»: миноносец пенил воду, уже отваливая.
С души у него – камень свалился. В кармане у Левушки лежало теперь его донесение. Оно было составлено тоже очень умно – на всякий пожарный случай! Он просто просил себе «продления командировки, ввиду того, что ему придется неизбежно принять участие в десанте во вражеский тыл, осуществляемом силами Ладожской флотилии и приданных судов, а возможно и в более широких операциях на междуозерном участке фронта».
Такая докладная записка, будь она адресована и доставлена, кому следует, не содержала бы в себе почти ничего предосудительного. Все дело было в адресате, но адрес знал только Жерве. Да этот адрес и в его глазах также не мог быть ничем предосудительным: обычное военное учреждение! У парня не могло возникнуть никаких ненужных вопросов. Щегловитов не сомневался, что Жерве в точности выполнит и приказ командира и просьбу старого товарища. А дальше? Дальше – это уж «их» дело. Свою роль он выполнил и выполнил хорошо.
* * *
Ничего случайного не было и в том, что Левушка, как ни поразила его неожиданная встреча, действительно приготовился точно и быстро исполнить возложенное на него поручение.
Когда миноносец отвалил и фигура Володи Тимашева на мостике перестала отличаться от других фигур-человечков, Лева спустился в каюту: надо было взять командировочное предписание, собрать вещички, проститься о товарищами по нарам и ехать… Ничего не попишешь: приказ!
Леву не радовало это неожиданное изменение его ближайшей судьбы. С ранней юности Лева наметил себе цель: стать писателем и даже точнее: летописцем… В дни войны четырнадцатого года эта цель стала бесспорной для него, наполнилась ясным и высоким содержанием:
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!..
Да, да! Быть летописцем великих дней! Роковых минут. Все видеть, все запомнить, обо всем рассказать потомкам… Какие облака плыли над ржаными полями в тот канун Ильина дня, когда европейские государства, как стадо бешеных евангельских свиней, ринулись с обрыва в кровавое море мировой войны. И как рычало ютландское небо во время боя под Скагерраком… И как пахло пороховым дымом, и мокрой древесиной березовых неокореных дров утром седьмого ноября семнадцатого года на Дворцовой площади, когда во дворце еще визжали откормленные бабы из «женского батальона смерти», не веря, что их оставят в живых; когда низкие тучи висели над самым теменем ангела на Александрийской колонне, на мясно-красных стенах Зимнего там и сям белели раковистые чашки пулевых шрамов, а какой-то матрос горячий, конопатый, с перерубленной бровью, крепко тиская ему, Льву Жерве, руку, рычал в самое ухо: «Ну, не знаю, гимназист, куда тебя, сосунка, сюда принесло?.. Чего ради на своих-то полез?.. Но – спасибо! Я, гимназист, за тобой в оба иллюминатора следил: чуть-что одной бы пулей… Теперь вижу: нет! Чудак попался буржуйчик! Неужто и в предбудущем за нас пойдешь? И латинского языка не пожалеешь? Ну иди; я тебя живым манером к винному погребу поставлю: карауль винишко! Нашему брату – никак там нельзя: слишком тяжело рядом с таким помещением… А ты – выстоишь!»
И он – стоял.
Теперь, когда его весной призвали в Красную Армию, он обрадовался. Конечно: жаль отца! Что будет он делать один в большой бабушкиной квартире окнами на Неву и на крепость, со своим пайком, с удостоверением на имя «гражданина Жерве Н. Р., инженера, выполняющего особые задания Советского правительства по производству вооружения для РККА», с едкой досадливой тоской по «этим поганкам и дурам», маме и Люсе?.. Ну, ничего, как-нибудь: отец – человек крепкий!
С такой же радостью, с великим интересом узнал он о назначении на Ладогу, в десантный отряд; грузился на пароход; знакомился с новыми товарищами… «Большевик?» «Нет, какой я большевик, ребята… Просто… Думайте как хотите, а жизнь-то на этой стороне… Там-то плесень; что-что, а это мне ясно!»
Вот! Прибыли… Вторые сутки готовился к новому, большому: первому бою. И вдруг, как мальчика на побегушках… Ну, что же поделаешь: солдат! Зато – папа как обрадуется? «Тимашев, Володя»… А?
Нет, все это было – ни с какой стороны не случайно.
Но когда он, собрав свое барахлишко, встал, чтобы итти наверх, на палубу, глаза его остановились на самодельном, каким-то судовым художником писанном плакате. Этот плакат висел на дереве мачты, которая, как деревянная колонна, пронизывала бывший «салон» пассажирского парохода, Рабочий в кепке с электрическим фонариком, зажатым в поднятой левой руке, освещал скорченную фигуру, а правой срывал розовую маску ангелочка с уродливо-клыкастого звериного лица. «Бдительность!» – кричали большие красные буквы.
И Лев Жерве вдруг остановился, точно его ударили. Лицо его переменилось. «Погодите?.. – пробормотал он. – Постойте!.. Почему же – «Тимашев»? Его же фамилия была «Щегловитов»? Конечно – Щегловитов! И они жили где-то около Таврического сада… Что такое?»
Комиссара батальона не оказалось на месте. Лева хотел уже итти разыскивать комбата Волкова, но вдруг заметил на корме другого человека. Усатый пожилой моряк этот, комиссар десантного отряда кораблей, прибыл утром на «Кибальчиче» и, видимо, еще не уехал на флагманское судно. Он стоял теперь один и в бинокль рассматривал что-то на берегу. Может быть, с ним посоветоваться?
– Товарищ военком! – сказал Лева, подходя, – я хотел бы у вас спросить. Понимаете, все дело в том, что у меня дьявольски плохая память на фамилии… Я не знаю, насколько правильны мои предположения, но все-таки мне кажется…
Усатый человек выслушал его, не спуская с него сердитых глаз. Он был крупен телом, плечист, суров на вид. Но почему-то суровость эта казалась наложенной на него извне, как бы надетой до случая вместе с грубошерстным бушлатом… Наверное, он мог, по миновании надобности, расстегнуть ее, как бушлат, и спрятать в рундук.
– Гм… Веселый выходит у нас разговор, товарищ красноармеец! – густым, низким голосом проговорил он, когда Жерве замолчал. – А ты сам? Тоже – из бывших? Вес-селый разговор! Покажь-ка мне его сюда, этот конвертик…
Взглянув на адрес, он покрутил носом. Могучие бушприты его усов пошевелились. Не надрывая письма, он сунул его в карман бушлата.
– Зан-нят-ное дело! Так – памятью своей недоволен? Жалуешься? Ну, а мою фамилию, по крайности, помнишь? Нет? Вот чёрт тебя задави! Действительно уж – память!.. Так-то я пожаловаться не могу: белые мою фамилию помнят… Но и тебе следует: ночью вместе в огонь пойдем!.. Кокушкин фамилия моя; Василий Спиридонов-сын Кокушкин. Цусимских времен матрос.
Память! На этот раз, молодой товарищ, твою плохую память ругать особенно не приходится: она тебе, по всему видно, довольно интересную рыбину в мутной воде поймать дала… А ну, Власенко, живо! Бери свой инструмент, вызывай мне «Уссурийца»… Комиссара корабля давай. Сигналь: «У вас на борту… под видом военного врача Тимашева… скрывается сукин сын Щегловитов… Немедленно… Ну, ясно: арестовать. Об исполнении – доложить семафором. Кокушкин».
– Вот так-то, товарищ Жерве… Неси, брат, свой чемоданчик вниз. Просмотри еще разок винтовку: до боя – считанные часы. От меня – матросское спасибо, а от командования… Ну, от командования – подожди, пока твою худую память мы проверим. В нашем деле теперь без проверки – шагу ступить нельзя!
* * *
В полночь нашу флотилию обстреляли береговые батареи белофиннов. Корабли, не открывая ответного огня, подались прочь от берега и, воспользовавшись длинным облаком тумана, двинулись в сторону Усть-Видлицы; там, в поселке старого Видлицкого завода, в двух десятках километров от фронта, разместился армейский штаб и склады врага.
Суда прибыли на место уже совсем засветло, в шестом часу утра 28 июня.
Все дело было в том, что, по плану, утвержденному командованием, и здесь, как у Красной Горки две недели назад, удар должен был быть комбинированным. Между действиями армейских частей на суше и маневрами кораблей была установлена абсолютная синхронность.
В пять часов двадцать минут артиллерия ударила одновременно и на фронте и с кораблей во фланг врагу. Суда с десантниками ворвались под жарким огнем в устье Видлицы. Одни на шлюпках, другие по грудь в воде, бойцы кинулись на низменный берег.
Вместе с другими по песчаной отмели бежал к соснам, видневшимся на окраине местечка, и Лева.
Со всех сторон слышалась оживленная перестрелка. Впереди, закурчавив над собой лохмы тяжелого дыма, большим огнем горел Видлицкий завод. Свистели пули, но Лев Жерве, так же как и его ближайшие товарищи, не слышал их. Бойцы поднялись наизволок, на крутой береговой холм, и залегли, взяв под обстрел длинный серый забор, тянувшийся над пожарищем, группу ив у берега реки и дорогу на север, по которой от времени до времени пытался прорваться к бечевнику то серо-зеленый вражеский солдат в английской шинели, то тяжело груженая повозка…
Охваченный совершенно новой для него лихорадкой, юноша еще плохо мог отдать себе отчет в том, что вокруг происходило. Как на матовом стекле, рисовались перед ним и двое еще безусых красноармейцев – соседей по цепи, Зотов и Савватеев, яростно стрелявших вправо от него, и фигура человечка, там, вдали, на пыльной дороге, у того забора… Вероятно, это был раненый финн: он лежал у обочины шоссе, так плотно прижавшись к земле, точно его сбросили на нее с большой высоты и расплющили ударом… Иногда он вдруг резко сгибал ногу в колене: значит, был еще жив. Но не отползал в канаву, хотя она пролегала метрах в двух от него: видимо, ранение его было тяжелым.
Сердце Левы Жерве стучало очень часто и очень сильно; ему хотелось есть; как-то немного неловко было дышать, точно после быстрого подъема на гору… Но, странное дело: страха он не испытывал. Напротив, в голове у него вдруг воцарилась небывалая ясность.
Неторопливо, совсем в другом ритме, чем двигались его руки, чем щелкал затвор винтовки, чем вылетали медные гильзы, помимо его воли, проходили одна за другой отчетливые бесспорные мысли. Мысли, не имеющие, казалось бы, никакого отношения к тому, что он должен был непосредственно делать.
– Лев… Лев, Жерве! – закричал вдруг ему сквозь какой-то кустарник Зотов, – а ну… Калитку-то видишь? Правее – щель… Пулемет видишь? А ну, братцы, разом, залпом… Нельзя дозволить! Кучней, кучней бей…
Левушка Жерве торопливо перезарядил обойму, хотел снова открыть огонь и вдруг увидел высокую фигуру и длинные усы комиссара Кокушкина.
Комиссар быстрым шагом, не нагибаясь, шел прямо к цепи по тропинке вдоль фронта.
– Эй, Жерве! – окликнул он, как только приблизился на расстояние голоса, – что тут у вас еще? Плевать на этот забор: без вас доделают… Видите – вон уже наши где, с правого фланга обходят… Снимайтесь! Сколько вас тут? Мне человек пять надо… Да кораблишко здесь под берегом ихний трехмачтовый заболтался! Уйти-то – нет, не уйдет; а вот затопить очень свободно могут, дьяволы белые… Давайте со мной в шлюпку: на абордаж пойдем… Чего там: завод, завод! Без вас этот завод возьмут; пехота… Там завод, а тут – корабль, судно… Одно другого стоит…
Лев Жерве, потный, грязный, вскочил и побежал рысцой вслед за комиссаром к берегу. И тут только впервые опять вспомнился ему Щегловитов. Арестовали ли его? Наверное – да. Правильно ли он сделал, выдав школьного товарища, друга детства, человека из «своего круга»… Нет, правильно, правильно…
– Ну, – точно подслушав его мысли, в этот самый миг на бегу бросил ему Кокушкин… – Приняли на учет твоего… давних лет приятеля… Молокосос!.. Сразу течь дал: во всем признался… Не ошиблась твоя дурная память-то: Щегловитов он и есть… Молодец ты, студент, правильный курс берешь! Так держи и дальше!
* * *
Наступление под Видлицей захватило белофиннов врасплох. Организовать сопротивление удару с Ладоги, с фронта, а затем и с Онежского озера они оказались не в состоянии. Взаимная поддержка флота и армии и здесь дала свои плоды. Уже к полудню белые дрогнули. Они стали откатываться к северу от Олонца.
Видлицкий завод оказался к этому времени в наших руках: штаб врага разгромлен; склады захвачены.
Во всех дворах команды считали японское вооружение, английские, американские винтовки, связки шинелей, продовольствие, боезапасы, все то, что десятки кораблей везли из-за океанов в помощь и на поддержку белой гвардии капиталистов.
Спустя некоторое время стали приходить радостные известия и от более далеких частей. На онежском берегу 47-й полк захватил Сорочью Гору, подошел к Тулосозеру, Взятыми с боя оказались Гушкала и Сяндепская пустынь. Второй добавочный отряд кораблей, не без труда и сопротивления, прикрывшись туманом, преодолел отпор противника, высадился севернее устья Тулоксы и теперь резал финские тылы, идя берегом к Видлице.
* * *
К вечеру 28 июня передовые отряды армии вышли к государственной границе. Вражеский плацдарм на берегу Ладоги перестал существовать. Еще одна мечта интервентов рухнула.
«Москва, Кремль. В. И. Ленину.
Сегодня наши части при поддержке нашего Ладожского флота внезапным ударом овладели Видлицким заводом у границы Финляндии, захватили 11 орудий и богатые артиллерийские и продовольственные склады. Взятые снаряды, патроны, пулеметы подсчитываются. Наше наступление под Питером продолжается… Кроме взятых раньше 26 пулеметов взято еще в разных пунктах около 30 пулеметов.
Сталин»