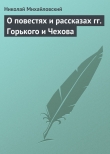Текст книги "Играем Горького"
Автор книги: Лев Тимофеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Глина, конечно, знал всю эту марьяжную историю, и она ему ужасно нравилась: ради дела ребята готовы идти до конца, плевать они хотели на всякие условности. Глина любил таких упертых и азартных. Он и сам был таким – игроком, одержимым потребностью бесконечно делать ставки, играть и выигрывать, только выигрывать... Впрочем, в последнее время он начал все больше понимать, что в бизнесе (да и в жизни вообще) при всем захватывающем азарте игры есть и другое, без которого далеко не продвинешься. "Спокойствие, уверенность, надежность" – эти три слова были девизом его банковской группы, рекламный ролик которой ежедневно крутили по всем телеканалам. Азарт с годами уступал место трезвому, холодному расчету: его деловая империя довольно разрослась, пора было остановить эту экспансию и всерьез заняться наилучшим обустройством того, что уже нажито.
И все-таки один новый проектик он одобрил – небольшой, но заманчивый. Привязанность к молодому актеру (как он слышал от людей совершенно посторонних, Верка и впрямь был актером от Бога) его, Глину, сделала театралом. Он и раньше считал своим долгом изредка хаживать в театр, но теперь посмотрел в Москве все спектакли, о которых говорил его молодой друг. Довольно быстро научился понимать, что такое хорошо и что такое плохо на сцене. Мало того, организовал щедрое пожертвование в театр великого Марка Сатарнова, что сразу ввело его в круг московских театральных деятелей, увидевших в нем крупного мецената. Вообще-то он и Магорецкому хотел дать денег, но Верка остановил его: "Папа, милый, не гони картину. Всему свое время. Не хочу зависеть от твоих денег. Может, доживем до этого, но не теперь".
До чего доживем? Когда доживем? Этот косвенный посыл в будущее заставил Глину иначе взглянуть на арбатский гостиничный проект. Года два назад он чисто дружески согласился войти в это дело – именно дружески, поскольку выгода была пустяковая. Хотя уже тогда его люди настойчиво докладывали, что существует другой проект, участие в котором для их компании более перспективно: речь шла о строительстве культурно-развлекательного центра. Тогда Глина только поморщился: он всегда симпатизировал Маркизу, помогал ему поставить издательское дело, и если теперь тот строит гостиницу, пусть строит, не будем мешать. "Прибыль в деньгах – это хорошо, но только без убыли в корешах", – сидя во главе большого овального стола, говорил он на совете директоров, и большинство из тех, кто слушал его, никак не могли врубиться, о чем Глина толкует: какие же это кореша, если они не понимают, где прибыль? Но спорить с Глиной здесь не было принято.
Теперь же, через год после того как он встретил Верку, ситуация виделась ему совсем иначе. Он построит именно культурный центр, и там будет небольшая, но хорошо оборудованная театральная сцена. Театр. И основным актером этого театра будет Аверкий Балабанов. Яркая звезда ХХI века. Словом, Глина совсем спятил от любви и понимал это, но сопротивляться чувству не хотел – да вряд ли бы и смог...
Услышав от Верки по телефону, что диплом закрывают, он понял, что нужно действовать. Первым делом он позвонил Толе Смерновскому (Смерновский всегда подчеркивал, что его фамилия пишется через "е", от корня "мер" – мера, мерить), ведущему театральному критику, с которым успел не только познакомиться, но и пару раз отобедать в подвале "Под театром" и даже перейти на "ты". "Толя, это ты мне звонил насчет Магорецкого? Что-то мне секретарша невразумительное передала. Что-то там закрывают... Или закрыли?" Это был простодушный ход, но Смерновский клюнул. "Да, да!.." – взволнованно откликнулся он, хотя не звонил, а лишь прикидывал, кто бы мог помочь. Смерновский стал подробно описывать ситуацию, а Глина, словно ничего не знал, молча, не перебивая, выслушал его, помолчал, раздумывая, и сказал: "Понятно. Ладно, позвони ему и скажи, что я жду его завтра утром. Что-нибудь придумаем".
Все уже было придумано. В необъятном кабинете завтрак был сервирован на небольшом столике в углу, на стенах висели образцы народной керамики и между ними – несколько филоновских рисунков. Сообщив, что в свое время Магорецкий потряс его "Чайкой", Глина перешел к делу. Он, конечно, слышал об интересном замысле горьковского спектакля. Особенно восторженно отзывается о нем его, Глины, друг Толик Смерновский. Он-то и сообщил, что спектакль закрывают. Это беспредел. Тут уже дело идет на принцип. Всем этим бывшим советским нельзя подчиняться, нельзя давать им волю, иначе они всех будут иметь, как хотят. Как говорил Толстой, союзу людей плохих должен противостоять союз людей хороших. Поэтому он, Глина, предлагает Магорецкому ни в коем случае не прекращать репетиции, но пока перенести их в небольшой зал – такой зал есть в его, Глины, собственной квартире в одном из арбатских переулков. Квартира большая, занимает целый этаж и сейчас пустует. Зал, конечно, невелик, но как репетиционный, кажется, вполне годится. ("Меньше этого кабинета?" – спросил Магорецкий, оглядываясь вокруг и не скрывая иронии. Глина тоже огляделся. "Примерно такой же", – сказал он спокойно.) Когда же спектакль будет готов, он обещает найти площадку для регулярных представлений... Да, кстати, этот дом в арбатском переулке скоро снесут и на его месте уже через год будет построен новый культурный центр, и там будет театральная сцена с небольшим, но уютным залом. Вот эскиз – сцена и общий вид зала... Тут вот еще какое дело: в компании, которая будет осуществлять этот проект и одним из учредителей которой является он, Глина, среди руководителей нет ни одного специалиста по театральному делу. Не согласится ли Сергей Вениаминович участвовать в деле как консультант? Или даже одним из директоров?..
Входя в этот кабинет, Магорецкий настраивался на иронический лад: ирония была защитой от унижения, какое испытывает любой нищий проситель, входя к меценату. Но хозяин кабинета или не заметил иронии, или посчитал ниже своего достоинства обращать на нее внимание. Между тем, слушая мягкое рокотание Глининого баса (церковный тембр, чистый дьякон), поглядывая при этом на картинки Филонова (неужели подлинники?), неторопливо поглощая яичницу с ветчиной и жареные тосты, Магорецкий перестал чувствовать себя просителем и понял, что хозяин действительно всерьез заинтересован в сотрудничестве. Сам он больше молчал – не потому, что был подавлен напором речи и содержанием предложений, но скорее сильно озадачен. Помощь была куда более щедрой, чем он ожидал. Да и вообще, похоже, это была не помощь, а равноправная сделка, хотя Магорецкий еще не вполне понимал, в чем именно заключается интерес хозяина. Когда был выпит кофе (от коньяка и ликера гость отказался: ему еще сегодня ездить за рулем, – и сам Глина пить не стал), Магорецкий, понимая, что аудиенция идет к концу, попросил день-другой на размышления.
"Какой разговор! – согласился Глина ("Какой базар!" – послышалось Магорецкому). – Только я бы посоветовал вам переговорить еще с одним человеком. Он автор проекта и лучше меня поможет вам определиться. Я его предупрежу". Он набрал номер телефона Протасова, который в это время, расставшись с Телкой и попав в автомобильную пробку, пешком направлялся к своему офису.
Ляпа
За четыре года бомжевания Ляпа хорошо усвоил, что в незнакомых подъездах ночевать опасно. Увидев бомжа, спящего где-нибудь в углу на картонке, жильцы поднимают хипеж, звонят в милицию, приезжают менты – с радостью являются, с шуточками, оживленные, возбужденные возможностью до полусмерти отмудохать беззащитного и безответного: вдвоем, втроем будут бить, по очереди, и каждый с удовольствием врежет, с расстановкой, с оттяжкой. Да еще норовят сапогом в лицо, в зубы, чтобы кровь пошла. Кайф у них такой: молодые, крепкие, жизнерадостные, любят посмотреть, как человек захлебывается кровью, корчится на асфальте, на снегу – посмеяться любят. И благо, если в конце концов отвезут в обезьянник, в милицию, там хоть тепло, а то выбросят на улицу, зимой – на мороз, ползи на карачках, хорошо, если найдешь какой-нибудь неплотно закрытый канализационный колодец, какую-нибудь незапертую дверь в подвал. А нет – и замерзнешь насмерть. Утром твой окостеневший труп кинут в машину, которая собирает помойку, и отвезут к городским печам, где сжигают мусор. А тут уж мусор не сортируют – огонь все слопает... Таких случаев Ляпа знал предостаточно и такого конца боялся больше всего.
Последние месяцы выдались особенно трудными. От трех вокзалов и до Сокольников, где в прежние годы ему и в магазинах на подхвате удавалось подработать, и бутылок в парке нагрести, и милостыню у метро или на паперти насобирать, и по мелочам что-нибудь стырить, – теперь усилилась конкуренция, и на каждый ящик в магазине, на каждую бутылку в парке, на каждую ступеньку на паперти претендовали по три-четыре охотника. Всюду появились какие-то южные люди, беженцы: то ли таджики, то ли узбеки – с огромными семьями, их неумытые и нечесаные бабы с младенцами, сосущими обвислые груди, с множеством грязных пронырливых и наглых ребятишек, после которых и за милостыней, и за бутылками ходить было бесполезно.
Некоторое время его спасало знание стихов, особенно Есенина, и песен блатных и Высоцкого: среди бомжей и мелких уголовников у него даже была кликуха "Поэт", его приглашали читать стихи, а когда находилась гитара, то и петь – и за это поили, снабжали дурью. Но в последнее время его приглашали все реже и реже, а если он сам подходил к компании, бухающей где-нибудь у костерка в парке или в полосе отчуждения у железной дороги, и в надежде на глоток водки начинал читать стихи, то ему советовали заткнуться или вообще кто-нибудь норовил засветить в голову пустой бутылкой. Не до стихов людям стало. Между бомжами пошли крутые разборки, и каждый день можно было услышать, что кого-то сбросили в Яузу, в канализационный люк или просто в бак с помойкой – одного с проломленной головой, другого с перерезанным горлом.
Но хуже всего было, что позакрывались самые спокойные ночевки – в подвалах и на чердаках: двери стали обивать листовым железом и навешивать на них амбарные замки. Разруха начала девяностых уходила в прошлое. Всюду утверждались новые владельцы. "Ответственные собственники" приводили в порядок доставшееся им хозяйство. Прежние дыры, надежные лазы в заборах и в стенах, через которые всегда можно было даже не пролезть, а во весь рост пройти на какую-нибудь заводскую территорию к теплой трубе позади котельной или к узлу теплотрассы, теперь оказывались прочно забиты досками, заложены кирпичом, залиты бетоном. А в подъездах... но в подъезды лучше было не соваться.
Словом, еще в декабре Ляпа понял, что если и дальше так дело пойдет, то этой зимой он обязательно подохнет. С год назад он подсел на героин: закентовался ненадолго с одним воровским шитвисом, пел у них на хате, ходил с ними в баню, а у них порошка хоть ложкой кушай. И теперь потребность вмазаться стала более тяжелой, более мучительной, чем прежде была потребность забухать. А где такие деньги найдешь? В результате он почти совсем перестал есть и сильно ослаб за последние месяцы, а однажды, будучи приглашен компанией своих давних поклонников в баню, с ужасом увидел в зеркале, что мяса на костях совсем не осталось – один скелет. А тут еще оказалось, что он обовшивел, и, увидев это, "давние поклонники" молча взяли его голого за руки-за ноги, вынесли на крыльцо, раскачали и выбросили в сугроб. А вслед и одежонку бросили на ступени...
И тогда он позвонил Протасову. Какое-то тупое отчаяние на него нашло, притупление чувств: не должен, никак не должен он был звонить. Пятнадцать лет назад, освободившись из лагеря на полгода раньше Маркиза, Ляпа первым делом навестил его жену... и переспал с ней. И не просто переспал, а жил у нее почти неделю. Как-то так само получилось: выпили, хорошо выпили, совершенно расслабились, ну и проснулись утром в одной постели. Потом долго не могли оторваться друг от друга, она, кажется, даже на работу не ходила, отпуск взяла за свой счет. Тихая такая женщина, вроде богомолка, дом полон икон, а в постели ну просто неудержимая... Он очнулся через неделю – и ужаснулся: друг тянет срок, а он тут с его бабой... Ушел и больше ее никогда не видел.
Когда Маркиз освободился, и позже, когда Ляпа уже выпустил книгу своих стихов ("Основной мотив – пронзительная ностальгия по комсомольской романтике", – писал критик в газете "Литературная Россия"), вступил в Союз писателей (в тот, патриотический, на Комсомольском), был женат и жил благополучной семейной жизнью, их дружба так и не возобновилась. Маркиз стал известным издателем и одним из лидеров демократов. Они встречались на каких-то литературных тусовках, первое время обнимались, потом только раскланивались... и расставались, не испытывая потребности встретиться. Каждая новая встреча была все более холодной. Ляпа, понятно, неловко чувствовал себя из-за той истории с Маркизовой женой, но главное было не это. На какой-то презентации Маркиз, выпив полстакана коньяку и вдруг перейдя на "ты", впрямую сказал, что Ляпины стихи вызывают у него омерзение: "Что ж ты, Ляпа, все врешь и врешь? Какая там комсомольская юность? Ведь ты же сидел по хулиганке – вот и писал бы о романтике пивных забегаловок. Патриот..." В конце концов они едва приветствовали друг друга издалека. И когда Ляпа, похоронив жену, ушел в глубокий запой, продал за гроши квартиру (да и с грошами-то этими его кинули) и, как сам он, выпив, любил объяснять, "исчез с литературного горизонта", Протасов, должно быть, его исчезновения просто не заметил...
Ляпа позвонил в "Семейные новости", через секретаршу добрался до Протасова, и тот, не выразив особой радости, холодно, но по-деловому, словно они заранее договаривались о звонке, назначил свидание – через час в редакции: через полтора он уезжал в командировку. "Хрен с ним, – подумал Ляпа, – пусть катится". Не пойдет же он туда в своих вонючих вшивых обносках. Да его и не пустят. Но к редакционному подъезду все же зачем-то прибрел и, увидев выходящего Протасова, сделал было движение навстречу, но тот, глядя в лицо невидящим взглядом, быстро прошел мимо, сел в машину и уехал – не узнал...
Не Маркиз ему помог, а Глина, Ян Арвидович Пуго, президент инвестиционной компании "Дети солнца", чье красочное фото за большим столом в роскошном (не хуже, чем у президента России) кабинете Ляпа как-то случайно увидел на обложке глянцевого журнала, извлеченного из помойки вместе с двумя пустыми бутылками. В журнале была и статья о выдающемся предпринимателе: "Лидер по призванию". О лагерном прошлом – лишь вскользь, да и то с пиететом: мол, в те времена многие достойные люди были несправедливо осуждены и впоследствии реабилитированы... Неделю Ляпа дозванивался и все-таки дозвонился, правда, не до самого, а до референта. Подробно представился: поэт, член Союза писателей, давний товарищ Яна Арвидовича – о том, что они вместе отбывали срок в лагере, он на всякий случай говорить не стал. Референт сухо попросил позвонить через неделю. Через неделю, уже с совершенно другими, мягкими, дружелюбными интонациями, обратившись к Ляпе на "ты" и назвав "братком", референт попросил записать, а лучше – запомнить номер телефона: Ляпа должен был позвонить и сказать, что он от Глины, именно от Глины. "Да, кстати, – спросил вдруг референт, – а ты, браток, Маркиза давно видел?" "Нет, лет десять не видел", – соврал Ляпа. "Ну и лады, позвони по этому номеру, там помогут", – сказал референт, откуда-то уже знавший или догадавшийся, что нужна именно помощь.
В результате нескольких беглых встреч с молчаливыми людьми, которые охотнее объяснялись знаками, чем словами, и чьи лица совершенно невозможно было запомнить, Ляпа вдруг, как в восточной сказке, получил ключи от тяжелой бронированной двери в необъятную – во весь этаж размером – пустую квартиру в Кривоконюшенном переулке, в доме, где почти все жильцы были выселены. "Повезло тебе, бомж, – каким-то странным, не то каркающим, не то крякающим голосом сказал очередной безликий тип, передавая ключи. – Но будь осторожен: это квартира Глины. Никаких посторонних. И еще совет: поменяй обначку. От тебя трупом несет". Ляпа промолчал.
Как ему повезло, он и сам знал. Понимал, что меняется образ жизни, а значит, нужно и помыться, и найти какую-то более-менее приличную одежду. Но вот в чем он должен быть осторожен, так и не понял: пусть бы эта квартира и принадлежала Глине, но жить-то здесь давно уже никто не жил. Если вообще кто-нибудь когда-нибудь жил после того, как две или три коммунальные квартиры были соединены и перестроены в одну, огромную. Здесь был просторный зал, в котором хоть дворянские балы устраивай. Раздвижная витражная перегородка отделяла его от комнаты несколько меньшей, площадью метров пятьдесят, видимо, предназначенной быть столовой. У дальней стены ее голубым сиянием светилась большая изразцовая печь. Было здесь и пять-шесть других комнат, две ванные в разных концах квартиры, ну и, понятно, просторная кухня, посреди которой располагалась необъятная электрическая плита, какие бывают в кухнях больших ресторанов. Ляпа решил, что на кухне он и будет жить: если врубить плиту на полную мощность, в любой мороз будет жарко. Сюда он и приволок из зала, вернее, не без усилий передвинул, царапая лакированный пол, низкое и глубокое кожаное кресло – единственную мебель во всей квартире.
Помощь Глины, конечно, не была благотворительной – на это он и не рассчитывал. Раз в неделю, а когда раз в десять дней глухонемые курьеры (вот откуда крякающий голос!) доставляли ему товар для реализации. В основном траву, но иногда и "геру", и даже экзотический кокаин. Словом, он стал барыгой, это произошло как-то само собой, без специального его намерения, даже без его согласия, которого, впрочем, никто и не спрашивал. Просто в первый же день, через полчаса после того как он большим сейфовым ключом впервые открыл дверь квартиры, раздался телефонный звонок. Он не сразу понял, где это звенит, но телефон звонил долго, настойчиво, и Ляпа в конце концов нашел его в дальней пустой комнате. Знакомый скрипучий голос сообщил, что сейчас доставят "партию" и что через неделю приедут за деньгами. "И не вздумай бодяжить – клизму поставим. У нас бизнес без понта", – и гудки, Ляпа даже рта не раскрыл.
Он, конечно, первым делом вмазался сам – даже удовольствие полежать в горячей ванне отложил на потом, – хорошо вмазался, чистейшим порошком, какого прежде никогда не видывал, и в ожидании прихода утопая в мягком кресле, с удовольствием подумал, что теперь ему не надо будет в мороз бегать по городу в поисках, чем бы погасить гнетущий кумар. Он даже не стал прятать свой "баян", замечательный старинный стеклянный пятиграммовый шприц, найденный позапрошлым летом на загородной свалке недалеко от правительственного санатория в Барвихе, – шприц как из магазина, с двумя иглами, прямо в железной ванночке с крышечкой. Произведение искусства, теперь таких не выпускают, всюду одноразовая пластмасса. Эту свою драгоценность Ляпа обычно старался никому не показывать, чтобы не отняли, но тут никого не было, он был единственным хозяином всего окружающего пространства, и коробочку со шприцем можно было открыто оставить на подоконнике.
Он начал было свой бизнес навынос, таскал товар по прежним знакомцам в районе Сокольников или у Преображенского рынка. На первые же деньги в магазине сэконд-хэнд на Преображенке купил какую-то скромную серую одежонку, чтобы менты с первого взгляда не угадывали в нем бомжа "на мелководье". Но счастье не бывает частичным, если уж повезет, то везти будет во всем: вскоре он познакомился с компанией студентов-актеров, живших на первом этаже в этом же доме. Его, нищего дервиша-поэта, бывшего зэка, студенты приняли как родного. Здесь был своего рода студенческий клуб, всегда полно гостей, и если и не весь товар, то значительную часть – по крайней мере всю траву удавалось пристроить тут же, не выходя из дома...
Телка
У Горького Лука – единственный посторонний, странник, явившийся со стороны. Единственный отстраненный. Все остальные персонажи – здешние, оседлые, им некуда деваться, они всегда здесь пребывали и впредь останутся здесь же, они принадлежат ночлежке. Этот мусор сметен в ком и заткнут в грязную дыру. Люди еще шевелятся, иногда даже произносят слова, но изменить что-либо в своей жизни не способны... И только Лука живет свободно, по своей воле: пришел, повесил всем лапшу на уши, исчез. Кто он? Самозваный пророк, агрессивный проповедник? Лукавый проныра, который байками и лживыми утешениями отгораживается от опасности, исходящей от ночлежников (и от жизни вообще)?
Нет, у Магорецкого Лука не посторонний. Мастер отдал эту роль Телке и предложил ей здесь, в притоне, среди заширянных, вмазанных, обдолбанных до состояния животного, утративших человеческий облик, потерявших дар членораздельной речи, – обращаясь к ним, не проповедовать и обнадеживать (стыдно проповедовать, подло обнадеживать), но спрашивать и стараться понять. Понять – и сочувствовать. Да нет, не со-чувствовать, а взять это на себя – чувствовать и понимать – вместо тех, кто такую способность утратил. Принять на себя их грех. Быть их совестью. Держать за них ответ перед Господом. Просить о прощении. И Телка, обращаясь к Сатину, не утверждает: "Легко ты жизнь переносишь!" – а спрашивает: "Легко ты жизнь переносишь?" и так спрашивает, как спросил бы Распятый на кресте, сам испытывающий в этот момент нестерпимую боль и готовый если не сказать, то подумать: "Непереносима эта жизнь, эта боль. Почто оставил меня, Отче?"
Магорецкий был доволен, Телка работала хорошо...
Слух, что Телка Бузони классно играет Луку, пошел по институту, и любопытные старались пробраться на репетицию. Если приходили двое-трое и сидели тихо, Магорецкий не возражал: пусть смотрят, слушают. Так и Анастасия Максовна, Телкина квартирная хозяйка, побывала на репетиции – и была потрясена.
Репетировали в зале. До декораций, костюмов, грима было еще далеко, но суть происходящего была вполне понятна из реплик и мизансцен. Магорецкий как раз прогонял тот кусок, где у Телки монолог о праведной земле: "Сейчас ученый книги раскрыл, планы разложил... глядел-глядел – нет нигде праведной земли!" Господи, да какой там еще ученый! – это она, Телка, заглянула в книгу жизни – своей жизни и других обитателей притона, – и нет им праведной земли, нет вообще никакой надежды. Люди, которых она любит, рядом с которыми жила всегда, за которых всегда держалась, с которыми мечтала никогда не расставаться, теперь оставляют ее одну – у нее на глазах уходят, погружаются в темное небытие. Они еще подают признаки жизни, еще звучат какие-то слова, но контуры человеческого образа уже размыты и продолжают размываться день за днем. На месте души, воли, личности – зияющая пустота, все каким-то образом растворилось, вымылось прочь, ушло в канализацию. От людей остались одни только пустые и гниющие телесные оболочки, впрочем, тоже готовые в любой миг развалиться, разложиться, исчезнуть. И ведь никак не поможешь, уже не схватишься ни за что, ничем не удержишь. Ну разве что замутить вместе с ними – найти денег (продать что-нибудь с себя или саму себя), купить им большой дури – героина. Или винта. Или, на худой конец, каких-нибудь колес, таблеток. Утешить их тем, что прошлого уже нет – и нет никакой надежды на будущее, а поэтому – вперед, бездна распахнута! И тогда, прежде чем переступить последний порог, они вдруг оживут на время, даже оживятся, появится какая-то имитация чувств и разума, они будут много говорить и много двигаться, может быть, даже читать стихи, или играть на гитаре или рояле, или совокупляться – прямо на полу, безразлично, кто где и кто с кем, все всюду и все со всеми. Или вдруг начнут красиво рассуждать о том, что человек – это звучит гордо. Сатин, Барон, Бубнов, Актер, их случайные подруги. В течение какого-то времени все будут делать вид, что бурно веселятся, живут. Как механические куклы, пока не кончится завод. Но вот завод кончился, и все остановилось, замерло. Ступор... Или конец? Всё? "А после того пойти домой – и удавиться?"
Магорецкий ничего не сказал, когда Телка отыграла свой кусок. Только один раз, как бы подытоживая, ударил деревянным молотком по столу – и это значило, что он доволен, замечаний нет, можно двигаться дальше.
Анастасию Максовну больше всего поразило, что Нателла на сцене была некрасива, даже уродлива в своем горе. И реакции ее были быстры, энергичны никакой обычной заторможенности. "Это актриса!" – прошептала Настя сидевшей рядом и кутавшейся в черную шаль ближайшей подруге, многие годы работавшей в институте секретаршей ректора, а теперь еще занявшей и должность секретаря антропософского общества. "Ну вот, а ты все ищешь медиума, – сказала подруга мужским прокуренным голосом. – Вот тебе медиум. Она и на сцене уже в трансе". Настя с сожалением покачала головой: нет, нет, она знает, из этого ничего не получится.
Телка держалась в стороне от Настиных антропософских увлечений. Читать Блаватскую и Сведенборга не хотела. "Вы, Настенька Максовна, умная, а мне эта премудрость недоступна", – говорила она, со смехом обнимая хозяйку за плечи. И на еженедельные собрания никогда не оставалась, исчезала из дома, ссылалась на неотложные дела: репетиции, сеанс в Доме моделей, день рождения у подруги, свидание с Протасовым (к которому, кстати, Настя относилась с большим уважением: приятный, интеллигентный, солидный человек, один из лидеров демократов; она всегда покупала его газету и читала его статьи и, встречая автора у себя в коридоре, не прочь была поговорить, а может быть, и поспорить по поводу прочитанного, но тот к дискуссиям не был расположен, отвечал односложно, тут же обращался с чем-нибудь к Нателлочке, и они или закрывались у девочки в комнате, или, извинившись, торопились уйти).
Протасов
Говорил ли Глина с человеком очно или по телефону, он всегда стремился подавить собеседника, навязать ему свою волю. И Протасов спорить с ним не умел, уступал, соглашался. И всегда оставался недоволен собой.
Вот и теперь по телефону Глина говорил так, словно культурный центр дело решенное. Но сегодня, промолчав, Протасов был доволен собой. О чем говорить-то? Говорить больше не о чем. Теперь они с Глиной конкуренты. В конкурентной же борьбе инициатива, темп решают всё. Перехватив, а по сути, украв у Протасова идею арбатского строительства и наполнив ее иным содержанием, Глина решительно взял инициативу в свои руки. Но его, Протасова, как бычка на веревочке не поведешь. Недаром в издательском бизнесе он считался одним из самых крутых и дерзких предпринимателей. "Иногда кажется, что ты мягкий, весь из ваты, – сказала ему как-то жена, но в вату завернут утюг". Она-то говорила это с обидой, но он хорошо понимал, что без жесткости, без упорства, без способности идти до конца никакого дела не сделаешь.
"Этот твой Глина слишком высоко тянется и сумел уже многим встать поперек горла", – сказал вчера Боря Крутов, друг еще с университетских времен. Протасов "вызвонил" его пообедать и в подробностях рассказал о своем арбатском проекте. Боря – умница, всегда и всюду отличник, сделал стремительную карьеру в МИДе, самым молодым в новейшей истории получил ранг чрезвычайного и полномочного посла, побывал российским представителем в ооновских структурах, месяцев пять назад был вызван в Москву и назначен заместителем руководителя Администрации президента. Одним из заместителей.
"Оглянись вокруг, видишь, сколько в этом ресторане знакомых лиц? свободно и весело говорил Боря Крутов; он был в хорошем настроении и явно получал удовольствие от того, что новое положение дает ему возможность разговаривать с давним товарищем чуть свысока. – Из них раз, два, три... трое, как минимум, работают на твоего лагерного кореша. Или, как теперь у вас говорят, – дружбана? Понимаешь, в чем беда таких, как Пуго: у них совсем нет политического чутья (тут Крутов поднес к своему носу сложенные щепотью пальцы и понюхал их). Добиваясь определенного успеха и положения, что в нашей неразберихе, в общем-то, не так уж и трудно, они зарываются и совершенно теряют ориентиры. Им хочется получить все, что видит глаз, и они полагают, что могут. Но, как известно, жадность фраера погубит. Мне нравится, как американцы учат этих наших бандитов: Тайванчик, Япончик и всякая другая колоритная экзотика отлично смотрятся в американских тюрьмах. Но здесь они покупают себе право сидеть не в тюрьме, а в Думе. Или в губернаторском кресле. Покупают. Но теперь – всё, отошла коту масленица. Президент всерьез озабочен тем, что криминалитет идет во власть, и у Администрации есть соответствующие поручения. И в этой связи скажу, что у тебя есть хорошие шансы отстоять свое дело. Ян Арвидович Пуго... Кстати, что за дикое сочетание имени-отчества и фамилии?" "Он детдомовский", – негромко ответил Протасов, думая, что в России о делах такого рода все-таки надо бы говорить потише – особенно в публичном месте.
Произошла смена блюд, и Крутов принялся рассказывать (так же громко, свободно, с теми же радостными интонациями) о том, как по правилам высокой гастрономии следует готовить и сервировать омара, какие вилочки и специальные крючочки используются для извлечения мяса из клешни. "В твоей гостинице обязательно должна быть лучшая в Москве кухня. Мы об этом позаботимся". Они сидели в ресторане "Сергей", что рядом со МХАТом в Камергерском, недалеко от Думы, и одновременно с ними здесь обедали пять или шесть депутатов, лица которых постоянно мелькали на телеэкранах: комитет по безопасности, комитет по делам СНГ, комитет по культуре, еще комитеты и комиссии... "Ты вот что, этот твой арбатский проект изложи вкратце, укажи на все возникшие препятствия, – уже негромко сказал Крутов, когда на улице они прощались возле служебной машины, дверца которой была распахнута охранником. – Я сейчас подумал, что управделами президента может быть заинтересован в такой гостинице. Напиши бумагу на его имя и подай мне, а я приделаю ей ноги. А что же твоя газета молчит? У тебя что, ничего нет на этого парня?" "Будем, будем искать", – кивнул Протасов.
Еще несколько дней назад он дал поручение службе досье посмотреть и доложить, что нового появилось на Пуго за последний год. И теперь, сразу после того, как Глина позвонил и сказал, что вот перед ним сидит Магорецкий, Протасов соединился с редакцией и попросил сделать ему доклад после планерки. "И еще, подготовьте, пожалуйста, все, что найдете на театрального режиссера Магорецкого Сергея Вениаминовича". С этим человеком Протасов хотел познакомиться поближе не только и даже не столько потому, что Глина только что назвал его имя, но потому, что имени этого он почти не слышал от Телки, хотя в ее жизни мастер курса вроде бы должен занимать значительное место. Вообще-то она, демонстрируя тонкую наблюдательность и добрый юмор, охотно рассказывала о нелегкой жизни и пестрых судьбах своих сокурсников, о квартирной хозяйке с ее идеей найти клад и осчастливить всех вокруг; о вечной Младой Гречанке, таинственной институтской секретарше, у которой, как говорят, странное хобби: дома по вечерам она шьет постельное белье и потом раздаривает всем вокруг – своим подругам, преподавателям в институте, даже понравившимся студентам; и, наконец, о собственной мамочке, которая когда-то, совсем еще девчонкой, полюбила всерьез и на всю жизнь румына, Телкиного отца, и, давно расставшись с ним, год за годом мечется по миру, хватая мужиков, сравнивая и отбрасывая в сторону негодный человеческий материал... Но в этом длинном ряду предъявленных (а иногда и сыгранных) Телкой типов и характеров не было Магорецкого. И, когда Протасов просил рассказать о режиссере, о репетициях, она как-то смущалась, отвечала неохотно и односложно или вообще старалась уйти в сторону. Это было тем более странно, что вчера вечером во время выпивки ее сокурсники чуть ли не каждую минуту наперебой вспоминали мастера: так много он значил в их жизни.