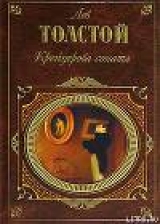
Текст книги "Крейцерова соната (Сборник)"
Автор книги: Лев Толстой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 41 страниц)
Алеша Горшок
Алешка был меньшой брат. Прозвали его Горшком за то, что мать послала его снести горшок молока дьяконице, а он споткнулся и разбил горшок. Мать побила его, а ребята стали дразнить его «Горшком». Алешка Горшок – так и пошло ему прозвище.
Алешка был малый худощавый, лопоухий (уши торчали, как крылья), и нос был большой. Ребята дразнили: «У Алешки нос, как кобель на бугре». В деревне была школа, но грамота не далась Алеше, да и некогда было учиться. Старший брат жил у купца в городе, и Алешка сызмальства стал помогать отцу. Ему было шесть лет, уж он с девчонкой-сестрой овец и корову стерег на выгоне, а еще подрос, стал лошадей стеречь и в денном и в ночном. С двенадцати лет уж он пахал и возил. Силы не было, а ухватка была. Всегда он был весел. Ребята смеялись над ним; он молчал либо смеялся. Если отец ругал, он молчал и слушал. И как только переставали его ругать, он улыбался и брался за то дело, которое было перед ним.
Алеше было девятнадцать лет, когда брата его взяли в солдаты. И отец поставил Алешу на место брата к купцу в дворники. Алеше дали сапоги братнины старые, шапку отцовскую и поддевку и повезли в город. Алеша не мог нарадоваться на свою одежду, но купец остался недоволен видом Алеши.
– Я думал, и точно человека заместо Семена поставишь, – сказал купец, оглянув Алешу. – А ты мне какого сопляка привел. На что он годится?
– Он все может – и запрячь, и съездить куда, и работать лютой; он только на вид как плетень. А то он жилист.
– Ну уж, видно, погляжу.
– А пуще всего – безответный. Работать завистливый.
– Что с тобой делать. Оставь.
И Алеша стал жить у купца.
Семья у купца была небольшая: хозяйка, старуха мать, старший сын женатый, простого воспитания, с отцом в деле был, и другой сын – ученый, кончил в гимназии и был в университете, да оттуда выгнали, и он жил дома, да еще дочь – девушка гимназистка.
Сначала Алешка не понравился – очень уж он был мужиковат, и одет плохо, и обхожденья не было, всем говорил «ты», но скоро привыкли к нему. Служил он еще лучше брата. Точно был безответный, на все дела его посылали, и все он делал охотно и скоро, без останова переходя от одного дела к другому. И как дома, так и у купца на Алешу наваливались все работы. Чем больше он делал, тем больше все на него наваливали дела. Хозяйка, и хозяйская мать, и хозяйская дочь, и хозяйский сын, и приказчик, и кухарка, все то туда, то сюда посылали его, то то, то это заставляли делать. Только и слышно было «Сбегай, брат», или: «Алеша, ты это устрой. – Ты что ж это, Алешка, забыл, что ль? – Смотри, не забудь, Алеша». И Алеша бегал, устраивал, и смотрел, и не забывал, и все успевал, и все улыбался.
Сапоги братнины он скоро разбил, и хозяин разбранил его за то, что он ходил с махрами на сапогах и голыми пальцами, и велел купить ему новые сапоги на базаре. Сапоги были новые, и Алеша радовался на них, но ноги у него были все старые, и они к вечеру ныли у него от беготни, и он сердился на них. Алеша боялся, как бы отец, когда приедет за него получить деньги, не обиделся бы за то, что купец за сапоги вычтет из жалованья.
Вставал Алеша зимой до света, колол дров, потом выметал двор, задавал корм корове, лошади, поил их. Потом топил печи, чистил сапоги, одежу хозяевам, ставил самовары, чистил их, потом либо приказчик звал его вытаскивать товар, либо кухарка приказывала ему месить тесто, чистить кастрюли. Потом посылали его в город, то с запиской, то за хозяйской дочерью в гимназию, то за деревянным маслом для старушки. «Где ты пропадаешь, проклятый», – говорил ему то тот, то другой. «Что вам самим ходить – Алеша сбегает. Алешка! А Алешка!» И Алеша бегал.
Завтракал он на ходу, а обедать редко поспевал со всеми. Кухарка ругала его за то, что он не со всеми ходит, но все-таки жалела его и оставляла ему горячего и к обеду и к ужину. Особенно много работы бывало к праздникам и во время праздников. И Алеша радовался праздникам особенно потому, что на праздники ему давали на чай хоть и мало, собиралось копеек шестьдесят, но все-таки это были его деньги. Он мог истратить их, как хотел. Жалованья же своего он и в глаза не видал. Отец приезжал, брал у купца и только выговаривал Алешке, что он сапоги скоро растрепал.
Когда он собрал два рубля этих денег «начайных», то купил, по совету кухарки, красную вязаную куртку, и когда надел, то не мог уж свести губ от удовольствия.
Говорил Алеша мало, и когда говорил, то всегда отрывисто и коротко. И когда ему что приказывали сделать или спрашивали, может ли он сделать то и то, то он всегда без малейшего колебания говорил: «Это все можно», – и сейчас же бросался делать и делал.
Молитв он никаких не знал; как его мать учила, он забыл, а все-таки молился и утром и вечером – молился руками, крестясь.
Так прожил Алеша полтора года, и тут, во второй половине второго года, случилось с ним самое необыкновенное в его жизни событие. Событие это состояло в том, что он, к удивлению своему, узнал, что, кроме тех отношений между людьми, которые происходят от нужды друг в друге, есть еще отношения совсем особенные: не то чтобы нужно было человеку вычистить сапоги, или снести покупку, или запрячь лошадь, а то, что человек так, ни зачем нужен другому человеку, нужно ему послужить, его приласкать, и что он, Алеша, тот самый человек. Узнал он через кухарку Устинью. Устюша была сирота, молодая, такая же работящая, как и Алеша. Она стала жалеть Алешу, и Алеша в первый раз почувствовал, что он, сам он, не его услуги, а он сам нужен другому человеку. Когда мать жалела его, он не замечал этого, ему казалось, что это так и должно быть, что это все равно, как он сам себя жалеет. Но тут вдруг он увидал, что Устинья совсем чужая, а жалеет его, оставляет ему в горшке каши с маслом и, когда он ест, подпершись подбородком на засученную руку, смотрит на него. И он взглянет на нее, и она засмеется, и он засмеется.
Это было так ново и странно, что сначала испугало Алешу. Он почувствовал, что это помешает ему служить, как он служил. Но все-таки он был рад и, когда смотрел свои штаны, заштопанные Устиньей, покачивал головой и улыбался. Часто за работой или на ходу он вспоминал Устинью и говорил: «Ай да Устинья!» Устинья помогала ему, где могла, и он помогал ей. Она рассказала ему свою судьбу, как она осиротела, как ее тетка взяла, как отдали в город, как купеческий сын ее на глупость подговаривал и как она его осадила. Она любила говорить, а ему приятно было ее слушать. Он слыхал, что в городах часто бывает: какие мужики в работниках – женятся на кухарках. И один раз она спросила его, скоро ли его женят. Он сказал, что не знает и что ему неохота в деревне брать.
– Что ж, кого приглядел? – сказала она.
– Да я бы тебя взял. Пойдешь, что ли?
– Вишь, горшок, горшок, а как изловчился сказать, – сказала она, ударив его ручником по спине. – Отчего же не пойти?
На Масленице старик приехал в город за деньгами. Купцова жена узнала, что Алексей задумал жениться на Устинье, и ей не понравилось это. «Забеременеет, с ребенком куда она годится». Она сказала мужу.
Хозяин отдал деньги Алексееву отцу.
– Что ж, хорошо живет мой-то? – сказал мужик. – Я говорил – безответный.
– Безответный-то безответный, да глупости задумал. Жениться вздумал на кухарке. А я женатых держать не стану. Нам это не подходяще.
– Дурак, дурак, а что вздумал, – сказал отец. – Ты не думай. Я прикажу ему, чтоб он это бросил.
Придя в кухню, отец сел, дожидаясь сына, за стол. Алеша бегал по делам и, запыхавшись, вернулся.
– Я думал, ты путный. А ты что задумал? – сказал отец.
– Да я ничего.
– Как ничего. Жениться захотел. Я женю, когда время подойдет, и женю на ком надо, а не на шлюхе городской.
Отец много говорил. Алеша стоял и вздыхал. Когда отец кончил, Алеша улыбнулся.
– Что ж, это и оставить можно.
– То-то.
Когда отец ушел и он остался один с Устиньей, он сказал ей (она стояла за дверью и слушала, когда отец говорил с сыном):
– Дело наше не того, не вышло. Слышала? Рассерчал, не велит.
Она заплакала молча в фартук.
Алеша щелкнул языком.
– Как не послушаешь-то. Видно, бросать надо.
Вечером, когда купчиха позвала его закрыть ставни, она сказала ему:
– Что ж, послушал отца, бросил глупости свои?
– Видно, что бросил, – сказала Алеша, засмеялся и тут же заплакал.
С тех пор Алеша не говорил больше с Устиньей об женитьбе и жил по-старому.
Потом приказчик послал его счищать снег с крыши. Он полез на крышу, счистил весь, стал отдирать примерзлый снег у желобов, ноги покатились, и он упал с лопатой. На беду упал он не в снег, а на крытый железом выход. Устинья подбежала к нему и хозяйская дочь.
– Ушибся, Алеша?
– Вот еще, ушибся. Ничево.
Он хотел встать, но не мог и стал улыбаться. Его снесли в дворницкую. Пришел фельдшер. Осмотрел его и спросил, где больно.
– Больно везде, да это ничево. Только что хозяин обидится. Надо батюшке послать слух.
Пролежал Алеша двое суток, на третьи послали за попом.
– Что же, али помирать будешь? – спросила Устинья.
– А то что ж? Разве все и жить будем? Когда-нибудь надо, – быстро, как всегда, проговорил Алеша. – Спасибо, Устюша, что жалела меня. Вот оно и лучше, что не велели жениться, а то бы ни к чему было. Теперь все по-хорошему.
Молился он с попом только руками и сердцем. А в сердце у него было то, что как здесь хорошо, коли слушаешь и не обижаешь, так и там хорошо будет.
Говорил он мало. Только просил пить и все чему-то удивлялся.
Удивился чему-то, потянулся и помер.
Корней Васильев
I
Корнею Васильеву было пятьдесят четыре года, когда он в последний раз приезжал в деревню. В густых курчавых волосах у него не было еще ни одного седого волоса, и только в черной бороде у скул пробивалась седина. Лицо у него было гладкое, румяное, загривок широкий и крепкий, и все сильное тело обложилось жиром от сытой городской жизни.
Он двадцать лет тому назад отбыл военную службу и вернулся со службы с деньгами. Сначала он завел лавку, потом оставил лавку и стал торговать скотиной. Ездил в Черкасы за «товаром» (скотиной) и пригонял в Москву.
В селе Гаях, в его каменном, крытом железом, доме жила старуха мать, жена с двумя детьми (девочка и мальчик), еще сирота племянник, немой пятнадцатилетний малый, и работник. Корней был два раза женат. Первая жена его была слабая, больная женщина и умерла без детей, и он, уже немолодым вдовцом, женился второй раз на здоровой, красивой девушке, дочери бедной вдовы из соседней деревни. Дети были от второй жены.
Корней так выгодно продал последний «товар» в Москве, что у него собралось около трех тысяч денег. Узнав от земляка, что недалеко от его села выгодно продается у разорившегося помещика роща, он вздумал заняться еще и лесом. Он знал это дело и еще до службы жил помощником приказчика у купца в роще.
На железнодорожной станции, с которой сворачивали в Гаи, Корней встретил земляка, гаевского кривого Кузьму.
Кузьма к каждому поезду выезжал из Гаев за седоками на своей парочке плохоньких косматых лошаденок. Кузьма был беден и оттого не любил всех богатых, а особенно богача Корнея, которого он знал Корнюшкой.
Корней, в полушубке и тулупе, с чемоданчиком в руке, вышел на крыльцо станции и, выпятив брюхо, остановился, отдуваясь и оглядываясь. Было утро. Погода была тихая, пасмурная, с легким морозцем.
– Что ж, не нашел седоков, дядя Кузьма? – сказал он. – Свезешь, что ли?
– Что ж, давай рублевку. Свезу.
– Ну и семь гривен довольно.
– Брюхо наел, а тридцать копеек у бедного человека оттянуть хочешь.
– Ну, ладно, давай, что ль, – сказал Корней. И, уложив в маленькие санки чемодан и узел, он широко уселся на заднем месте.
Кузьма остался на козлах.
– Ладно. Трогай.
Выехали из ухабов у станции на гладкую дорожку.
– Ну, а что, как у вас, не у нас, а у вас на деревне? – спросил Корней.
– Да хорошего мало.
– А что так? Моя старуха жива?
– Старуха-то жива. Надысь в церкви была. Старуха твоя жива. Жива и молодая хозяйка твоя. Что ей делается. Работника нового взяла.
И Кузьма засмеялся как-то чудно, как показалось Корнею.
– Какого работника? А Петра что?
– Петра заболел. Взяла Евстигнея Белого из Каменки, – сказал Кузьма, – из своей деревни, значит.
– Вот как? – сказал Корней.
Еще когда Корней сватал Марфу, в народе что-то бабы болтали про Евстигнея.
– Так-то, Корней Васильич, – сказал Кузьма. – Очень уж бабы нынче волю забрали.
– Что и говорить! – промолвил Корней. – А стара твоя сивая стала, – прибавил он, желая прекратить разговор.
– Я и сам не молод. По хозяину, – проговорил Кузьма в ответ на слова Корнея, постегивая косматого, кривоногого мерина.
На полдороге был постоялый двор. Корней велел остановить и вошел в дом. Кузьма приворотил лошадь к пустому корыту и оправлял шлею, не глядя на Корнея и ожидая, что он позовет его.
– Заходи, что ль, дядя Кузьма, – сказал Корней, выходя на крыльцо, – выпьешь стаканчик.
– Ну что ж, – отвечал Кузьма, делая вид, что не торопится.
Корней потребовал бутылку водки и поднес Кузьме. Кузьма, не евши с утра, тотчас же захмелел. И как только захмелел, стал шепотом, пригибаясь к Корнею, рассказывать ему, что говорили в деревне. А говорили, что Марфа, его жена, взяла в работники своего прежнего полюбовника и живет с ним.
– Мне что ж. Мне тебя жалко, – говорил пьяный Кузьма. – Только нехорошо, народ смеется. Видно, греха не боится. Ну, да погоди же ты, говорю. Дай срок, сам приедет. Так-то, брат, Корней Васильич.
Корней молча слушал то, что говорил Кузьма, и густые брови все ниже и ниже спускались над блестящими черными, как уголь, глазами.
– Что ж, поить будешь? – сказал он только, когда бутылка была выпита. – А нет, так и едем.
Он расплатился с хозяином и вышел на улицу.
Домой он приехал сумерками. Первый встретил его тот самый Евстигней Белый, про которого он не мог не думать всю дорогу. Корней поздоровался с ним. Увидав худощавое белобрысое лицо заторопившегося Евстигнея, Корней только недоуменно покачал головой. «Наврал, старый пес, – подумал он на слова Кузьмы. – А кто их знает. Да уж я дознаюсь».
Кузьма стоял у лошади и подмигивал своим одним глазом на Евстигнея.
– У нас, значит, живешь? – спросил Корней.
– Что ж, надо где-нибудь работать, – отвечал Евстигней.
– Топлена горница-то?
– А то как же? Матвеевна тама, – отвечал Евстигней.
Корней поднялся на крыльцо. Марфа, услыхав голоса, вышла в сени и, увидав мужа, вспыхнула и торопливо и особенно ласково поздоровалась с ним.
– А мы с матушкой уж и ждать перестали, – сказала она и вслед за Корнеем вошла в горницу.
– Ну что, как живете без меня?
– Живем все по-старому, – сказала она и, подхватив на руки двухлетнюю дочку, которая тянула ее за юбку и просила молока, большими решительными шагами вошла в сени.
Корнеева мать с такими же черными глазами, как у Корнея, с трудом волоча ноги в валенках, вошла в горницу.
– Спасибо, проведать приехал, – сказала она, покачивая трясущейся головой.
Корней рассказал матери, по какому делу заехал, и, вспомнив про Кузьму, пошел вынести ему деньги. Только он отворил дверь в сени, как прямо перед собой он увидал у двери на двор Марфу и Евстигнея. Они близко стояли друг от друга, и она говорила что-то. Увидав Корнея, Евстигней шмыгнул во двор, а Марфа подошла к самовару, поправляя гудевшую над ним трубу.
Корней молча прошел мимо ее согнутой спины и, взяв узел, позвал Кузьму пить чай в большую избу. Перед чаем Корней роздал московские гостинцы домашним: матери шерстяной платок, Федьке книжку с картинками, немому племяннику жилетку и жене ситец на платье.
За чаем Корней сидел насупившись и молчал. Только изредка неохотно улыбался, глядя на немого, который забавлял всех своей радостью. Он не мог нарадоваться на жилетку. Он укладывал и развертывал ее, надевал ее и целовал свою руку, глядя на Корнея, и улыбался.
После чая и ужина Корней тотчас же ушел в горницу, где спал с Марфой и маленькой дочкой. Марфа оставалась в большой избе убирать посуду. Корней сидел один у стола, облокотившись на руку, и ждал. Злоба на жену все больше и больше ворочалась в нем. Он достал со стены счеты, вынул из кармана записную книжку и, чтобы развлечь мысли, стал считать. Он считал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к голосам в большой избе.
Несколько раз он слышал, как отворялась дверь в избу и кто-то выходил в сени, но это все была не она. Наконец послышались ее шаги, дернулась дверь, отлипла, и она, румяная, красивая, в красном платке, вошла с девочкой на руках.
– Небось с дороги-то уморился, – сказала она, улыбаясь, как будто не замечая его угрюмого вида.
Корней глянул на нее и стал опять считать, хотя считать уже нечего было.
– Уж не рано, – сказала она и, спустив с рук девочку, прошла за перегородку.
Он слышал, что она убирала постель и укладывала спать дочку.
«Люди смеются, – вспомнил он слова Кузьмы. – Погоди же ты…» – подумал он, с трудом переводя дыхание, и медленным движением встал, положил обгрызок карандаша в жилетный карман, повесил счеты на гвоздь, снял пиджак и подошел к двери перегородки. Она стояла лицом к иконам и молилась. Он остановился, ожидая. Она долго крестилась, кланялась и шепотом говорила молитвы. Ему казалось, что она давно перечитала все молитвы и нарочно по нескольку раз повторяет их. Но вот она положила земной поклон, выпрямилась, прошептала в себя какие-то молитвенные слова и повернулась к нему лицом.
– А Агашка-то уж спит, – сказала она, указывая на девочку, и, улыбаясь, села на заскрипевшую кровать.
– Евстигней давно здесь? – сказал Корней, входя в дверь.
Она спокойным движением перекинула одну толстую косу через плечо на грудь и начала быстрыми пальцами расплетать ее. Она прямо смотрела на него, и глаза ее смеялись.
– Евстигней-то? А кто его знает, – недели две али три.
– Ты живешь с ним? – проговорил Корней.
Она выпустила из рук косу, но тотчас же поймала опять свои жесткие густые волосы и опять стала плести.
– Чего не выдумают. Живу с Евстигнеем? – сказала она, особенно звучно произнося слово «Евстигней». – Выдумают же! Тебе кто сказал?
– Говори: правда, нет ли? – сказал Корней и сжал в кулаки засунутые в карманы могучие руки.
– Будет болтать пустое. Снять сапоги-то?
– Я тебя спрашиваю, – повторил он.
– Ишь добро какое. На Евстигнея польстилась, – сказала она. – И кто только наврал тебе?
– Что ты с ним в сенях говорила?
– Что говорила. Говорила, на бочку обруч набить надо. Да ты что ко мне пристал?
– Я тебе велю: говори правду. Убью, сволочь поганая.
Он схватил ее за косу.
Она выдернула у него из руки косу, лицо ее скосилось от боли.
– Только на то тебя и взять, что драться. Что я от тебя хорошего видела? От такого житья не знаю, что сделаешь.
– Что сделаешь? – проговорил он, надвигаясь на нее.
– За что полкосы выдрал? Во, так шмотами и лезут. Что пристал. И правда, что…
Она не договорила. Он схватил ее за руку, сдернул с кровати и стал бить по голове, по бокам, по груди. Чем больше он бил, тем больше разгоралась в нем злоба. Она кричала, защищалась, хотела уйти, но он не пускал ее. Девочка проснулась и бросилась к матери.
– Мамка, – ревела она.
Корней ухватил девочку за руку, оторвал от матери и, как котенка, бросил в угол. Девочка визгнула, и несколько секунд ее не слышно было.
– Разбойник! Ребенка убил, – кричала Марфа и хотела подняться к дочери.
Но он опять схватил ее и так ударил в грудь, что она упала навзничь и тоже перестала кричать. Только девочка кричала отчаянно, не переводя духа.
Старуха, без платка, с растрепанными седыми волосами, с трясущейся головой, шатаясь, вошла в каморку и, не глядя ни на Корнея, ни на Марфу, подошла к внучке, заливавшейся отчаянными слезами, и подняла ее.
Корней стоял, тяжело дыша и оглядываясь, как будто спросонья, не понимая, где он и кто тут с ним.
Марфа подняла голову и, стоная, вытирала окровавленное лицо рубахой.
– Злодей постылый! – проговорила она. – И живу с Евстигнеем, и жила. На, убей до смерти. И Агашка не твоя дочь; с ним прижила, – быстро выговорила она и закрыла локтем лицо, ожидая удара.
Но Корней как будто ничего не понимал и только сопел и оглядывался.
– Ты глянь, что с девчонкой сделал: руку вышиб, – сказала старуха, показывая ему вывернутую висящую ручку не переставая заливавшейся криками девочки. Корней повернулся и молча вышел в сени и на крыльцо.
На дворе было все так же морозно и пасмурно. Снежинки инея падали ему на горевшие щеки и лоб. Он сел на приступки и ел горстями снег, собирая его на перилах. Из-за дверей слышно было, как стонала Марфа и жалостно плакала девочка; потом отворилась дверь в сени, и он слышал, как мать с девочкой вышла из горницы и прошла через сени в большую избу. Он встал и вошел в горницу. Завернутая лампа горела малым светом на столе. Из-за перегородки слышались усилившиеся, как только он вошел, стоны Марфы. Он молча оделся, достал из-под лавки чемодан, уложил в него свои вещи и завязал его веревкой.
– За что убил меня? За что? Что я тебе сделала? – заговорила Марфа жалостным голосом. Корней, не отвечая, поднял чемодан и понес к двери. – Каторжник. Разбойник! Погоди ж ты. Али на тебя суда нет? – совсем другим голосом злобно проговорила она.
Корней, не отвечая, толкнул дверь ногой и так сильно захлопнул ее, что задрожали стены.
Войдя в большую избу, Корней разбудил немого и велел ему запрягать лошадь. Немой, не сразу проснувшись, удивленно-вопросительно поглядывал на дядю и обеими руками расчесывал голову. Поняв наконец, что от него требовали, он вскочил, надел валенки, рваный полушубок, взял фонарь и пошел на двор.
Уже было совсем светло, когда Корней выехал с немым в маленьких пошевнях за ворота и поехал назад по той же дороге, по которой с вечера приехал с Кузьмою.
Он приехал на станцию за пять минут до отхода поезда. Немой видел, как он брал билет, как взял чемодан и как сел в вагон, кивнув ему головой, и как вагон укатился из вида.
У Марфы, кроме побоев на лице, были сломаны два ребра и разбита голова. Но сильная, здоровая молодая женщина справилась через полгода, так что не осталось никаких следов побоев. Девочка же навек осталась полукалекой. У нее были переломлены две кости руки, и рука осталась кривая.
Про Корнея же с тех пор, как он ушел, никто ничего не знал. Не знали, жив ли он, или умер.








