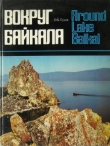Текст книги "Что такое искусство"
Автор книги: Лев Толстой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
XII
Производству в нашем обществе предметов поддельного искусства содействуют три условия. Условия эти: 1) значительное вознаграждение художников за их произведения и потому установившаяся профессиональность художника, 2) художественная критика и 3) художественные школы.
Пока искусство не раздвоилось, а ценилось и поощрялось одно искусство религиозное, безразличное же искусство не поощрялось, – до тех пор вовсе не было подделок под искусство; если же они были, то, будучи обсуживаемы всем народом, они тотчас же отпадали. Но как только совершилось это разделение и людьми богатых классов было признано хорошим всякое искусство, если только оно доставляет наслаждение, и это искусство, доставляющее наслаждение, стало вознаграждаться больше, чем какая-либо другая общественная деятельность, так тотчас же большое количество людей посвятило себя этой деятельности, и деятельность эта приняла совсем другой характер, чем она имела прежде, и стала профессией.
А как только искусство стало профессией, то значительно ослабилось и отчасти уничтожилось главное и драгоценнейшее свойство искусства – его искренность.
Профессиональный художник живет своим искусством, и поэтому ему надо не переставая выдумывать предметы своих произведений, и он выдумывает их. И понятно, какая разница должна быть между произведениями искусства, когда они творились людьми, подобными пророкам еврейским, сочинителям псалмов, Франциску Ассизскому, сочинителю Илиады и Одиссеи, всех народных сказок, легенд, песен, не только не получавшими никакого вознаграждения за свои произведения, но даже не связывавшими с ними своего имени, или когда искусство производилось сначала придворными поэтами, драматургами, музыкантами, получающими за это почет и вознаграждение, а потом присяжными художниками, живущими своим ремеслом и получающими вознаграждение от журналистов, издателей, импрессариев, вообще посредников между художниками и городскою публикой – потребителями искусства.
В этои профессиональности первое условие распространения поддельного, фальшивого искусства.
Второе условие – это возникшая в последнее время художественная критика, то есть оценка искусства не всеми, и главное, не простыми людьми, а учеными, то есть извращенными и вместе с тем самоуверенными людьми.
Один мой приятель, выражая отношение критиков к художникам, полушутя определил его так: критики – это глупые, рассуждающие об умных. Определение это как ни односторонне, неточно и грубо, все-таки заключает долю правды и несравненно справедливее того, по которому критики будто бы объясняют художественные произведения.
"Критики объясняют". Что же они объясняют?
Художник, если он настоящий художник, передал в своем произведении другим людям то чувство, которое он пережил; что же тут объяснять?
Если произведение хорошо, как искусство, то независимо от того, нравственно оно или безнравственно, – чувство, выражаемое художником, передается другим людям. Если оно передалось другим людям, то они испытывают его, и мало того, что испытывают, испытывают каждый по-своему, и все толкования излишни. Если же произведение не заражает людей, то никакие толкования не сделают того, чтобы оно стало заразительно. Толковать произведения художника нельзя. Если бы можно было словами растолковать то, что хотел сказать художник, он и сказал бы словами. А он сказал своим искусством, потому что другим способом нельзя было передать то чувство, которое он испытал. Толкование словами произведения искусства доказывает только то, что тот, кто толкует, не способен заражаться искусством. Так оно и есть, и как это ни кажется странным, критиками всегда были люди, менее других способные заражаться искусством. Большею частью это люди, бойко пишущие, образованные, умные, но с совершенно извращенною или с атрофированною способностью заражаться искусством. И потому эти люди всегда своими писаниями значительно содействовали и содействуют извращению вкуса той публики, которая читает их и верит им.
Критики художественной не было и не могло и не может быть в обществе, где искусство не раздвоилось и потому оценивается религиозным мировоззрением всего народа. Критика художественная возникла и могла возникнуть только в искусстве высших классов, не признающих религиозного сознания своего времени.
Искусство всенародное имеет определенный и несомненный внутренний критерий – религиозное сознание; искусство же высших классов не имеет его, и потому ценители этого искусства неизбежно должны держаться какого-либо внешнего критерия. И таким критерием является для них, как и высказал это английский эстетик, вкус the best nurtured men, наиболее образованных людей, то есть авторитет людей, считающихся образованными, и не только этот авторитет, но и предание авторитетов таких людей. Предание же это весьма ошибочно и потому, что суждения best nurtured men часто ошибочны, и потому, что суждения, когда-то бывшие справедливыми, со временем перестают быть таковыми. Критики же, не имея оснований для суждений, не переставая повторяют их. Считались когда-то древние трагики хорошими, и критика считает их таковыми. Считали Данта великим поэтом, Рафаэля – великим живописцем, Баха – великим музыкантом, и критики, не имея мерила, по которому они могли бы выделить хорошее искусство от плохого, не только считают этих художников великими, но и все произведения этих художников также считают великими и достойными подражания. Ничто не содействовало и не содействует в такой мере извращению искусства, как эти устанавливаемые критикой авторитеты. Молодой человек производит какое-нибудь художественное произведение, как и всякий художник, выражая в нем своим особенным способом пережитые им чувства, – большинство людей заражаются чувством художника, и произведение его становится известным. И вот критика, обсуждая художника, начинает говорить, что его произведение не дурно, а все-таки это не Дант, не Шекспир, не Гете, не Бетховен последнего периода, не Рафаэль. И молодой художник, слушая такие суждения, начинает подражать тем, кого ему ставят в образцы, и производит не только слабые, но поддельные, фальшивые произведения.
Так, например, наш Пушкин пишет свои мелкие стихотворения, "Евгения Онегина", "Цыган", свои повести, и это всё разного достоинства произведения, но всё произведения истинного искусства. Но вот он под влиянием ложной критики, восхваляющей Шекспира, пишет "Бориса Годунова", рассудочно-холодное произведение, и это произведение критики восхваляют и ставят в образец, и являются подражания подражаниям: "Минин" Островского, "Царь Борис" Толстого и др. Такие подражания подражаниям наполняют все литературы самыми ничтожными, ни на что не нужными произведениями. Главный вред критиков состоит в том, что, будучи людьми, лишенными способности заражаться искусством (а таковы все критики: если бы они не были лишены этой способности, они не могли бы браться за невозможное толкование художественных произведений), критики обращают преимущественное внимание и восхваляют рассудочные, выдуманные произведения, и их-то выставляют за образцы, достойные подражания. Вследствие этого они с такою уверенностью расхваливают греческих трагиков, Данта, Тасса, Мильтона, Шекспира, Гете (почти всего подряд); из новых – Зола, Ибсена, музыку последнего периода Бетховена, Вагнера. Для оправдания же своих восхвалений этих рассудочных, выдуманных произведений они придумывают целые теории (такова и знаменитая теория красоты), и не только тупые, талантливые люди прямо по этим теориям сочиняют свои произведения, но часто даже настоящие художники, насилуя себя, подчиняются этим теориям.
Всякое ложное произведение, восхваленное критиками, есть дверь, в которую тотчас же врываются лицемеры искусства.
Только благодаря критикам, восхваляющим в наше время грубые, дикие и часто бессмысленные для нас произведения древних греков: Софокла, Эврипида, Эсхила, в особенности Аристофана, или новых: Данта, Тасса, Мильтона, Шекспира; в живописи – всего Рафаэля, всего Микеланджело с его нелепым "Страшным судом"; в музыке – всего Баха и всего Бетховена с его последним периодом, стали возможны в наше время Ибсены, Метерлинки, Верлены, Малларме, Пювис де Шаваны, Клингеры, Бёклины, Штуки, Шнейдеры, в музыке – Вагнеры, Листы, Берлиозы, Брамсы, Рихарды Штраусы и т. п., и вся эта огромная масса ни на что не нужных подражателей этих подражателей.
Лучшей иллюстрацией вредного влияния критики может служить отношение ее к Бетховену. Среди часто по заказу, второпях писанных бесчисленных произведений его есть, несмотря на искусственность формы, и художественные произведения; но он становится глух, не может слышать и начинает писать уже совсем выдуманные, недоделанные и потому часто бессмысленные, непонятные в музыкальном смысле произведения. Я знаю, что музыканты могут довольно живо воображать звуки и почти слышать то, что они читают: но воображаемые звуки никогда не могут заменить реальных, и всякий композитор должен слышать свое произведение, чтобы быть в состоянии отделать его. Бетховен же не мог слышать, не мог отделывать и потому пускал в свет эти произведения, представляющие художественный бред. Критика же, раз признав его великим композитором, с особою радостью ухватывается именно за эти уродливые произведения, отыскивая в них необыкновенные красоты. Для оправдания же своих восхвалений, извращая самое понятие музыкального искусства, она приписывает музыкальному искусству свойство изображать то, чего оно не может изображать, и являются подражатели, бесчисленное множество подражателей, тех уродливых попыток художественных произведений, которые пишет глухой Бетховен.
И вот является Вагнер, который сначала в критических статьях восхваляет Бетховена, именно последнего периода, и приводит эту музыку в связь с мистической теорией Шопенгауэра, столь же нелепой, как и сама музыка Бетховена, – о том, что музыка есть выражение воли, – не отдельных проявлений воли на разных ступенях объективизации, а самой сущности ее, – а потом уже сам по этой теории пишет свою музыку в связи с еще более ложной системой соединения всех искусств. А за Вагнером являются уже еще новые, еще более удаляющиеся от искусства подражатели: Брамсы, Рихарды Штраусы и другие.
Таковы последствия критики. Но третье условие извращения искусства школы, обучающие искусствам, – едва ли не еще вреднее.
Как только искусство стало искусством не для всего народа, а для класса богатых людей, так оно стало профессией, а как только оно стало профессией, так выработались приемы, обучающие этой профессии, и люди, избравшие профессию искусства, стали обучаться этим приемам, и явились профессиональные школы: риторические классы или классы словесности в гимназиях, академии для живописи, консерватории для музыки, театральные училища для драматического искусства.
В школах этих обучают искусству. Но искусство есть передача другим людям особенного, испытанного художником чувства. Как же обучать этому в школах?
Никакая школа не может вызвать в человеке чувство и еще менее может научить человека тому, в чем состоит сущность искусства: проявлять чувство своим особенным, ему одному свойственным, способом.
Одно, чему может научить школа, это тому, чтобы передавать чувства, испытанные другими художниками, так, как их передавали другие художники. Этому самому и учат в школах искусства, и обучение это не только не содействует распространению истинного искусства, но, напротив, распространяя подделки под искусство, более всего другого лишает людей способности понимать истинное искусство.
В словесном искусстве людей обучают тому, чтобы они умели, не желая ничего сказать, написать во много страниц сочинение на тему, о которой они никогда не думали, и написать так, чтобы это было похоже на сочинение авторов, признанных знаменитыми. Этому учат в гимназиях.
В живописи главное обучение состоит в том, чтобы рисовать и писать с оригиналов и с натуры преимущественно голое тело, то самое, которое никогда не видно и почти никогда не приходится изображать человеку, занятому настоящим искусством, и рисовать и писать так, как рисовали и писали прежние мастера; сочинять же картины учат, задавая такие темы, подобные которым трактовались прежними признанными знаменитостями. Также и в драматических школах учеников обучают произносить монологи точно так, как их произносили считающиеся знаменитыми трагики. То же самое в музыке. Вся теория музыки есть не что иное, как бессвязное повторение тех приемов, которые для сочинения музыки употребляли признанные мастера композиции.
Я уже приводил где-то глубокое изречение русского живописца Брюллова об искусстве, но не могу не привести его еще раз, потому что оно лучше всего показывает, чему можно и чему нельзя учить в школах. Поправляя этюд ученика, Брюллов в нескольких местах чуть тронул его, и плохой, мертвый этюд вдруг ожил. "Вот, чуть-чуть тронули, и все изменилось", сказал один из учеников. "Искусство начинается там, где начинается чуть-чуть", сказал Брюллов, выразив этими словами самую характерную черту искусства. Замечание это верно для всех искусств, но справедливость его особенно заметна на исполнении музыки. Для того, чтобы музыкальное исполнение было художественно, было искусством, то есть производило заражение, нужно соблюдение трех главных условий (кроме этих условий, есть еще много условий для музыкального совершенства: нужно, чтобы переход от одного звука к другому был отрывистый или слитный, чтобы звук равномерно усиливался или ослаблялся, чтобы он сочетался с таким, а не другим звуком, чтобы звук имел тот, а не другой тембр, и еще многое другое). Но возьмем три главных условия – высоту, время и силу звука. Музыкальное исполнение только тогда есть искусство и тогда заражает, когда звук будет не выше, не ниже того, который должен быть, то есть будет взята та бесконечно малая середина той ноты, которая требуется, и когда протянута будет эта нота ровно столько, сколько нужно, и когда сила звука будет ни сильнее, ни слабее того, что нужно. Малейшее отступление в высоте звука в ту или другую сторону, малейшее увеличение или уменьшение времени и малейшее усиление или ослабление звука против того, что требуется, уничтожает совершенство исполнения и вследствие того заразительность произведения. Так что то заражение искусством музыки, которое, кажется, так просто и легко вызывается, мы получаем только тогда, когда исполняющий находит те бесконечно малые моменты, которые требуются для совершенства музыки. То же самое и во всех искусствах: чуть-чуть светлее, чуть-чуть темнее, чуть-чуть выше, ниже, правее, левее – в живописи; чуть-чуть ослаблена или усилена интонация – в драматическом искусстве, или сделана чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже; чуть-чуть недосказано, пересказано, преувеличено – в поэзии, и нет заражения. Заражение только тогда достигается и в той мере, в какой художник находит те бесконечно малые моменты, из которых складывается произведение искусства. И научить внешним образом нахождению этих бесконечно малых моментов нет никакой возможности: они находятся только тогда, когда человек отдается чувству. Никакое обучение не может сделать того, чтобы пляшущий человек попадал в самый такт музыки, и поющий или скрипач брал самую бесконечно малую середину ноты, и чтобы рисовальщик проводил единственную из всех возможных нужную линию, и поэт находил единственно нужное размещение единственно нужных слов. Все это находит только чувство. И потому школы могут научить тому, что нужно для того, чтобы делать нечто похожее на искусство, но никак не искусству.
Обучение школ останавливается там, где начинается чуть-чуть, следовательно, там, где начинается искусство.
Приучение же людей к тому, что похоже на искусство, отучает их от понимания настоящего искусства. От этого-то происходит то, что нет людей более тупых к искусству, как те, которые прошли профессиональные школы искусства и сделали в них наибольшие успехи. Профессиональные школы эти производят лицемерие искусства, совершенно такое же, как то лицемерие религиозное, которое производят школы, обучающие пасторов и вообще всякого рода религиозных учителей. Как невозможно в школе выучить человека так, чтобы он стал религиозным учителем людей, так невозможно выучить человека тому, чтоб он стал художником.
Так что художественные школы вдвойне губительны для искусства: во-первых, тем, что убивают способность воспроизводить настоящее искусство в людях, имевших несчастие попасть в эти школы и пройти в них семи-восьми-десятилетний курс; во-вторых, тем, что распложают в огромном количестве то поддельное искусство, извращающее вкус масс, которым переполнен наш мир. Для того же, чтобы люди, рожденные художниками, могли узнать выработанные прежними художниками приемы различных родов искусств, должны существовать при всех начальных школах такие классы рисования и музыки – пения, пройдя которые всякий даровитый ученик мог бы, пользуясь существующими и доступными всем образцами, самостоятельно совершенствоваться в своем искусстве.
Вот эти-то три условия: профессиональность художников, критика и школы искусства и сделали то, что большинство людей нашего времени совершенно не понимают даже того, что такое искусство, и принимают за искусство самые грубые подделки под него.
XIII
До какой степени люди нашего круга и времени лишились способности воспринимать настоящее искусство и привыкли принимать за искусство предметы, не имеющие ничего общего с ним, – видно лучше всего на произведениях Рихарда Вагнера, в последнее время все более и более ценимых и признаваемых не только немцами, но и французами и англичанами за самое высшее, открывшее новые горизонты искусство.
Особенность музыки Вагнера, как известно, состоит в том, что музыка должна служить поэзии, выражая все оттенки поэтического произведения.
Соединение драмы с музыкой, придуманное в XV веке в Италии для восстановления воображаемой древнегреческой драмы с музыкой, есть искусственная форма, имевшая и имеющая успех только среди высших классов, и то только тогда, когда даровитые музыканты, как Моцарт, Вебер, Россини и др., вдохновляясь драматическим сюжетом, свободно отдавались своему вдохновению, подчиняя текст музыке, вследствие чего в их операх для слушателя важна была только музыка на известный текст, а никак не текст, который, будучи даже самым бессмысленным, как, например, в "Волшебной флейте", все-таки не мешал художественному впечатлению музыки.
Вагнер хочет исправить оперу тем, чтобы музыка подчинялась требованиям поэзии и сливалась с нею. Но каждое искусство имеет свою определенную, не совпадающую, а только соприкасающуюся с другими искусствами область, и потому, если соединить в одно целое проявления не только многих, но только двух искусств, драматического и музыкального, то требования одного искусства не дадут возможности исполнения требований другого, как это и происходило всегда в обыкновенной опере, где драматическое искусство подчинялось или, скорее, уступало место музыкальному. Но Вагнер хочет, чтобы музыкальное подчинялось драматическому и чтобы оба проявлялись во всей силе. Но это невозможно, потому что всякое произведение искусства, если оно истинное произведение искусства, есть выражение задушевных чувств художника, совершенно исключительное, ни на что другое не похожее. Таково произведение музыки и таково же произведение драматического искусства, если оно истинное искусство. И потому для того, чтобы произведение одного искусства совпало с произведением другого, нужно, чтобы случилось невозможное: чтобы два произведения искусства разных областей были совершенно исключительно не похожи ни на что прежде бывшее и вместе с тем совпали бы и были бы совершенно похожи одно на другое.
А этого не может быть, как не может быть не только двух людей, но и двух листов на дереве совершенно одинаковых. Еще меньше могут быть два произведения разных областей искусства – музыкальное и словесное – совершенно одинаковыми. Если они совпадают, то или одно есть художественное произведение, а другое подделка, или оба – подделки. Два листа живые не могут быть совершенно похожи друг на друга, но могут быть похожи только два листа, искусственно сделанные. Также и произведения искусства. Они могут вполне совпадать только тогда, когда ни то, ни другое – не искусство, а придуманное подобие искусства.
Если поэзия и музыка могут соединяться более или менее в гимне, песне и романсе (но и то не так, чтобы музыка следила за каждым стихом текста, как этого хочет Вагнер, а так, что и то и другое производит одно и то же настроение), то это происходит только потому, что лирическая поэзия и музыка имеют отчасти одну цель – произвести настроение, и настроения, производимые лирической поэзией и музыкой, могут совпадать более или менее. Но и в этих соединениях всегда центр тяжести в одном из двух произведений, так что только одно производит художественное впечатление, другое же остается незамеченным. Тем более не может быть такого соединения между эпической или драматической поэзией и музыкой.
Кроме того, одно из главных условий художественного творчества есть полная свобода художника от всякого рода предвзятых требований. Необходимость же приноровить свое музыкальное произведение к произведению поэзии или наоборот есть такое предвзятое требование, при котором уничтожается всякая возможность творчества, и потому такого рода произведения, приноровленные одно к другому, как всегда были, так и должны быть произведениями не искусства, а только подобия его, как музыка в мелодрамах, подписи под картинами, иллюстрации, либретто в операх.
Таковы и произведения Вагнера. И подтверждение этого видно в том, что в новой музыке Вагнера отсутствует главная черта всякого истинного художественного произведения – цельность, органичность, такая, при которой малейшее изменение формы нарушает значение всего произведения. В настоящем художественном произведении – стихотворении, драме, картине, песне, симфонии нельзя вынуть один стих, одну сцену, одну фигуру, один такт из своего места и поставить в другое, не нарушив значение всего произведения, точно так же, как нельзя не нарушить жизни органического существа, если вынуть один орган из своего места и вставить в другое. Но с музыкой Вагнера последнего периода, за исключением некоторых, малозначительных мест, имеющих самостоятельный музыкальный смысл, можно делать всякого рода перемещения, переставлять то, что было впереди, назад и наоборот, не изменяя этим музыкального смысла. Не изменяется же при этом смысл музыки Вагнера потому, что он лежит в словах, а не в музыке.
Музыкальный текст опер Вагнера подобен тому, что бы сделал стихотворец, каких теперь много, выломавший свой язык так, что может на всякую тему, на всякую рифму, на всякий размер написать стихи, которые будут похожи на стихи, имеющие смысл, – если бы такой стихотворец задался мыслью иллюстрировать своими стихами какую-нибудь симфонию, или сонату Бетховена, или балладу Шопена так, чтобы на первые одного характера такты написал стихи, соответствующие, по его мнению, этим первым тактам. Потом на следующие такты другого характера написал бы тоже, по его мнению, соответствующие стихи без всякой внутренней связи с первыми стихами и, кроме того, без рифмы и без размера. Такое произведение без музыки было бы совершенно подобно в поэтическом смысле операм Вагнера в музыкальном смысле, если их слушать без текста.
Но Вагнер не только музыкант, он и поэт, или то и другое вместе, и потому для того, чтобы судить о Вагнере, надо знать и его текст, тот самый текст, которому должна служить музыка. Главное поэтическое произведение Вагнера есть поэтическая обработка "Нибелунгов". Произведение это получило в наше время такое огромное значение, имеет такое влияние на все то, что выдается теперь за искусство, что необходимо всякому человеку нашего времени иметь понятие о нем. Я внимательно прочел четыре книжечки, в которых напечатано это произведение, и составил из него краткое извлечение, которое прилагаю во втором прибавлении (см. Прибавление II), и очень советую читателю, если он не читал самый текст, что было бы лучше всего, прочесть хоть мое изложение, чтобы составить себе понятие об этом удивительном произведении. Произведение это есть образец самой грубой, доходящей даже до смешного, подделки под поэзию.
Но говорят, что нельзя судить о произведениях Вагнера, не увидав их на сцене. Нынешнею зимой давали в Москве второй день или второй акт этой драмы, как говорили мне, лучший из всех, и я пошел на это представление.
Когда я пришел, огромный театр уже был полон сверху донизу. Тут были великие князья и цвет аристократии, и купечества, и ученых, и средней чиновничьей городской публики. Большинство держали либретто, вникая в смысл его. Музыканты – некоторые старые, седые люди – с партитурами в руках следили за музыкой. Очевидно, исполнение этого произведения было некоторого рода событием.
Я немного опоздал, но мне сказали, что коротенький форшпиль, которым открывается действие, имеет мало значения и что этот пропуск не важен. На сцене, среди декорации, долженствующей изображать пещеру в скале, перед каким-то предметом, долженствующим изображать кузнечное устройство, сидел наряженный в трико и в плаще из шкур, в парике, с накладной бородой, актер, с белыми, слабыми, нерабочими руками (по развязным движениям, главное – по животу и отсутствию мускулов видно актера), и бил молотом, каких никогда не бывает, по мечу, которых совсем не может быть, и бил так, как никогда не бьют молотками, и при этом, странно раскрывая рот, пел что-то, чего нельзя было понять. Музыка разных инструментов сопутствовала этим странным испускаемым им звукам. По либретто можно было узнать, что актер этот должен изображать могучего карлика, живущего в гроте и кующего меч для Зигфрида, которого он воспитал. Узнать, что это карлик, можно было по тому, что актер этот ходил, все время сгибая в коленях обтянутые трико ноги. Актер этот долго что-то, все так же странно открывая рот, не то пел, не то кричал. Музыка при этом перебирала что-то странное, какие-то начала чего-то, которые не продолжались и ничем не кончались. По либретто можно было узнать, что карлик рассказывал сам себе о кольце, которым овладел великан и которое он хочет приобресть через Зигфрида; Зигфриду же нужен хороший меч; ковкой этого меча и занят карлик. После довольно долгого такого разговора или пенья с самим собой в оркестре вдруг раздаются другие звуки, тоже что-то начинающееся и не кончающееся, и является другой актер с рожком через плечо и с человеком, бегающим на четвереньках и наряженным в медведя, и травит этим медведем кузнеца-карлика, который бегает, не разгибая в коленях обтянутых трико ног. Этот другой актер должен изображать самого героя Зигфрида. Звуки, которые раздаются в оркестре при входе этого актера, должны изображать характер Зигфрида и называются лейтмотивом Зигфрида. И звуки эти повторяются всякий раз, когда появляется Зигфрид. Такое одно определенное сочетание звуков лейтмотива есть для каждого лица. Так что этот лейтмотив повторяется всякий раз, как появляется лицо, которое он изображает; даже при упоминании о каком-нибудь лице слышится мотив, соответствующий этому лицу. Мало того, каждый предмет имеет свой лейтмотив или аккорд. Есть мотив кольца, мотив шлема, мотив яблока, огня, копья, меча, воды и др., и как только упоминается кольцо, шлем, яблоко, – так и мотив или аккорд шлема, яблока. Актер с рожком так же неестественно, как и карлик, раскрывает рот и долго кричит нараспев какие-то слова, и так же нараспев что-то отвечает ему Миме. Так зовут карлика. Смысл этого разговора, который можно узнать только по либретто, состоит в том, что Зигфрид был воспитан карликом и почему-то за это ненавидит карлика и все хочет убить его. Карлик же сковал Зигфриду меч, но Зигфрид недоволен мечом. Из десятистраничного (по книжке либретто), с полчаса ведущегося с теми же странными раскрываниями рта нараспев разговора видно, что Зигфрида мать родила в лесу, а об отце известно только, что у него был меч, который разбит и обломки которого находятся у Миме, и что Зигфрид не знает страха и хочет уйти из леса, а Миме не хочет отпускать его. При этом разговоре под музыку нигде не забыты, при упоминаниях об отце, о мече и пр., мотивы этих лиц и предметов. После этих разговоров на сцене раздаются новые звуки бога Вотана, и является странник. Странник этот есть бог Вотан. Тоже в парике, тоже в трико, этот бог Вотан, стоя в глупой позе с копьем, почему-то рассказывает все то, что Миме не может не знать, но что нужно рассказать зрителям. Рассказывает же он все это не просто, а в виде загадок, которые он велит себе загадывать, для чего-то прозакладывая свою голову за то, что он отгадает. При этом, как только странник ударяет копьем о землю, из земли выходит огонь, и слышатся в оркестре звуки копья и звуки огня. Разговору сопутствует оркестр, в котором постоянно искусственно переплетаются мотивы лиц и предметов, о которых говорится. Кроме того, самым наивным способом – музыкой – выражаются чувства: страшное – это звуки в басу, легкомысленное – это быстрые переборы в дисканту и т. п.
Загадки не имеют никакого другого смысла, как тот, чтобы рассказать зрителям, кто такие Нибелунги, кто великаны, кто боги и что было прежде. Разговор этот также со странно разинутыми ртами происходит нараспев и продолжается по либретто на восьми страницах и соответственно долго на сцене. После этого странник уходит, приходит опять Зигфрид и разговаривает с Миме еще на тринадцати страницах. Мелодии ни одной, а все время только переплетение лейтмотивов лиц и предметов разговора. Разговор идет о том, что Миме хочет научить Зигфрида страху, а Зигфрид не знает, что такое страх. Окончив этот разговор, Зигфрид схватывает кусок того, что должно представлять куски меча, распиливает его, кладет на то, что должно представлять горн, и сваривает и потом кует и поет: Heaho, heaho, hoho! Hoho, hoho, hoho, hoho; hoheo, haho, haheo, hoho, и конец 1-го акта.
Вопрос, для которого я пришел в театр, был для меня решен несомненно, так же несомненно, как и вопрос о достоинстве повести моей знакомой дамы, когда она прочла мне сцену между девицей с распущенными волосами, в белом платье, и героем с двумя белыми собаками и шляпой с пером a la Guillaume Tell. От автора, который может сочинять такие, режущие ножами эстетическое чувство, фальшивые сцены, как те, которые я увидал, ждать уже ничего нельзя; смело можно решить, что все, что напишет такой автор, будет дурно, потому что, очевидно, такой автор не знает, что такое истинное художественное произведение. Я хотел уходить, но друзья, с которыми я был, просили меня остаться, утверждая, что нельзя составить решение по одному этому акту, что лучше будет во втором – и я остался на второй акт.