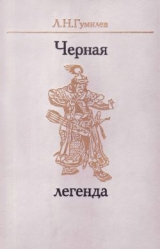
Текст книги "Черная легенда"
Автор книги: Лев Гумилев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Раскол поля
Появление чего-либо нового неизбежно влечет за собой деформацию старого. Если до VIII в. культурный мир Средиземноморья был единым, то с появлением романо-германской целостности он раскололся надвое. Политическая раздробленность существовала и раньше, но христианская религия потомков римлян была одна, что и сближало их в борьбе с исламом и северными язычниками.
Лишь с середины IX в. возникли разногласия между Западом, претендовавшим на кафоличность, вселенскость, и ортодоксией Востока, Византии. Относится ли это явление целиком к культуре и культурогенезу? Нет! Догматические принципы изменились минимально, и тонкости их были непонятны большинству верующих. Следовательно, они не могли их волновать. Спор папы Николая I с патриархом Фотием представлялся современникам как очередная склока среди прелатов и был быстро забыт. Войны между византийскими императорами и Каролингами, королями Франции и Германии, не возникали, ибо и те и другие боролись с агрессией ислама. И тем не менее глубина раскола росла, хотя бессмысленность его была очевидна всем.
Понятен этот феномен вражды лишь на этническом, точнее, на уровне выше этнического – суперэтническом, при котором и Византия и Западная Европа рассматриваются в целом, без внутренних региональных особенностей. Византия прожила свое тысячелетие крайне активно, и теперь ее развитие было инерционным. На Западе же наступила фаза этнического энергетического подъема, мучительная фаза, как всякое творчество. После 1054 г. – года официального разделения церкви на западную и восточную, французы и немцы уже не были официально единоверцами греков и болгар. Но поверить в это не могли как «западники», так и «восточники». Однако когда в конце XI в. они столкнулись, то греки показались французам еще более непохожими на них, чем мусульмане, к которым рыцари привыкли в Сицилии и Испании.
Третьей точкой, где прослеживается этногенетический взрыв, была Астурия, горная страна на берегу Бискайского залива. Туда отступили теснимые арабами христиане и так там смешались, что не стало ни готов, ни свевов, ни иберов, ни римлян, а стали испанцы, в середине IX в. предпринявшие попытку освободить свою страну от мусульман. Они дошли до реки Дуэро, были разбиты, отброшены в горы, но с этого времени началась реконкиста – отвоевание родины у захватчиков.
И ведь вот что характерно: несмотря на все выгоды централизации, христианская Испания распалась на полдюжины крошечных государств, подобно другим странам Западной Европы. Такое разделение страны затянуло реконкисту до 1492 г., но децентрализация была способом существования в христианском – западноевропейском – суперэтносе.
Если в мире ислама избыточная энергия этносов проявилась в шиитских восстаниях, в Византии – в религиозных спорах и дворцовых переворотах, то в христианском мире она выливалась в феодальные войны. Они были хроническим бедствием, хуже чумы, наводнений и голода населения. Беда была в том, что воевали не только сами феодалы, но и горожане, альпийские пастухи, прелаты и ересиархи, папы и императоры, короли и узурпаторы, короче – все, кто мог держать в руках оружие. Это и называется по этногенетическому счету времени пассионарным подъемом.
Так, этническая система Западной Европы в фазе подъема XI–XII вв. выходила за границы своего ареала. Немцы и датчане нападали на западных славян, правда, с минимальным результатом. Испанцы давили на арабов. Французские нормандцы захватили Англию и Сицилию. И наконец, стихийное движение людей в разных концах Европы охватило весь христианский мир: начался крестовый поход.
Крестоносцы собирались в Святую землю к Гробу Господню. Послушаем аббата Гвиберта Ножанского: «По закрытии Клермонского собора – а он был созван в ноябре месяце (1095 г.), в восьмой день после праздника святого Мартина, – по всем провинциям Франции разнеслась о нем большая слава, и каждый, кому быстрая молва доставляла папское предписание, шел к своим соседям и сородичам, увещевая (их) вступить на стезю Господню, как называли тогда ожидаемый поход.
Уже возгорелось усердие графов, и рыцарство стало подумывать о походе, когда отвага бедняков воспламенилась столь великим рвением, что никто из них не обращал внимания на скудность доходов, не заботился о надлежащей распродаже домов, виноградников и полей, всякий пускал в распродажу лучшую часть имущества за ничтожную цену, как будто он находился в жестоком рабстве или был заключен в темницу и речь шла о скорейшем выкупе.
…В прежние времена ни темницы, ни пытки не могли бы исторгнуть у них того, что теперь сполна отдавалось за безделицу… Многие, не имевшие еще сегодня никакого желания пускаться в путь… на другой день, по внезапному побуждению… отправлялись вместе с теми… Что сказать о детях, о старцах, собиравшихся на войну? Кто может сосчитать девиц и стариков, подавленных бременем лет? Все воспевают войну… все ждут мученичества…» [Описание взято из хроники аббата Гвиберта Ножа<%1>нского «История, называемая Деяния Бога через франков. Книга II., гл. VI].
«Весь Запад, все племена варваров, сколь их есть по ту сторону Адриатики вплоть до Геркулесовых столпов, – пишет в «Алексиаде» Анна Комнина, дочь императора, – все вместе стали переселяться в Азию. Они двинулись в путь целыми семьями и прошли всю Европу».
Понимали ли крестоносцы, на что они идут? Может быть, кто-то из них и понимал опасность, да и тщетность этого похода, но, увлеченный стихийным потоком, шел на верную гибель вместе с остальными. Из неорганизованной массы, ведомой Петром Амьенским и рыцарем Вальтером Голяком, уцелели единицы – те, кто успел бежать от сельджукских сабель. Организованное рыцарское ополчение Готфрида Бульонского, Раймунда Тулузского и Боэмунда Тарентского – все французы – одержало несколько побед над мусульманами и заняло Иерусалим, но из 110 тысяч воинов, переправившихся через Босфор, до Иерусалима дошло 10 тысяч. Часть их погибла при штурме города, хотя гарнизон Иерусалима состоял из одной тысячи египетских мамлюков.
И на этом успехи крестоносцев, отборного воинства католической Европы, прекратились. Сельджуки, уже потерявшие импульс своего этнического натиска, а с ним общую организацию, качество руководства и даже поддержку своих восточных соплеменников, а равно арабов и персов, отмахивались от крестоносцев, спокойно разбивая их в небольших стычках. Крестоносцы оказались в этой войне небоеспособными. Они привлекали на помощь армян и ливанских христиан-маронитов. Шли из Франции, Германии, Италии в Палестину и Египет подкрепления.
Однако всех сил рыцарской Европы хватило лишь на то, чтобы удержать несколько прибрежных крепостей, получавших постоянную поддержку со стороны моря. Иерусалим был утрачен крестоносцами в октябре 1187 г. 2 октября войска султана Салах ад-Дина вошли в него. Но в феврале 1229 г., по мирному договору султана Египта и Фридриха II, Иерусалим, а также Вифлеем и Назарет были переданы крестоносцам. В 1244 г. Иерусалим и округа снова были утеряны крестоносцами.
Было ясно, что агрессия Европы на Ближнем Востоке захлебнулась. И тогда вступили в игру монголы и куманы (половцы).
Великая степь
Как ни странно, но в надвигающейся трагедии приняли участие люди, которым она должна была быть совершенно безразличной. На северных окраинах Византии и Сельджукского султаната жили кочевники, долгое время изображавшиеся европейскими авторами как бесчисленные скопища, подобные саранче. На самом же деле в степях жили три немногочисленных этноса, очень древние и потому не агрессивные: гузы, по-русски – торки; канглы, по-русски – печенеги и кыпчаки, или куманы, по-русски – половцы.
Взрыв этногенеза, породивший их, имел место в III в. до н. э. Тогда же возникли, вернее, оформились как этнокультурные системы хунны – в степях современной Монголии, и сарматы – в современном Казахстане. История восточных кочевников описана Л.Н. Гумилевым в «Степной трилогии» – «Хунны в Китае» (М., 1974), «Древние тюрки» (М., 1967) и «Поиски вымышленного царства» (М., 1970). Но вот о западных кочевниках надо сказать особо, поскольку к нашей теме они имеют непосредственное отношение.
Гузы жили в бассейне Урала, по границе тайги и степи. В то время в степи, ныне распаханной, было много сосновых боров, подобных островам в открытом море. Один из таких «островов» остался – это сосновый бор с озерами в Кокчетавской области Казахстана – курорт Боровое. Лес в степи – великое благо. В нем устраивают скот во время буранов, берут материал для изготовления телег. Там ловят орлов – орлиное перо шло на оснастку стрел, ловят соколов для охоты на волков. Хозяйство гузов было органичным, а идея прогресса техники отсутствовала, поскольку жизнь их базировалась на природе, с которой гузы не воевали, а жили в прекрасном равновесии.
Южнее, между Балхашем и Аралом, располагалась держава Кангюй – по-китайски, или Кангл – на языке тюркском. Это была тоже редко населенная страна, но, видимо, культурная и самостоятельная. Жители ее назывались по-тюркски «кангл-эр» (кангюйские мужи), но уже в VIII в. их стали называть «пацзынак» – по-гречески, или печенеги – по-русски.
Они не ладили ни с гузами, ни с третьим кочевым этносом – кыпчаками, обитавшими на склонах Алтая и в Барабинской степи, где растительность напоминает богатые пастбища по обоим берегам реки Дон, да и сам Иртыш своим положением в степи напоминает Дон.
Все три этноса были европеоиды по своему антропологическому типу, тюркоязычны, воинственны, но не агрессивны, ибо уже вступили в фазу гомеостаза, когда инерция создавшего их этнического толчка иссякла, а жизнь идет по традиции, пока ее не нарушит какое-либо постороннее воздействие. Чаще всего таким воздействием бывает вторжение иноплеменников, но арабы в такую далекую степь не приходили, Хазарский каганат на Волге был заинтересован в мире со степняками, а Тюркский каганат был занят постоянной войной с Китаем.
Беда пришла с неба, и весьма неожиданно. В IX–X вв. степную зону Евразии постигла вековая засуха, ибо орошающие степь циклоны сместились к северу. Как уже было сказано, в степи шла трехсторонняя война, малая, но постоянная. Для степной войны необходимо иметь откормленных коней и много баранов, чтобы не голодали воины. Поэтому состояние пастбищ определяет возможность победы. Значит, засуха, влияя на произрастание трав, либо способствует, либо мешает военным успехам кочевых народов, причем в большей степени, нежели оседлых, ибо те могут создать запасы зерна, хотя бы на несколько лет, а кочевники этих возможностей лишены.
В X в. больше всех пострадали от засухи экстрааридные степи современного Центрального Казахстана. Большая часть их превратилась в пустыню. Канглы вынуждены были покинуть родину. Часть их поселилась во владениях хорезмшахов, приняла ислам и стала называться просто канглы, а другая часть переправилась в 889 г. в Причерноморье и долгое время сохраняла самостоятельность, даже будучи зажата двумя великими державами: Византией и Русью. Руси эта часть канглов боялась меньше, чем соседей – кыпчаков.
Гузы тоже пострадали от засухи и ушли частью в верховья Амударьи, в окрестности Балха и Мазари-Шерифа, а частью на Волынь (нынешняя Украина), где подчинились киевским князьям. Они образовали военно-поселенческий «торческий пояс» (торками звали гузов) – границу, обороняемую кочевниками-гузами от половцев – этноса, достигшего наибольших успехов и пропавшего с лица земли без остатка.
Засуха ударила по кыпчакам меньше, чем по их соседям. Воды в Иртыше много, с Алтая сбегала влага горных ключей, на джайляу – горных пастбищах – трава растет в изобилии, а лесам на склонах гор жара не страшна. Поэтому кыпчаки сберегли свой экономический и военный потенциал, преследуя торков и печенегов, они пришли в донские степи не как беглецы, а как победители. Там они нашли то же разнотравье, что и в родной Барабе, и остались жить, так как ландшафт был привычным. Но, конечно, им при этом пришлось столкнуться с Византией и Русью.
С греками половцы поладили быстро. В 1091 г. они помогли Алексею Комнину разгромить печенегов при Лебурне. Печенеги полвека грабили Балканский полуостров и вызвали такое раздражение, что греки, победив их, не брали пленных. Спаслись только те печенеги, которые сдались половцам. Взяв добычу и награду за помощь, половцы ушли за Дунай.
Война половцев с Киевским государством затянулась до 1115 г., вследствие того что Олег Святославич Черниговский оказался союзником половцев, тогда как киевские князья Святополк II и Владимир Мономах опирались на торков, давних врагов половцев. В 1117 г. русские и их союзники покинули Белую Вежу, крепость на Дону, а западные кочевья половцев были разгромлены Мономахом. С этого времени западный половецкий союз вошел в состав Руси, сохранив автономию, а восточные «дикие» половцы стали союзниками князей владимирских. За 120 лет – время от 1116 до 1236 г. – половецких набегов на Русь было 5, русских походов на степь – 5, участий половцев в усобицах – 16. Жестокая война Руси и Степи – миф XIX в.
Если печенеги и гузы приняли ислам и превратились в периферию мусульманского мира, то половцы усердно крестились и вступали в брачные союзы с русскими. Не только внук героя «Слова о полку Игореве», но и сам Александр Невский были полуполовцами. Когда в 1221 г. сельджуки высадили десант в Крыму, то на помощь половцам пришли рязанские князья и разделили с ними горечь поражения.
Везде, где православные бились с врагами веры: в Грузии при Давиде Строителе с мусульманами-сельджуками (битва на Дидгорской равнине в 1121 г.), в Болгарии – с латинянами (при Калоиоанне в 1205 г.), половцы обеспечивали успех своей воинской доблестью. В Грузии издавна знали о высоких воинских достоинствах и сравнительно небольшой требовательности половцев. Об этом рассказывается в истории царя царей Давида в грузинской летописи «Картлис цховреба».
Но не названные особенности, а совсем другие детали быта и этнопсихологии половцев определили то, что история человечества пошла совсем иначе, сделав зигзаг в 1260 г.
Любой этнос, прошедший все фазы исторического развития и не потерявший первозданной целостности, «не рассыпавшийся розно», оказывается в состоянии гомеостаза, неустойчивого равновесия со вмещающим ландшафтом, нарушаюшегося за счет столкновений с соседями, воздействий колебаний климата или стихийных бедствий. Но если такие воздействия не влекут гибели этноса, то он восстанавливает присущий ему характер жизни и борется со всеми попытками его изменить.
Кыпчаки прожили долгую жизнь рядом со своими ровесниками: хуннами, сарматами, аланами, телеутами, тюркютами (тюрки Великого каганата VI–VIII вв.) – и уцелели как этнос. Но поддержание себя в состоянии гармонии внутри общественных образований вынуждало их избавляться от всех соплеменников, нарушавших традицию консерватизма, а точнее, воинствующей посредственности, что являлось идеалом половецкой этики. А это означало, что из общества, из социальной жизни изгонялись трусы, воры, предатели, дураки, а также гении, инициативные храбрецы, мечтатели, честолюбцы. То есть изгонялись все те, кто мог или хотел нарушить гармонию половца с его любимой степью.
Существует трогательная легенда. При наступлении на степь русских войск Владимира Мономаха в 1115 г. хан Атрак с отрядом воинов поступил на службу грузинскому царю и был там хорошо принят. Царь Давид женился на дочери хана Атрака. Хан не хотел возвращаться на родину. Один из посланных за ханом стариков, исчерпав в уговорах все аргументы, дал Атраку понюхать пучок степного ковыля. Хан немедленно поднял свой отряд и вернулся на Дон.
Половцы были гуманным народом и не убивали своих несимпатичных соплеменников, а продавали в рабство мусульманам, которые превращали их в гулямов – рабов-воинов. Мусульмане, сталкиваясь с тюрками, отметили их удивительное умение приспосабливаться к новой, непривычной обстановке. Фахр ад-Дин Мубаракшах по этому поводу пишет: «Кто может спросить, что за причина этой славы и удачи, выпавшей на долю тюрок? Ответ: общеизвестно, что люди любого племени, пока они остаются среди своего народа, среди своих родственников и в своем городе пользуются уважением и почетом, но, когда они, странствуя, попадают на чужбину, их презирают и не одаривают вниманием. Но тюрки наоборот: среди свои сородичей и в своей стране – они только племя среди других тюркских племен… Чем дальше они находятся от своих жилищ, родных и страны, тем больше растет их сила, и… они становятся эмирами и сипах-саларами».
Фахр ад-Дин описал феномен неполно. Субпассионарные тюрки, слабовольные и неорганизованные, выброшенные консервативными соплеменниками за ненадобностью, кончали жизнь, как правило, рядовыми всадниками, и очень быстро, потому что их не жалели, когда гнали в бой. Если же они оставались живы, то и тогда их не любили, а использовали. Но у пассионарных, неудержимых в поведении тюрок шанса на успех дома не было, ибо для воинствующей посредственности талант – главный враг. Степной обыватель по психологии не отличается от деревенского или городского. Поэтому неудивительно, что в числе кочевников находились люди, предпочитавшие быть проданными в рабство скучной и бесперспективной жизни на своей родине. Вот пример, случай из многих.
В XII в. половцы продавали рабов партиями по 200 голов и купившему партию давали еще одного бесплатно в качестве приза. Где-то около 1137 г. купцу, покупавшему товар, предложили как премию мальчика, худосочного и невзрачного, по имени Ильдегиз. Купец отказался и отпустил ребенка на волю, но тот попросил купца взять его как раба. Купец исполнил просьбу мальчика и посадил его на телегу. Из донских степей в Иран ехали подолгу, от источника до источника. Ильдегиз устал, заснул на одном из переходов и сонный свалился с телеги. Его подобрали, но, когда он второй раз упал с телеги, купец велел не останавливаться и ехать до места привала.
Доехали до источника, устроили привал, развели огонь и стали варить пищу для себя и для рабов. И вот из темноты появился Ильдегиз. Купец не удивился, рассмеялся и приказал накормить мальчика. Так мальчик попал в Азербайджан. Купец выгодно для себя продал мускулистых плечистых половцев везиру этой страны Сиджируми, но тот отказался покупать Ильдегиза. Ильдегиз взмолился и сказал: «О добрый господин, купи меня, я пригожусь». «Ты сам просишься? – спросил везир. – Ну, тогда я покупаю». И за гроши купил ненужного ему раба.
Ильдегиз попал поначалу на кухню и стал так хорошо готовить плов, что, когда султан Масуд ибн-Мухаммад пришел к своему везиру в гости и попробовал половецкий плов, он попросил продать ему повара, купил и зачислил его воином к себе на общих основаниях.
Оказавшись при дворе султана, Ильдегиз нашел способ снискать благосклонность матери султана и благодаря ей получил назначение в войско уже как сипах-салар. Ему и удалось разбить в войне войско грузин, после чего он стал правителем Аррана, значительной части Азербайджана, и важным вельможей – атабеком, то есть опекуном и воспитателем сына султана. С 1116 г. Ильдегиз и его потомки правили Северо-Западным Ираном, с переменным успехом ведя дворцовую политику, интриги и внешние войны. Низложены они были лишь в 1225 г. хорезмшахом Джелял ад-Дином.
Однако Иран был менее удобным поприщем для половцев-мамлюков, нежели Египет. Там половцы развернулись, а именно египетские мамлюки имеют основное и непосредственное отношение к нашей теме. Но поскольку судьба Египта связана непосредственно с изнанкой религиозной и социальной жизни Передней Азии – с карматами и исмаилитами, то расскажем сначала об этой «теневой» стороне процесса этногенеза. Она столь же существенна для истории и для нашей темы, как сторона другая, освещенная светом знаний, почерпнутых из учебников.
Египет и четыре знамени
До 1099 г., то есть до взятия Иерусалима крестоносцами, Палестина и прилегающие к ней степи Аравии принадлежали египетским халифам – Фатимидам. Но ни члены правящей династии, ни их придворные, ни их воины, купцы, муллы, эмиры, шейхи, ни даже жены и одалиски их не были египтянами и египтянками, хотя именно потомки строителей пирамид и храмов, создателей древней письменности и учителей Пифагора, Птоломея (астронома) и отшельников Фиваиды составляли большинство населения прекрасной долины Нила.
Энергия египтян Древнего царства иссякла уже в XVIII в. до н. э. Этнический толчок, изменивший лицо Египта, создал Новое царство, отличавшееся от Древнего так, как, например, Италия отличается от античного Рима или Франция – от кельтского племенного союза на этой же территории, руководимого друидами.
Но и этот толчок этногенеза, сообщивший энергию Новому царству, со временем потерял инерцию. Страна прошла свой цикл развития, хотя египтяне сохраняли навыки земледелия, знание астрономии, медицины и способности к философии.
Угасающий этнос, переходящий в своей этнической истории «к старости» – научно выражась, в стадию гомеостаза, неустойчивого равновесия с окружающим ландашфтом, – теряет одно важное качество, не восполнимое никакой культурной традицией. Это способность к самообороне. Египтом, страной культурной и трудолюбивой, по очереди овладевали нубийцы, ассирийцы, ливийцы, персы, македоняне Александра Македонского, римляне и, наконец, арабы. Сами египтяне не сопротивлялись ни одному из завоевателей, тем самым предоставляя им возможность драться друг с другом.
Последние судороги ускользающей активности стали заметны в первые века нашей эры, когда египтяне, сменив свои прежние культуры, приняли христианство – не совсем равнодушно. Но после V–VI вв. египетские земледельцы возделывали поля и платили налоги Византии, полагая, что большего от них не нужно и все остальное их не касается. Этническая система египтян упростилась до того, что их стали называть не по этносу, а по роду занятий – феллахи, что значит «землепашцы».
Но пока Нил тек, откладывая на поля плодородный ил, Египет был самой богатой страной Средиземноморья. Правители его не мешали аборигенам жить привычным бытом, ограничиваясь сбором налогов. Политическая и интеллектуальная жизнь кипела в городах Дельты: в Александрии, Мансуре, Дамиетте и других. Бедуины пасли своих верблюдов в пустынях по обе стороны долины реки Нил. Купцы всех стран везли для эмиров, военачальников, горожан товары со всех концов известного тогда мира. И немаловажным товаром были рабы и рабыни.
Казалось бы, зачем они были нужны, если никто не собирался посылать их на тяжелые работы? Рабы стоили дорого, а для стоительства, ирригации и сельского хозяйства было сколько угодно покорных феллахов. Нет, девушки-рабыни пополняли гаремы, а мужчины – личные войска наместника, ибо, например, в IX в. в халифате было очень неспокойно. Восстания поднимались всюду. Шииты, группировка мусульман, боровшаяся за власть в халифате, «отложились» в Марокко, создав там в 800 г. независимую страну. Хариджиты, группировка, отрицавшая власть халифа над правоверными, создали собственное государство в Алжире. Правоверные Аглабиды «отложились» в свою очередь в Тунисе и завоевали Сицилию – для себя, а не для халифа – в 878 г.
Для подавления восстаний халиф Мутасим учредил гвардию гулямов, то есть рабов, и один из них, тюрк Ахмад ибн-Тулун, получил назначение помощником наместника Египта. В 868 г. он взял власть в свои руки и присоединил к Египту Сирию и Палестину. Опорой Ахмада были гулямы, которых он покупал не только в Европе, но и в Судане, в Африке. Так в Египте создались две гвардии гулямов-рабов: белая и черная. Одно время этой богатой и беззащитной страной управлял черный гулям, нубиец Кафур, прославившийся как щедрый покровитель литературы и искусства. Но эти наместники еще считались с халифом. Беда пришла в 969 г.
Окинем взглядом ход раздробления «мира ислама» и образование своеобразных этнических химер. В 750 г. зеленое знамя династии Омейядов упало в Сирии, но через шесть лет вознеслось над Испанией и реяло над ней до 1032 г. Черное знамя Аббасидов более ста лет казалось устойчивым и вечным, но уже в конце VIII в. – в 778 г. – в Гургане, области на берегу Каспийского моря, было поднято красное знамя восставших крестьян, а затем перенеслось в Азербайджан, Западный Иран вплоть до границ с Месопотамией: это было в 816–837 гг.
Еще большую опасность для халифов, живших в Багдаде, представляло белое знамя исмаилитов или карматов – шиитской секты, захватившей Иран в 890–906 гг. и Бахрейн (там, где теперь нефтяное княжество) в 894–899 гг. В Ираке и Сирии карматы были разбиты тюркскими гулямами, но в Бахрейне они удержались и даже на время захватили священный город арабов Мекку, увезли оттуда черный камень Кааба, который был возвращен позже за большой выкуп.
Другая группировка исмаилитов, возглавленная Убейдуллой, который выдавал себя за потомка халифа Али и дочери пророка Фатимы, опираясь на оседлые берберские племена Атласа, сокрушила аббасидского наместника западной части халифата – Магриба. По сути дела, предприимчивые вожди исмаилитов использовали вражду покоренных берберов к завоевателям арабам. Но и берберы в свою очередь использовали исмаилитов. Они поддержали пламя гражданской войны в халифате, помогли потомкам Убейдуллы – Фатимидам – захватить власть в Египте, овладеть всей Палестиной и частью Сирии. Но сами берберы откололись от Фатимидов и в 1041 г. вернулись к суннизму, что означало для них политическую независимость, ибо багдадский халиф находился сам под контролем сельджуков.
Так на фоне общего развала, вызванного не оскудением, а переизбытком страстей, Египет оказался самой сильной страной с самым вялым населением. Фатимидам оставалось одно: покупать гулямов с еще большим размахом, что они и делали. В результате власть перешла в руки военщины. Курд Салах ад-Дин Юсуф ибн-Аюб, основатель в будущем знаменитой династии Аюбидов, долгое время находившийся на службе у сельджуков, захватил власть в деморализованном Египте в 1169 г. и восстановил суннизм. В 1192 г. он отразил крестоносца Ричарда Львиное Сердце. А потомок Салах ад-Дина взял в плен французского короля Людовика Святого.
Салах ад-Дин и его потомки сумели остановить натиск крестоносцев, вернуть мусульманам святой и для них город Иерусалим и блокировать рыцарей в прибрежных крепостях на узкой полосе Восточного Средиземноморья. Они смогли также прекратить раскол в мире ислама, упразднив исмаилитскую династию Фатимидов, восстановить арабскую культуру. И наконец, они осуществили принцип политической раздробленности, при котором населению жилось легче под властью своих, местных султанов, нежели под гнетом назначенных халифом эмиров.
Ведь слабый султан небольшого города или территории зависел от настроения своих подданных не меньше, чем они от его капризов. Конечно, раздробленность снижала политическую мощь, но этот недостаток компенсировался терпимостью и уступчивостью правителя. Так, султан Камил уступил Иерусалим Фридриху II и тем самым избежал изнурительной войны.
Мир ислама и мусульманская культура в целом в начале XIII в. были спасены, но кем? Туркменами-сельджуками, курдами Аюбидами и, главное, купленными на базарах невольниками, превращенными в гулямов или мамлюков – государственных рабов. А сами арабы и персы, чьи чаяния были символически воплощены в цвете их знамен, потеряли всякое значение. Знамена попадали в пыль и превратились в лоскутья.
Закономерный процесс этногенеза был сломлен, но очарование культуры гальванизировало Ближний Восток, на котором представители двух суперэтносов были вдвинуты друг в друга и образовали некое соединение, которое в этнической терминологии можно уподобить химере. Но это еще не все. Большая часть населения Малой Азии, Сирии, Месопотамии, Палестины, Египта и Нубии оставалась христианской, а католический мир создал свои первые колонии в Заморской земле: на побережье Ливана, в Константинополе – Латинская империя, на Кипре, а также среди перешедших в католичество армян. Силы систем уравновешивали друг друга, но равновесие это было неустойчивым и крайне обманчивым.








