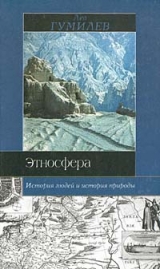
Текст книги "Этносфера: история людей и история природы"
Автор книги: Лев Гумилев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
На протяжении исторического периода можно зафиксировать два этнокультурных ареала, где море является составной частью месторазвития: циркумполярные культуры на берегах Ледовитого океана и Полинезия, о которой написано так много, что нет необходимости повторяться. Достаточно напомнить, что, несмотря на отсутствие металла и керамики, полинезийская культура вмещала до прихода европейцев разнообразные этнические образования, которые, даже на таком изолированном участке суши, как о. Пасхи, боролись между собою и создавали свои культуры, хотя и довольно близкие по характеру.
Менее известна история циркумполярных народов. Некогда цепь сходных культур окружала Ледовитый океан, который являлся их кормильцем. В основном это были охотники на морского зверя и ихтиофаги. В начале н. э. в тундру вторглись угро-самоеды, истребившие местные племена. Затем тунгусы уничтожили восточную их часть, за исключением палеоазиатов и народа омок на Яне и Индигирке, последних ассимилировали якуты. Движение с юга на север было односторонне и необратимо, так как плыли на плотах по рекам и вернуться против течения не могли [194]
[Закрыть].
Самым молодым циркумполярным народом были эскимосы, распространившиеся около VI в. н. э. из Океании и в X в. отогнавшие индейцев до южной границы Канады и сбросившие викингов в Гренландии в море [207, стр. 113]. Тут опять-таки сочетание ландшафтов: кормящее море и лесотундра.
Теперь мы можем сформулировать вывод из сделанного анализа: однородный ландшафтный ареал стабилизирует обитающие в нем этносы, разнородный – стимулирует изменения, ведущие к появлению новых этнических образований.
Но тут возникает вопрос: является ли сочетание ландшафтов причиной этногенеза или только благоприятным условием? Если бы причина возникновений новых народов лежала в географических условиях, то они, как постоянно действующие, вызывали бы народообразование постоянно, а этого нет. Следовательно, этногенез хотя и обусловливается географическими условиями, но происходит по другим причинам, для вскрытия которых приходится обращаться к другим наукам: социологии и антропологии, объединять которые в единую географию не предлагает сам В.А. Анучин.
Разумеется, ответ на вопрос В.А. Анучина, данный в этой статье, не мог быть исчерпывающим. Новая научная дисциплина требует разработки специальной методики, разбора проблем устойчивости и изменчивости этнических сообществ, общих принципов этногенеза, механизма физико-географических и биологических воздействий на этнические сообщества, и прежде всего дефиниции самого понятия «этнос». Этим вопросам посвящены специальные исследования, проводимые в стенах Географического общества путем интерпретации накопленного, но до сих пор не систематизированного материала. Предлагаемые решения могут казаться и быть спорными, требовать поправок и уточнений, но преимущество принятого нами пути в том, что не возникает потребности в ломке уже существующей классификации наук, которая пока дает блестящие результаты.
Если же встать на путь интеграции наук, то, согласно принципам диалектики (закону отрицания отрицания), следующей степенью развития науки будет дезинтеграция, т. е. смешение и хаос, что не представляется желательным.
В заключение следует отметить, что бесспорно правильно утверждение Д.Л. Арманда: «Давайте не будем говорить жалкие слова, оплакивать гибель ныне здравствующих наук и искать причины недостатков там, где их наверняка быть не может» [15]15
Хронология А.П. Быстрова требует уточнения. По новым данным (радиоуглеродный анализ), кроманьонский человек в Европе имеет давность около 20 000 лет, a Homo sapiens в Северной Америке – около 37 000 лет [184, стр. 34].
[Закрыть]. Уже сам факт новой постановки вопроса В.А. Анучиным и дискуссии, затронувшей такое количество теоретических и практических проблем, показывает, что творческие силы в советской географической науке огромны. Если бы дискуссии такого же размаха были возможны в филологии, археологии, источниковедении и историографии, то лучшего бы и желать не приходилось. А ведь и там назрели проблемы, требующие пересмотра. Для ученого, приходящего в географию из любой смежной области знаний, открываются такие широкие научные перспективы, что пессимизм В.А. Анучина и Ю.Г. Саушкина неоправдан.
Об антропогенном факторе ландшафтообразования [12]12
Вестник ЛГУ, 1967, № 24, стр. 102 – 112.
[Закрыть] (Ландшафт и этнос). VII
Вопрос о значении деятельности человека при образовании позднеголоценовых ландшафтов приобрел при обсуждении тезиса «единой» географии остроту, но не ясность. Поэтому, не входя в детали истории вопроса, попробуем подойти к проблеме с другой стороны, использовав имеющийся в нашем распоряжении материал.
С. В. Калесник отметил, что «на земном шаре к настоящему времени почти не осталось ландшафтов, не затронутых воздействием человеческого общества» [140, стр. 424 – 425]. Вместе с тем он указал на то, что существуют «различия в целях, степени и характере воздействия человека на его природное окружение» [стр. 410], и этим открыл перспективы для дальнейшей разработки темы.
Дело не в том, насколько велики изменения, произведенные человеком, и даже не в том, благодетельны они по своим последствиям или губительны, а в том, когда, как и почему они происходят.
Бесспорно, что ландшафт и рельеф промышленных районов и областей с искусственным орошением изменен больше, чем в степи, тайге, тропическом лесу и пустыне, но если мы попытаемся найти здесь социальную закономерность, то столкнемся с непреодолимыми затруднениями. Земледельческая культура майя на Юкатане была создана в V в. до н. э. при господстве родового строя, пришла в упадок при зарождении классовых отношений и не была восстановлена при владычестве Испании, несмотря на внесение европейской техники (железных орудий) и покровительство крещеным индейцам. Хозяйство Египта в период феодализма медленно, но неуклонно приходило в упадок, а в Европе в то же время и при тех же социальных взаимоотношениях имел место небывалый подъем земледелия и ремесла, не говоря уже о торговле. В плане нашего исследования это означает, что ландшафт в Египте в это время был стабильным, а в Европе преображался радикально. Внесение же антропогенных моментов в рельеф Египта в XIX в. – прорытие Суэцкого канала – связано с проникновением туда европейских народов – французов и англичан, а не деятельностью аборигенов-феллахов, несмотря на то, что именно они вложили туда свою физическую силу.
В Англии XVIII в. (по Томасу Мору) «овцы съели людей» при начинающемся капитализме, а в Монголии XIII – ХГ? вв. овцы съели тунгусов-охотников, живущих на южных склонах Саян, Хамар-Дабана и на севере Большого Хингана, хотя там даже феодализм был неразвитым. Монгольские овцы съедали траву и выпивали в мелких источниках воду, служившую пищей и питьем для диких копытных [57]57
Харадж – государственный налог
[Закрыть]. Число последних уменьшалось, а вместе с тем охотничьи племена лишались привычной пищи, слабели, попадали в зависимость к степнякам-скотоводам и исчезали с этнографической карты Азии. Еще примеры. Азорские острова превращены в голые утесы не испанскими феодалами, которые свирепствовали в Мексике и Нидерландах, а козами; последних же высадили там астурийцы и баски, у которых еще не исчез родовой строй. Бизонов в Америке уничтожали члены капиталистического общества, а птицу моа в Новой Зеландии – полинезийцы, не знавшие еще классового расслоения; они же привезли на свои острова из Америки картофель, а в России для той же цели понадобилась вся военно-бюрократическая машина императрицы Екатерины II.
Отсюда следует, что искомая закономерность лежит в другой плоскости.
Интересная схема для классификации явлений, относящихся к соотношению человечества и географической среды, предложена Ю.К. Ефремовым. Он вводит новый термин – «социосфера», подменяющий не совсем удачный термин В.И. Вернадского «ноосфера», так как «вряд ли стоит относить к сфере разума (nous) хищническое опустошение природных богатств или обезображивание ландшафта войнами». По мысли автора, «социосфера состоит из сферы культурного ландшафта и самого человечества», а масса живого вещества, организованная в человеческие организмы, называется «антропосферой». Отношения антропосферы с внешней средой составляют предмет экологии человека. Свое понимание места человечества в природе Ю.К. Ефремов называет «биосоциальным» [126, стр. 49 – 53].
Концепция Ю.К. Ефремова несравненно тоньше и изящнее «единой» географии, пытающейся суммировать и подменить собою частные географические дисциплины [83, 125, 142]. Однако не каждое сочетание наук обязательно оказывается плодотворным, и предложенное Ю.К. Ефремовым непосредственное соединение биологии с социологией нуждается в уточнении и дополнении по двум линиям.
Во-первых, социальные закономерности изучались давно, и характер их установлен историческим материализмом: это спонтанное прогрессивное развитие по спирали. Именно потому, что это саморазвитие,нельзя считать его функцией экзогенных факторов, а можно только говорить о взаимодействии двух самостоятельных линий развития: социальной и натуральной.
Во-вторых, антропосфера – понятие слишком аморфное. В отличие от других млекопитающих, имеющих свои точно очерченные ареалы, человек наделен такой способностью к адаптации, что населил всю поверхность суши, исключая Антарктиду. Следовательно, единой среды и, соответственно, общей экологии для вида нет. Затем, нельзя считать, что с природой сходно взаимодействуют, скажем, все рабовладельческие или все феодальные общества. Да и сама принадлежность к той или иной формации определяется способом производства, а не характером приспособления к ландшафту. Искомое соотношение человека с природой осуществляется постоянно, но коллективами иного порядка – этносами, или народностями. Каждый этнос устанавливает своеобразные отношения с географической средой и ландшафтной сферой своего ареала и, с одной стороны, участвует в прогрессивном общественном развитии человечества, с другой – поддерживает контакт с природой. Диапазон этнических вариаций (например, от бушмена до швейцарца) настолько велик, что учитывать этническую поправку для экологии человека необходимо. Без этого анализ не будет плодотворным. А коль это так, то мы констатируем наличие самостоятельного ландшафтогенного явления, до сих пор не принимавшегося в расчет. Наша задача – показать, что без учета этого явления проблема взаимоотношений человека с природой не может быть решена.
В отличие от советской науки, в Западной Европе и Америке неоднократно делались попытки прямых сопоставлений социальных и природных явлений. Таковы, например, теория «культурных кругов» Ф. Ратцеля, биологический социлогизм Герберта Спенсера, где общество уподобляется организму, и, наконец, парадоксальные выводы Хентингтона о непосредственном влиянии метеорологических явлений на ход исторических событий. Но для иллюстрации поставленного нами тезиса достаточно проанализировать самую новую, ныне бытующую концепцию, построенную на возможно полном использовании историко-географического материала; мы имеем в виду опыт совмещения социальных и географических закономерностей, сделанный недавно знаменитым английским историком Арнольдом Тойнби, концепция которого получила широкое распространение в Западной Европе и Америке [270]
[Закрыть].
Исследуя историю народов всей ойкумены, А. Тойнби устанавливает наличие целостностей, которые он называет «обществами» или «цивилизациями». Всего цивилизаций 21, и они занимают 16 регионов; следовательно, в некоторых случаях допускается, что на одной территории возникли последовательно 2 – 3 цивилизации, которые в таком случае именуются «дочерними». Таковы, например, шумерийская и вавилонская цивилизации в Месопотамии, минойская, эллинская и главная ветвь ортодоксально-христианской (т. е. византийской) на Балканском полуострове, индская (древняя) и индусская (средневековая) в Индостане и т. п. Кроме того, он выделяет в особый раздел «абортивные» цивилизации, куда попадают ирландцы, скандинавы, центральноазиатские несториане и «задержанные», в числе которых почему-то оказались эскимосы, османы, кочевники Евразии, спартанцы и полинезийцы.
Все прочие общества А. Тойнби зачисляет в разряд «примитивных», не развивающихся. Согласно взглядам А. Тойнби, развитие осуществляется через мимесис, или подражание, которое является родовой особенностью всей социальной жизни. В «цивилизациях» массы подражают творческим личностям, чем обусловлены изменения общественной жизни и рост культуры, а в «примитивных» мимесис направлен в сторону подражания старшим или умершим предкам, что делает эти общества статичными. Таковы были все общества глубокой древности, до возникновения «цивилизаций». Поэтому главной проблемой истории является отыскание фактора, вызвавшего переход человеческих обществ из статического в динамическое состояние. А.Тойнби отвергает две концепции: расизм и влияние благоприятных географических условий – и предлагает свою, оригинальную. «Человек, – пишет он, – достигает цивилизации не в результате высшего биологического дарования (наследственность) или географического окружения (имеются в виду легкие условия для жизни), но в качестве ответана вызов в ситуации особой трудности, которая воодушевляет его сделать беспрецедентное до сих пор усилие» [270, стр. 510]. Иными словами, талантливость рассматривается как реактивное состояние, в связи с чем одна из глав (VI) носит название «Достоинства несчастья».
Что же это за вызовы?Чаще всего неблагоприятные природные условия. Например, в дельте Нила было в древности болото, и предки египтян решили его осушить. На Юкатане был тропический лес, и майя стали бороться с ним. Вокруг Греции плескались лазурные волны моря, и эллины побеждали их вызов. В России вызовомоказались леса и морозы; очевидно, англичанину представлялось страшным и то и другое, от чего мы отнюдь не страдаем. И дальше в этом роде.
Вторая группа вызовов– нападения иноземцев, которые, по мнению А. Тойнби, тоже стимулируют развитие цивилизаций. И наконец, третья группа – гниение предшествовавших цивилизаций, с которыми надо бороться. Например, развал эллино-римской цивилизации вызвал к жизни и византийскую и западноевропейскую как реакцию на безобразие,коему предавались выродившиеся греки.
Ну с чем здесь можно согласиться? С классификацией истории на 21 цивилизацию в 16 регионах? Нет! Ведь у А. Тойнби в один раздел попадают Византийская и Турецкая империи только потому, что они лежали на одной территории. Наследниками «Сирийской цивилизации», начавшейся до 1100 г. до н. э., т. е. в эпоху образования Иудейского царства, объявлены Ахеменидская империя и Арабский халифат, хотя между этими могучими государственными образованиями не было ничего общего, кроме территории, да и то не полностью. Зато Шумер и Вавилон зачислены в разные цивилизации. Короче говоря, тут произвол автора является руководящим принципом классификации. Говоря об «абортивных цивилизациях», А. Тойнби нелогично помещает туда ирландцев и несториан, хотя те и другие были периферией византийской (по его выражению «ортодоксально-христианской») цивилизации. Что же касается того, что цивилизация кочевников оказалась задержанной потому, что «господство над степью требует от кочевников так много энергии, что сверх этого ничего не остается» [270, стр. 167 – 169], то и это противоречит фактам. Кочевая культура как раз заслуживает того, чтобы быть отнесенной в разряд «абортивных», так как за 2000 лет четыре раза обрывалась под ударами соседей: китайцев, енисейских кыргызов и маньчжуров. При проверке – все наоборот.
Верно, что есть много мелких, неразвивающихся народов, но вовсе не потому, что они не способны усваивать что-либо ценное. Тунгусы и чукчи освоили спички, ружья и даже подвесные моторы. Очевидно, причина их стабильности не в направлении мимесиса, а в чем-то другом. Конечно, расизм – не научная концепция, но ничуть не логичнее построение А. Тойнби, по которому гении и герои появляются тогда, когда возникают какие-нибудь неприятности. Говоря о вызовеиноземного нашествия, А. Тойнби приводит как пример Австрию, которая будто бы потому перегнала Баварию и другие немецкие герцогства, что на нее напали турки [Там же, стр. 119]. Как известно, турки напали сначала на Болгарию, Сербию и Венгрию, и эти три общества ответили на их вызов капитуляцией. Австрию же отстояли от турок гусары Яна Собесского, которых турки в тот момент не вызывали. Приведенный пример говорит не в пользу концепции, а против нее.
И самое для нас важное – соотношение человека с ландшафтом – концепцией А. Тойнби запутано, а не решено. Его тезис, что суровая природа стимулирует человека к активности, с одной стороны, – вариант географического детерминизма, а с другой – просто неверен, потому что тогда центр, скажем, русской цивилизации должен был бы помещаться если не на Таймыре, где условия тяжеловаты, то в степях или лесах Заволжья, а не около Киева. Затем, если море, омывающее Грецию или Скандинавию, является вызовом,то почему греки давали на него ответтолько в VIII–V вв. до н. э., а скандинавы в IX–XIII вв. н. э.? А во все остальные эпохи не было ни победоносных эллинов, ни грозных викингов, а были ловцы губок или селедки. Видимо, дело тут не только в наличии моря.
Наконец, проверим концепцию преобразования природы. Шумерийцы и аккадские семиты сделали из Двуречья Эдем, а арабы все так запустили, что там теперь опять болото. Чего же арабы не ответили на вызовТигра и Евфрата? Это не объясняется и не может быть объяснено с точки зрения, принятой А. Тойнби. А ведь его концепция – пример наиболее разработанной социогеографической системы, оснащенной историческим материалом в 10 томах, обработанным в избранной автором проекции. Очевидно, в такой постановке вопроса чего-то не хватает, и действительно, начисто выпала проблема этнического своеобразия, вследствие чего слияние двух несоединимых наук породило даже не мула, хоть бесплодного, но работящего, а чудовище, явно нежизнеспособное, вроде мифического грифона. По-видимому, любые попытки двигаться этим путем не могут принести научных результатов.
Поставим вопрос по-иному: не как влияет на природу человечество, а как влияют на нее разные народы на разных стадиях своего развития? Этим мы вводим посредствующее звено, которого до сих пор не хватало. Тогда возникает новая опасность: если каждый народ, да еще в каждую эпоху своего существования влияет на природу по-особому, то обозреть этот калейдоскоп невозможно, и, отказавшись от заведомо неверных выводов, мы рискуем лишиться возможности сделать какие бы то ни было обобщения, а следовательно, и осмыслить исследуемое явление.
Но тут приходят на помощь обычные в естественных науках классификация и систематизация наблюдаемых фактов, что в гуманитарных науках не получило еще должного применения. Поэтому, говоря о народностях (этносах) в их отношении к ландшафту, мы остаемся на фундаменте географического народоведения, не переходя в область гуманитарной этнографии.
Отказавшись от основ этнической классификации, принятой в гуманитарных науках – расовой, общественной, материальнй культуры, религии и т. п., – мы должны выбрать исходный принцип и аспект, лежащие в географической науке. Таковым может быть явление биоценоза, под которым понимается «закономерный комплекс форм, исторически, экологически и физиологически связанных в одно целое общностью условий существования» [140, стр. 359]. Следовательно, люди также входят в биоценозы населяемых ими биохоров.
Биоценоз – образование устойчивое, формы, его составляющие, связаны воедино «цепью питания», т. е. одни виды питаются другими. «Цепь питания» обычно заканчивается крупным хищником или человеком. Характерной особенностью биоценозов является постоянная соразмерность между числом особей во всех формах, составляющих комплекс. Например, количество волков на данном участке зависит от количества зайцев и грызунов, а последние лимитируются количеством травы и воды. Соотношение это обычно колеблется в пределах допуска и нарушается редко и ненадолго.
Казалось бы, эта картина не имеет отношения к человеку, однако это не всегда так. Есть огромное количество этнических единиц, пусть численно ничтожных, входящих в состав биоценозов на тех или иных биохорах. По сравнению с этими мелкими народностями, или иногда просто племенами, современные и исторические цивилизованные этносы – левиафаны, но их мало и они, как показывает история, не вечны. Вот на этой основе мы и построили нашу первичную классификацию:
1) Этносы, входящие в биоценоз, вписывающиеся в ландшафт и ограниченные тем самым в своем размножении. Этот способ существования присущ многим видам животных, как бы остановившимся в своем развитии. Лишайники, т. е. симбиоз водоросли с грибом, существуют с кембрия, тараканы и стрекозы – с карбона, крокодилы – с триасового, а муравьи и термиты – с мелового периода [47, стр. 269, 285]. В зоологии эти виды называются персистентами, и нет никаких оснований не применить этот термин к этносам, застывшим на определенной точке развития культуры;
2) Этносы, интенсивно размножающиеся, расселяющиеся за границы своего биохора и изменяющие свой первичный биоценоз. Второе состояние в аспекте физической географии называется сукцессией [140, стр. 362].
Этносы, составляющие первую группу, консервативны и в отношении к природе и к ряду других закономерностей. Приведем несколько примеров.
Большинство североамериканских индейцев Канады в области прерий жили до прихода европейцев в составе биоценозов Северной Америки. Число людей в племенах определялось количеством оленей и бизонов, и для ограничения естественного прироста нормой общежития были истребительные межплеменные войны. Целью этих войн не был захват территорий, покорение соседей, экспроприация их имущества, политическое преобладание. Цель была только убийство ради убийства. Корни этого порядка уходят в глубокую древность, и биологическое назначение его ясно. Поскольку количество добычи не беспредельно, то важно обеспечить себе и своему потомству фактическую возможность убивать животных, а значит, избавиться от соперника. Это не были войны в нашем смысле, это была внутривидовая борьба, поддерживавшая определенный биоценоз. При таком подходе к природе, естественно, не могло быть и речи о внесении в нее каких-либо изменений, которые рассматривались как нежелательная порча природы, находящейся, по мнению индейцев, в зените совершенства.
Точно так же вели себя земледельческие племена, так называемые индейцы пуэбло, с той лишь разницей, что мясо диких зверей у них заменял маис. Они не расширяли своих полей, не пытались использовать речную воду для орошения, не совершенствовали свою технику. Они предпочитали ограничить прирост населения, предоставляя болезням уносить слабых детей, и тщательно воспитывали крепких, которые потом гибли в стычках с навахами и апахами. Вот и способ хозяйства иной, а отношение к природе то же самое! Остается только непонятным, почему навахи не переняли у индейцев пуэбло навыков земледелия, а те не заимствовали у соседей тактику сокрушительных набегов.
Впрочем, двоюродные братья апахов и навахов – ацтеки, принадлежащие к той же группе нагуа, с XI по XIV в. переселились на Мексиканское нагорье и весьма интенсивно изменили его ландшафт и рельеф. Они строили тео-калли (вариация рельефа), соорудили акведуки и искусственное озеро (техногенная гидрология), сеяли маис, табак, помидоры, картофель и много других полезных растений (флористическая вариация) и разводили кошениль – насекомое, дававшее прекрасный краситель темно-малинового цвета (фаунистическая вариация). Короче говоря, ацтеки изменяли природу, в то время когда апахи и навахи ее охраняли.
Можно было бы предположить, что тут решающую роль играл жаркий климат южной Мексики, хотя он не так уж отличался от климата берегов Рио-Гранде. Однако в самом центре Северной Америки, в долине Огайо, обнаружены грандиозные земляные сооружения – валы, назначение которых было неизвестно самим индейцам [126, стр. 146 – 163]. Очевидно, некогда там тоже жил народ, изменявший природу, и климатические условия ему не мешали, как не мешают они американцам англосаксонского происхождения.
Наряду с этим отметим, что одно из индейских племен – тлинкиты, а также алеуты практиковали рабовладение и работорговлю в широких размерах. Рабы составляли до трети населения северо-западной Америки, и некоторые тлинкитские богачи имели до 30 – 40 рабов. Рабов систематически продавали и покупали, использовали для грязной работы и жертвоприношений при похоронах и обряде инициации; рабыни служили хозяевам наложницами [125, стр. 238 – 239]. Но при всем этом тлинкиты были типичным охотническим племенем, т. е., по нашей классификации, относились к разряду консервативных, статических этносов.
Аналогичное положение было в северной Сибири. Народы угорской, тунгусской и палеоазиатской групп по характеру быта и хозяйства являлись как бы фрагментом ландшафта, завершающей составной частью биоценозов.
Точнее сказать, они «вписывались» в ландшафт. Некоторое исключение составляли якуты, которые при своем продвижении на север принесли с собой навыки скотоводства, привезли лошадей и коров, организовали сенокосы и тем самым внесли изменения в ландшафт и биоценоз долины Лены. Однако эта антропогенная сукцессия привела лишь к образованию нового биоценоза, который затем поддерживался в стабильном состоянии до прихода русских землепроходцев.
Совершенно иную картину представляет евразийская степь. Казалось бы, здесь, где основой жизни было экстенсивное кочевое скотоводство, изменение природы также не должно было бы иметь места. А на самом деле степь покрыта курганами, изменившими ее рельеф, стадами домашних животных, которые вытеснили диких копытных, и с самой глубокой древности в степях, пусть ненадолго, возникали поля проса. Примитивное земледелие практиковали хунны, тюрки и уйгуры. Здесь видно постоянно возникающее стремление к бережному преобразованию природы. Конечно, в количественном отношении, по сравнению с Китаем, Европой, Египтом и Ираном, оно ничтожно и даже принципиально отличается от воздействия на природу земледельческих народов тем, что кочевники пытались улучшить существующий ландшафт, а не преобразовать его коренным образом, но все-таки мы должны отнести евразийских кочевников к второму разряду нашей классификации, так же как мы отнесли туда ацтеков, но не тлинкитов, несмотря на то, что классовые отношения у последних были развиты несравненно больше. Как бы парадоксальны ни представлялись на первый взгляд эти выводы, но, чтобы получить научный результат исследования, мы должны выдержать наш принцип классификации строго последовательно.
Рассмотрение племен и народностей тропического пояса не принесет нам ничего принципиально нового в сравнении с уже известным материалом, и потому целесообразно обратиться к классическим примерам преобразования природы: Египту, Месопотамии и Китаю. Европу мы пока оставим в стороне, потому что нашей задачей является поиск закономерности, а ее можно подметить только на законченных процессах.
Согласно исследованиям Брукса, во время вюрмского оледенения атлантические циклоны проходили через северную Сахару, Ливан, Месопотамию, Иран и достигали Индии [142, стр. 44]. Тогда Сахара представляла собой цветущую степь, пересеченную многоводными реками, полную диких животных – слонов, гиппопотамов, газелей, диких быков, пантер, львов и медведей. Изображения этих животных, до сих пор украшающие скалы Сахары и далее Аравии, выполнены представителями современного человека, вида Homo sapiens [142, стр. 47]. Постепенное усыхание Сахары, связанное с перемещением направления циклонов на север, привело к тому, что древние обитатели Сахары обратили внимание на болотистую долину Нила, где среди дикорастущих трав по краям долины произрастали предки пшеницы и ячменя [142, стр. 67]. Неолитические племена освоили земледелие, а в эпоху освоения меди предки египтян приступили к систематической обработке земель в пойме Нила [142, стр. 93]. Процесс закончился объединением Египта под властью фараонов. Эта власть базировалась на огромных ресурсах уже преображенного ландшафта, который впоследствии принципиальных изменений не претерпевал, за исключением, конечно, архитектурных сооружений: каналов, плотин, пирамид и храмов, являвшихся, с нашей точки зрения, антропогенными формами рельефа. Однако изменения меньшего масштаба, например создание знаменитого фаюмского оазиса при XII династии, имели место до XXI династии, после чего Египет стал ареной иноземных вторжений. Нубийцы, ливийцы, ассирийцы, персы, македоняне, римляне черпали богатства Египта, а сами египтяне превратились в Феллахов, упорно поддерживавших биоценоз, созданный их предками.
Сходную картину можно наблюдать в Месопотамии, несмотря на некоторое количество физико-географических отличий. Земли, образовавшиеся из наносов Тигра и Евфрата на окраине Персидского залива, были плодородны, протоки и лагуны изобиловали рыбой и водяной птицей, финиковые пальмы росли в диком виде. Но освоение этого первобытного Эдема требовало напряженной работы. Пахотные земли приходилось создавать «отделяя воду от суши». Болота надо было осушать, пустыню орошать, а реки ограждать дамбами [142, стр. 179 – 180]. Эти работы произведены предками шумерийцев, которые были простыми земледельцами-скотоводами, не имевшими других средств к существованию. Они еще не знали письменности, не строили городов, не имели практически существенного классового разделения [142, стр. 191 – 192], но видоизменили ландшафт настолько основательно, что последующие поколения пользовались трудами их рук.
Не следует думать, что примитивные народы имеют преимущество перед цивилизованными в деле преобразования природы. В долине Инда в III тыс. до н. э. существовала доарийская цивилизация [142, стр. 281], похожая на древнеегипетскую и шумерийскую. Однако в Индии строители городов Мохенджодаро и Хараппы были разделены на классы, возможно связанные с расовой принадлежностью. В самом низу социальной лестницы находился примитивный «австралоидный» тип аборигенов южной Индии, выше – длинноголовый средиземноморский тип, близкий к шумерийцам, наверху – брахицефальный альпийский тип [142, стр. 265]. Вот пример того, что и народность, находящаяся на стадии классового общества, способна производить переустройство своей местности.
Итак, во всех описанных нами явлениях есть общая черточка: способность этноса иногда производить экстраординарные усилия. На что эти усилия направлены – другое дело; цель в нашем аспекте не учитывается. Важно лишь, что когда способность к сверхнапряжению слабеет, то созданный ландшафт только поддерживается, а когда эта способность исчезает, восстанавливается этно-ландшафтное равновесие, т. е. биоценоз данного биохора. Это бывает всегда и везде, независимо от масштабов произведенных перемен и от характера деятельности, созидательного или хищнического. А если так, то мы натолкнулись на новое, до сих пор не учтенное явление: изменение природы не результат постоянного воздействия народов на нее, а следствие кратковременных состояний в развитии самих народов, т. е. процессов творческих, тех же самых, которые являются стимулом этногенеза.








