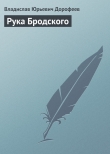Текст книги "Иосиф Бродский"
Автор книги: Лев Лосев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Кружок Уманского
Олег Шахматов, бывший военный летчик, способный музыкант и человек с авантюрной жилкой, был лет на шесть старше Иосифа. Они встретились случайно в 1957 году в редакции ленинградской молодежной газеты «Смена», куда и тот и другой пришли показать свои стихи. С детства питавший слабость к авиации Иосиф сошелся с Шахматовым довольно близко. Шахматов познакомил его с Александром Уманским [118]118
Сведениями о кружке Уманского я главным образом обязан Г. И. Гинзбургу-Воскову. См. также Шахматов 1997.
[Закрыть]. Уманский был богато одаренным дилетантом – он сочинял фортепьянные сонаты и статьи об элементарных частицах, писал трактаты по политической философии, увлекался оккультными науками, серьезно занимался индуизмом и практиковал хатха-йогу. Судя по воспоминаниям знакомых, Уманский обладал значительной харизмой и вокруг него всегда был кружок молодежи, включавший тех, кому хотелось обсуждать «вечные вопросы» вне узких рамок официальной идеологии, художников и музыкантов нонконформистского толка. Эти молодые люди были студентами или работали на случайных работах, но главным содержанием их жизни было раздобывание в то время труднодоступных книг по восточной философии и эзотерическому знанию и разговоры по поводу прочитанного. Наркотиками в этой среде еще не баловались, но выпивали и в подпитии нередко устраивали всякие дерзкие проделки (Бродский никогда не употреблял наркотиков, а пил, по крайней мере по меркам своего ленинградского окружения, весьма умеренно).
Из членов этого сугубо неформального кружка Бродский на всю жизнь сдружился с Георгием Гинзбургом-Восковым, «Гариком». А вот Уманский недолюбливал Бродского, отказывая ему в поэтическом даровании. В те годы (1958–1961) Бродского притягивала к Уманскому возможность поговорить на метафизические темы, но к моменту ареста он уже относился к лидеру кружка критически, полагал, что чрезмерное увлечение Уманского индийской философией, в которой «слишком многое построено на отрицании», вырождается в бесплодный нигилизм и, по существу, безверие. Если в «Исааке и Аврааме» есть прямые следы уроков эзотерики, полученных в кружке Уманского [119]119
Например, использование символики чисел в духе древнееврейской Каббалы. Сведения о Каббале Бродский мог также почерпнуть из статьи Владимира Соловьева в энциклопедии Брокгауза и Ефрона.
[Закрыть], то в более поздних произведениях шестидесятых годов встречаются резкие полемические выпады против того мистицизма, которым там увлекались:
...Дружба с бездной
представляет сугубо местный
интерес в наши дни. К тому же
это свойство несовместимо
с братством, равенством и, вестимо,
благородством невозместимо,
недопустимо в муже.
Иначе – верх возьмут телепаты,
буддисты, спириты, препараты,
фрейдисты, неврологи, психопаты.
Кайф, состояние эйфории,
диктовать нам будет свои законы.
Наркоманы прицепят себе погоны.
Шприц повесят вместо иконы
Спасителя и Святой Марии.
«Речь о пролитом молоке» (1967; КПЭ)
Есть мистика. Есть вера. Есть Господь.
Есть разница меж них. И есть единство.
«Два часа в резервуаре» (1965; ОВП)
Самаркандский эпизод
Что касается Шахматова, то после короткой отсидки за дебош в женском общежитии Ленинградской консерватории он уехал в Самарканд и поступил там в консерваторию [120]120
См. Волков 1998.С. 66.
[Закрыть]. В декабре 1960 года Бродский поехал туда навестить приятеля. Уманский дал ему свой очередной философский трактат для передачи Шахматову [121]121
По воспоминаниям Г. И. Гинзбурга-Воскова, это был политико-философский трактат, написанный в форме писем президенту Кеннеди.
[Закрыть].
Несколько недель, проведенные в Самарканде с лихим приятелем-авантюристом, имели серьезные последствия для дальнейшей судьбы Бродского. Однажды в вестибюле самаркандской гостиницы он увидел Мелвина Белли (Melvin Belli, 1907–1996). Белли был очень знаменитым американским адвокатом. Среди его клиентов были голливудские кинозвезды, в том числе Эррол Флинн, которым Бродский восхищался в детстве. Позднее, через три года после самаркандского эпизода, Белли защищал Джека Руби, застрелившего убийцу президента Кеннеди Ли Харви Освальда. Белли и сам снимался в кино. Бродский его узнал по запомнившемуся кадру из какого-то американского фильма. Импровизированно возник план передать с американцем рукопись Уманского для публикации за рубежом, но Белли эту просьбу из осторожности отклонил [122]122
В книге Белли и его спутника Дэнни Джонса о путешествии по СССР (Belli М. R, Jones D. R.Belli Looks at Life and Law in Russia. Indianapolis – New York: The Bobbs-Merrill Co., 1963) этот эпизод не упоминается.
[Закрыть].
Вслед за этим друзей осенил фантастический план побега за границу. Бродский, много лет спустя, описывал его так: купить билеты на маленький рейсовый самолет, после взлета оглушить летчика, управление возьмет Шахматов, и они перелетят через границу в Афганистан [123]123
См. Волков 1998.С. 66.
[Закрыть]. В воспоминаниях Шахматова этот план выглядит несколько более реалистическим. У него был пистолет. Когда летчик начнет выруливать на взлетную полосу, Шахматов, угрожая пистолетом, вытолкнет его из самолета; перелетят они не куда-то в Афганистан, откуда их выдали бы советским властям, а в Иран, на американскую военную базу в Мешхеде [124]124
Шахматов 1997.
[Закрыть]. Были куплены билеты на рейс Самарканд – Термез, но перед полетом Бродский устыдился намерения причинить вред ни в чем не повинному пилоту, и план был похерен (Шахматов пишет, что просто рейс отменили).
Год спустя Шахматов был арестован в Красноярске за незаконное хранение оружия. На следствии, стараясь избежать нового срока, который на этот раз мог быть большим, он заявил о существовании в Ленинграде «подпольной антисоветской группы Уманского» и назвал десятки имен тех, кто имел хотя бы какое-то отношение к Уманскому. Рассказал и о неосуществленном плане побега за границу вместе с Бродским. Вот тогда Бродский и был задержан, но, поскольку факта преступления не было, да и о намерении были только показания Шахматова, через два дня его отпустили. Однако самаркандскую эскападу ему припомнили на суде в 1964 году, и под пристальным наблюдением КГБ он оставался до выдворения из страны [125]125
Вот что писал два года спустя в официальной справке офицер ленинградского управления КГБ Волков:
«Шахматов и Уманский 25 мая 1962 года осуждены за антисоветскую агитацию на 5 лет лишения свободы каждый. Осуждены правильно. Участие же Бродского в этом деле выразилось в следующем:
С Шахматовым Бродский познакомился в конце 1957 года в редакции газеты «Смена» в г. Ленинграде. В разговоре узнал, что Шахматов также занимается литературной деятельностью. Это их и сблизило. Затем он познакомился и с Уманским и вместе с Шахматовым посещал его.
После осуждения Шахматова в 1960 году за хулиганство, последний по отбытии наказания уехал в Красноярск, а затем в Самарканд. Оттуда прислал Бродскому два письма и приглашал приехать к нему. При этом хвалил жизнь в Самарканде.
В конце декабря 1960 года Бродский выехал в Самарканд. Перед отъездом Уманский вручил Бродскому рукопись «Господин Президент» и велел передать Шахматову, что Бродский и сделал. Впоследствии они эту рукопись показали американскому журналисту Мельвину Белли и выяснили возможность опубликования рукописи за границей. Но не получив от Мельвина определенного ответа, рукопись забрали и больше никому не показывали.
Установлено также, что у Шахматова с Бродским имел место разговор о захвате самолета и перелете за границу. Кто из них был инициатором этого разговора – не выяснено. Несколько раз они ходили на самаркандский аэродром изучать обстановку, но в конечном итоге Бродский предложил Шахматову отказаться от этой затеи и вернуться в город Ленинград.
Уманский увлекался индийским философским учением йогов, являлся противником марксизма. Свои антимарксистские взгляды изложил в работе «Сверхмонизм» и других работах.
О Бродском Уманский показал, что читал его стихи и раскритиковал их. Считал Бродского болтуном. Об изменнических настроениях Шахматова и Бродского узнал только после их возвращения в Ленинград. Об антисоветских разговорах со стороны Бродского не показал. Бродский по делу Уманского и Шахматова не привлекался. Управлением КГБ по Ленинградской области с ним проведена профилактическая работа».
Публикация Ольги Эдельман, www.svoboda.org/programs/td/2001/td.060301.asp. Из справки видно, что офицер госбезопасности не имел представления о том, кто такой Белли, и даже не знал, что Мельвин – имя, а не фамилия.
[Закрыть]. Кто знает – может быть, и после.
Глава III
Ученик
Формирование стиля
К двадцати двум годам сверстники Бродского кончали университеты и институты и только начинали самостоятельную жизнь. Он в этом возрасте повидал страну, пожил жизнью ее простого народа, испытал на себе бессмысленные преследования со стороны государственной власти, научился не смешивать фантазии с реальностью и критически относиться к людям. Он также научился писать стихи.
В стихах восемнадцати-девятнадцатилетнего Бродского благодаря энергии и богатству воображения встречаются удачные строки, но в целом это все еще лишь юношеские опыты. Автор этих стихов, как многие в его возрасте, увлечен грандиозными абстракциями и романтически презирает обыденный мир. Ему нравятся красивые иностранные слова, и он заговаривается ими почти до глоссолалии:
Его воображение создает из мешанины экзотических книжек и кинофильмов величественные, но невнятные аллегории:
Мекка и Рим, бар как символ загадочной заграничной роскоши, и тут же синее солнце из научной фантастики, и «пилигримы / солнцем палимы» из хрестоматийного стихотворения нелюбимого Некрасова. В скандальных «Стихах под эпиграфом» (1958) лирический герой обозначен скотским и божественным началом – Бог или бык, человеческое опускается. В определенном возрасте так писали многие, почти все. Лермонтов в том же возрасте заявлял: «Я – или Бог, или никто!» Нет ничего странного в том, что такие стихи, да еще страстно прочитанные необычным, «струнным» голосом, очень нравились романтически настроенным мальчикам и девочкам. Необычно то, что ранний успех у сверстников не соблазнил Бродского застрять на этом этапе, что он шел в другом направлении, быстро освобождался от ходульной романтики. Уже лет в девятнадцать он начал догадываться, что стихи делаются не из эгоманиакальных мечтаний, а из жизни как она есть. Когда его стали таскать в КГБ, он уже знал, как следует вести себя на допросах:
Лирика повседневности, поэтические ресурсы просторечия, умение открывать метафизическую подоплеку в простом и обыденном – всему этому Бродский учился, и к 1962 году серьезные стихи такого рода стали решительно преобладать над абстрактно-романтическими. В этой школе у Бродского были учителя. Сам он позднее называл учителями своих старших друзей Евгения Рейна и Владимира Уфлянда. Повлияли на него в юности и другие яркие поэты этого поколения – Станислав Красовицкий, Глеб Горбовский и Владимир Британишский. Стихи последнего и подтолкнули совсем юного Иосифа к первым поэтическим опытам. Но, несомненно, главные уроки он извлек тогда из чтения Слуцкого.
Борис Слуцкий
Борис Абрамович Слуцкий (1919–1986) был самым крупным и самобытным поэтом военного поколения. Всю жизнь этот храбрый волевой человек был по политическим убеждениям коммунистом, но его беспощадно реалистические стихи совершенно не соответствовали требованиям официального «социалистического реализма». Поэтому печататься он стал только в период послесталинской «оттепели», с середины пятидесятых годов, но и тогда самые политически острые его вещи оставались достоянием самиздата. Несмотря на марксистские взгляды, в стихах Слуцкого сквозили идеи универсального гуманизма и метафизической справедливости. Вторая половина пятидесятых была периодом расцвета его творчества, когда почти все молодые поэты в какой-то степени испытали на себе его влияние. Бродский едва ли не больше всех. В апреле 1960 года он ездил в Москву познакомиться со Слуцким и, видимо, Слуцкий сказал ему нечто одобрительное. Стихотворение «Лучше всего / спалось на Савеловском...» кончается словами благодарности поэту:
До свиданья, Борис Абрамыч.
До свиданья. За слова – спасибо [129]129
Там же. С. 35 (в СИБ-2не включено). Очень вероятно, что это стихотворение Бродского является откликом на стихотворение Слуцкого «Сон»: «Утро брезжит, а дождик брызжет. / Я лежу на вокзале в углу...» [впервые напечатано в журнале «Знамя» (1956. № 7)]. Помимо общей темы – сон на вокзале – просматриваются и пародийные моменты: Слуцкий пишет, что принимает свою участь «как планиду и как звезду», Бродский – что «видел только одну планету: / оранжевую планету циферблата». В концовке этого популярного стихотворения Слуцкого к автору сходит с пьедестала «привокзальный Ленин», у Бродского «голубоглазые вологодские Саваофы» шарят по карманам автора, пытаясь найти запрятанные червонцы (с портретом Ленина). Таким образом «за слова – спасибо» может иметь и другое значение. О добродушно-ироническом отношении Бродского к Слуцкому лично см.: Сергеев 1997.С. 439. Современного читателя может смутить иронический оттенок некоторых высказываний Бродского и других поэтов его круга о Слуцком. Это связано с тем, что коммунистические иллюзии Слуцкого молодежь воспринимала как наивное чудачество. В особенности скептическое отношение к любимому поэту как человеку усилилось после того, как в 1958 г. он, раздираемый противоречиями между «партийным долгом» и личной порядочностью, все же присоединил свой голос к официальной травле Пастернака.
[Закрыть].
К. К. Кузьминский вспоминает, как он показал Бродскому зимой 1959 года свои первые стихи. Вместо оценки и совета Бродский прочел ему «Кельнскую яму» Слуцкого: вот как надо писать [130]130
Кузьминский К.Лауреат «Эрики» // Русская мысль. 1987. № 3697. 30 окт. С. 11. В статье ошибочно назван 1958 г.
[Закрыть]. Слуцкого Иосиф помнил всю жизнь. Как правило, когда заходила речь о Слуцком, он читал по памяти «Музыку над базаром»:
Я вырос на большом базаре
в Харькове,
Где только урны
чистыми стояли,
Поскольку люди торопливо харкали
И никогда до урн не доставали.
Я вырос на заплеванном, залузганном,
Замызганном,
Заклятом ворожбой,
Неистовою руганью
заруганном,
Забоженном
истовой божбой.
Лоточники, палаточники
пили
И ели,
животов не пощадя.
А тут же рядом деловито били
Мальчишку-вора,
в люди выводя.
Здесь в люди выводили только так.
И мальчик под ударами кружился,
И веский катерининский пятак
На каждый глаз убитого ложился.
Но время шло – скорее с каждым днем,
И вот —
превыше каланчи пожарной,
Среди позорной погани базарной,
Воздвигся столб
и музыка на нем.
Те речи, что гремели со столба,
И песню —
ту, что со столба звучала,
Торги замедлив,
слушала толпа
Внимательно,
как будто изучала.
И сердце билось весело и сладко.
Что музыке буржуи – нипочем!
И даже физкультурная зарядка
Лоточников
хлестала, как бичом [131]131
Первая публикация в журнале «Знамя» (1957. № 2).
[Закрыть].
Бродского в Слуцком привлекали не социалистические мотивы, хотя антибуржуазности он и сам был не чужд, а сила стиха. Слуцкий открыл свободное пространство между выдохшимися стиховыми формами девятнадцатого века и камерным чистым экспериментаторством. Оказывается, достаточно только чуть-чуть варьировать классические размеры – и стих, не разваливаясь, приобретает гибкость. Бродский начинает, вслед за Слуцким, осваивать нетронутые ресурсы русского классического стиха [132]132
В период до 1972 г. это выразилось прежде всего в необычайно разнообразной и оригинальной строфике. См. подробный обзор Шерр 2002.
[Закрыть]. Постепенно он начнет также убирать или прибавлять слог-другой, превращая классический размер в дольник. Так, например, преображается заунывный затертый анапест в большинстве стихотворений цикла «Часть речи» (1975–1976). Слуцкий показал, что далеко еще не исчерпаны ресурсы богатых, но не броских, не отвлекающих без нужды внимание на себя рифм. В частности, таковы глагольные рифмы, когда в них вовлечены опорные (предударные) согласные (стояли-доставали, пили-били, кружился-ложился,а в звучала-изучалаомофония приближается к полной). В литературных кружках предостерегали против всех глагольных рифм скопом как бедных, грамматических.
Вообще притворяющийся почти прозой стих Слуцкого насквозь пронизан скрепляющими его ткань поэтическими приемами – аллитерациями, ассонансами, анафорами (ср. За-во второй строфе процитированного стихотворения), парономазиями (сближением слов по звучанию), каламбурами и прочим. Своего рода поклоном учителю, который научил его использовать игровую стихию стиха для серьезных, неигровых задач, служит начало поэмы Бродского «Исаак и Авраам» (июнь 1962 года). Там обыгрывается разница между библейским именем Исаак и его русифицированным вариантом Исак: «По-русски Исаак теряет звук. <...> Исак вообще огарок той свечи, / что всеми Исааком прежде звалась» ( ОВП).У Слуцкого было небольшое стихотворение на эту тему:
Прославляют везде Исаака,
Возглашают со всех алтарей.
А с Исаком обходятся всяко
И пускают не дальше дверей [133]133
Слуцкий Б. А.Собрание сочинений. Т. 1. М.: Художественная литература, 1991. С. 71. В этом же стихотворении Слуцкий рифмует предлог (немногое от– господ),что стало «фирменным» приемом у Бродского.
[Закрыть].
Важный урок, воспринятый Бродским у Слуцкого, относится к тому, как строить стихотворение, к семантической структуре текста. Слуцкий начинает «Музыку на базаре» с крайне грубой картины, рассказанной грубыми словами, а заканчивает, казалось бы, не изменяя стиля повествования, едва прикрытой евангельской цитатой: музыка бичует лоточников, как Христос, изгоняющий торгующих из храма. Бродский тоже будет сближать в своих стихах физиологическое, вульгарное с абстрактно-философским, метафизическим. У него новый Дант, как творец вселенной из ничего, ставит на пустое место слово, но это сакральное Слово рифмуется с профанным и грубым «херово» («Похороны Бобо», 1972). Нередко он начинает стихотворение с фотографического запечатления неприглядной реальности – убогого интерьера или собственного скверного самочувствия – и ведет его к открытию духовного порядка, хотя далеко не всегда утешительному и обнадеживающему. Такова структура и маленького стихотворения «Я обнял эти плечи и взглянул...» (1962), и большого «Натюрморт» (1971), хотя чаще прямая, «снизу вверх», последовательность лирического сюжета уступает место более сложным построениям.
Самое существенное, однако, что унаследовал Бродский от Слуцкого, или, по крайней мере, от того, что он прочитывал в Слуцком, это – общая тональность стиха, та стилистическая доминанта, которая выражает позицию, принятую автором по отношению к миру. Об этом Бродский говорил в 1985 году: «Слуцкий почти в одиночку изменил тональность послевоенной русской поэзии. <...> Ему свойственна жесткая, трагичная и равнодушная интонация. Так обычно говорят те, кто выжил, если им вообще охота говорить о том, как они выжили, или о том, где они после этого оказались» [134]134
Выступление на симпозиуме, посвященном 40-летию окончания Второй мировой войны. Times Literary Supplement(London), № 4285 (17 May 1985). P. 544.
[Закрыть].
Ленинградские литературные кружки
В ранней юности Бродский избежал нивелирующей и подавляющей воображение школы официальных «литкружков», он самостоятельно осваивал поэтическое наследие – неравномерно, но свободно. Как и всякий начинающий художник, он, однако, ощущал потребность в постоянном живом общении с другом-ментором. В компании талантливых дилетантов, с Александром Уманским в центре, одаренных поэтов не было. Во второй половине пятидесятых и в начале шестидесятых годов в Ленинграде молодые поэты тяготели либо к литературному объединению при Горном институте, о котором говорилось выше, либо к компании, более или менее связанной с литобъединением при филологическом факультете ЛГУ. Если у «горных» поэтов были сильно на них влиявшие учителя, Глеб Семенов и Давид Дар [135]135
Д. Я. Дар (1910–1980) руководил литературным кружком при доме культуры «Трудовые резервы», но направлял своих лучших учеников к Семенову. Фактически оба этих литератора были менторами молодых поэтов-«горняков». См. воспоминания В. Л. Британишского «Похищение Прозерпины Плутоном» в кн.: Под воронихинскими сводами / Сост. В. А. Царицын. СПб.: Изд-во журнала «Нева», 2003. С. 13–44.
[Закрыть], то к литературному объединению филфака были приставлены официальные надзиратели, и поэтому основные чтения стихов и сопутствовавшие им разговоры «филологов» имели место не на заседаниях объединения, а в комнатах коммунальных квартир – у Леонида Виноградова, Владимира Уфлянда или автора этих строк. Впрочем, «горняков» тоже можно было встретить на «филологических» сходках, серьезного антагонизма между этими группами не было. Разными были эстетические векторы. Семенов воспитывал своих учеников в достаточно консервативной традиции, тогда как предоставленные сами себе «филологи» считали себя восстановителями и продолжателями прерванного в тридцатые годы русского авангарда.
Этим определялось и разное отношение к поэтам двух групп со стороны старшего поколения интеллигенции: «горняков» принимали всерьез, старались по мере возможности помочь им с публикациями, тогда как «филологическое» творчество считалось немного инфантильной игрой. Впрочем, стихи «филологов» Владимира Уфлянда и Сергея Куллэ, благодаря их оригинальному юмору, тоже благосклонно воспринимались интеллигентными читателями старшего поколения. В горняцкую среду, в особенности после вышеупомянутого конфликта с Г. С. Семеновым, Бродский не был вхож. В 1959–1960 годах он познакомился с Леонидом Виноградовым, Владимиром Уфляндом и Михаилом Ереминым, которые и составляли ядро того, что впоследствии было названо «филологической школой», хотя на филологическом факультете из этих троих учился только Еремин. Бродский подружился с Уфляндом и на всю жизнь сохранил любовь к его стихам с их необычным сплавом пародии и сентиментального лиризма. Его восхищала и ненавязчивая, но необычайно изобретательная поэтическая техника Уфлянда, и если он впоследствии называл Уфлянда одним из своих учителей, то это следует понимать очень конкретно: поэтика рифмы у Бродского во многом повторяет и развивает сделанное Уфляндом в конце пятидесятых годов. Но вообще-то в «филологической» компании к нему относились добродушно-иронически, серьезного отношения к своим ранним стихам он там не встретил. Была, однако, в молодой ленинградской поэзии того периода еще одна яркая и самобытная фигура – поэт, чья литературная позиция не связывала его слишком тесно ни с «филологами», ни с «горняками», Евгений Рейн.
Евгений Рейн: искусство элегии
Бродский, когда он пишет о других поэтах, не слишком стремится проникнуть в то, что составляет неповторимо-личностное ядро другого.Он исходит из представления о том, что существуют некие лирические универсалии, равно стимулирующие творчество Вергилия, Цветаевой, Одена или тех поэтов-современников, предисловия к книжкам которых ему приходилось писать в последние годы жизни. Поэтому в статьях о поэтах он безоговорочно проецирует собственный опыт, собственные стилистические пристрастия и предубеждения на других. В результате мы имеем два типа эссе. Одни, написанные по внутренней необходимости, показывают нам, как Бродский воспринимает Вергилия, Цветаеву, Одена и прочих интересных ему поэтов, другие, некоторое количество написанных по необходимости предисловий, читать приходится по принципу «мухи отдельно, котлеты отдельно», поскольку автор откровенно пишет о собственном опыте, благодушно распространяя его и на другого поэта, сказать о котором нечто конкретное он избегает. Небольшое эссе о Рейне, написанное в 1991 году в качестве предисловия к «Избранному», стоит здесь особняком [136]136
В кн.: Рейн Е. Б.Избранное. М.; Париж – Нью-Йорк: Третья волна, 1992. Поучительный анализ статей, предисловий и отзывов Бродского о поэтах дан в Полухина 2003.
[Закрыть]. Нигде метод идентификации с описываемым поэтом не был так оправдан, как здесь.
Прежде всего Бродский выделяет элегию как жанр, определяющий лирику Рейна. «Элегия – жанр ретроспективный и в поэзии наиболее распространенный. Причиной тому отчасти свойственное любому человеческому существу ощущение, что бытие обретает статус реальности главным образом постфактум, отчасти – тот факт, что самое движение пера по бумаге есть, говоря хронологически, процесс ретроспективный» [137]137
Там же. С. 6.
[Закрыть]. Элегичность действительно выделяла Рейна из круга молодых ленинградских поэтов. Жанром, которому отдавалось предпочтение в этом кругу, было то, что в старину называлось «мелким стихотворением», лирическая миниатюра, направленная на то, чтобы уловить сиюминутное переживание, впечатление, наблюдение, мысль. Талантливые поэты писали в рамках этого жанра очень разные стихи. Сопоставить натуралистические картинки советского быта у «горняка» Леонида Агеева, эзотеричные благодаря формированию метафоры из разнородного и в значительной степени научного материала восьмистишия Михаила Еремина и психологически сложные, но лапидарно оформленные интроспекции Александра Кушнера трудно, но они одноприродны по жанру. У этих и других талантливых поэтов, названных и не названных выше, сиюминутное переживание в удачном стихотворении фиксируется во всем богатстве психологических нюансов, не передаваемых такими слишком общими словами, как «радость», «печаль» и т. п. Рейн, который был на пять лет старше Бродского, подтолкнул друга не к формальному, а к мировоззренческому выбору. Элегия, ностальгический по своей сущности жанр, имеет дело не с настоящим, а с прошлым, то есть с проблемой времени – не с жизнью как таковой, а с жизнью в виду смерти. Любое поэтическое творчество необходимо только тогда, когда другие формы дискурса оказываются неадекватны. В этом смысле raison d'etre элегии вытекает из известного высказывания Витгенштейна о том, что рассуждать о смерти невозможно, поскольку «смерть не является событием жизни» [138]138
Wittgenstein L.Notebooks:1914–1916. Chicago: The University of Chicago Press, 1979. P. 75.
[Закрыть]. Там, где бессильно рассуждение, возможен лирический текст. У элегического творчества есть и еще одна подоплека – неразрешимая проблема языка и времени: любое писание «процесс ретроспективный». Эта проблема волновала романтиков с точки зрения неполной адекватности любого текста непосредственному переживанию, так как текст всегда «после»; Бродского же здесь волнует не столько выразимость или невыразимость эмоций, сколько, если можно так выразиться, «неостановимость мгновения».
Остановись, мгновенье! Ты не столь
прекрасно, сколько ты неповторимо.
(«Зимним вечером в Ялте», ОВП)
По счастливому совпадению, приблизительно тогда же, когда началось знакомство с Рейном, Бродский открыл для себя Баратынского. Встретившись с Рейном после вызванного эмиграцией шестнадцатилетнего перерыва в 1988 году, Бродский на вопрос старого друга: «А что тебя подтолкнуло к стихам?» – ответил: «Году в пятьдесят девятом я прилетел в Якутск и прокантовался там две недели, потому что не было погоды. Там же, в Якутске, я помню, гуляя по этому страшному городу, зашел в книжный магазин и в нем я надыбал Баратынского – издание „Библиотеки поэта“. Читать мне было нечего, и когда я нашел эту книжку и прочел ее, тут-то я все понял: чем надо заниматься» [139]139
Рейн Е. Б.Человек в пейзаже // Арион. 1996. № 3. С. 34. Рейн брал у Бродского интервью для несостоявшегося документального фильма. Книга, о которой говорит Бродский, это: Баратынский Е. А.Полное собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1957. Тема «Бродский и Баратынский» освещена в статье Ефима Курганова «Бродский и искусство элегии» в кн.: Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. С. 166-185.
[Закрыть]. «Чем надо заниматься» вслед за Баратынским, свое понимание современного элегического творчества Бродский расшифровывает в заметке об этом поэте: «Он никогда не бывает субъективным и автобиографичным, а тяготеет к обобщению, к психологической правде. Его стихотворения – это развязки, заключения, постскриптумы к уже имевшим место жизненным или интеллектуальным драмам, а не изложение драматических событий, зачастую скорее оценка ситуации, чем рассказ о ней. <...> Стих Баратынского преследует свою тему с почти кальвинистским рвением, да и в самом деле эта тема сплошь и рядом – далекая от совершенства душа, которую автор изображает по подобию своей собственной» [140]140
An Age Ago.P. 159.
[Закрыть].