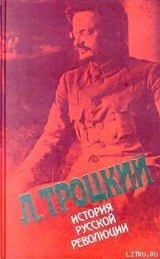
Текст книги "История русской революции. Том II, часть 1"
Автор книги: Лев Троцкий
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Показания двух свидетелей, которые были в то же время главными участниками приключения, исчерпывают фактическую сторону дела. Но это нисколько не мешало враждебной большевикам печати излагать случай с Черновым и «покушение» на арест Керенского, как наиболее убедительные доказательства организации большевиками вооруженного восстания. Не было недостатка и в ссылках на то, особенно в устной агитации, что арестом Чернова руководил Троцкий. Эта версия докатывалась даже до Таврического дворца. Сам Чернов, который довольно близко к действительности изложил обстоятельства своего получасового ареста в секретном следственном документе, воздерживался, однако, от каких бы то ни было публичных выступлений на эту тему, чтобы не мешать своей партии сеять негодование против большевиков. К тому же Чернов входил в состав правительства, которое посадило Троцкого в «Кресты». Соглашатели могли бы, правда, сослаться на то, что кучка темных заговорщиков не отважилась бы на столь дерзкий замысел, как арест министра в толпе среди бела дня, если бы не надеялась, что враждебность массы к «потерпевшему» явится для нее достаточным прикрытием. Так оно, до известной степени, и было. Никто в окружении автомобиля не делал, по собственной инициативе, попытки освободить Чернова. Если бы, в довершение к этому, арестовали где-нибудь и Керенского, ни рабочие, ни солдаты, конечно, не огорчились бы. В этом смысле моральное соучастие масс в действительных и мнимых покушениях на социалистических министров было налицо и давало опору для обвинений по адресу кронштадтцев. Но выдвинуть этот откровенный довод мешала соглашателям забота об остатках их демократического престижа: враждебно отгораживаясь от демонстрантов, они ведь продолжали все-таки возглавлять систему рабочих, солдатских и крестьянских советов в осажденном Таврическом дворце.
В 8-м часу вечера генерал Половцев по телефону обнадежил Исполнительный комитет: две казачьи сотни, при орудиях, выступили к Таврическому дворцу. Наконец-то! Но ожидания и на этот раз были обмануты. Телефонные звонки в ту и в другую сторону только сгущали панику: казаки бесследно исчезли, точно испарились, вместе с лошадьми, седлами и скорострельными пушками. Милюков пишет, что к вечеру начали обнаруживаться «первые последствия правительственных обращений к войскам»: так, на выручку Таврического дворца спешил будто бы 176-й полк. Эта столь точная по внешности ссылка очень любопытна для характеристики тех qui pro quo (лат. – недоразумений – Ред.), которые неизбежно возникают в первый период гражданской войны, когда лагери еще только начинают размежевываться. К Таврическому дворцу действительно прибыл походным порядком полк: ранцы и скатанные шинели за спиною, манерки и котелки сбоку. Солдаты в пути промокли и устали: они пришли из Красного Села. Это и был 176-й полк. Но он совсем не собирался выручать правительство: связанный с межрайонцами, полк выступил под руководством двух солдат-большевиков, Левинсона и Медведева, чтобы добиваться власти советов. Руководителям Исполнительного комитета, сидевшим как на угольях, немедленно донесли, что перед окнами располагается на заслуженный отдых пришедший издалека в полном порядке, с офицерами, полк. Дан, носивший форму военного врача, обратился к командиру с просьбой дать караулы для охраны дворца. Караулы были вскоре действительно поставлены. Дан, надо думать, с удовлетворением сообщил об этом президиуму, откуда факт попал в газетные отчеты. Суханов издевается в своих «Записках» над покорностью, с какою большевистский полк принял к исполнению распоряжение меньшевистского лидера: лишнее доказательство «бессмысленности» июльской демонстрации! В действительности дело обстояло и проще и сложнее. Получив предложение о караулах, командир полка обратился к дежурному помощнику коменданта, юному поручику Пригоровскому. На беду Пригоровский был большевиком, членом межрайонной организации, и сейчас же обратился за советом к Троцкому, который, с небольшой группой большевиков, занимал наблюдательный пункт в одной из боковых комнат дворца. Пригоровский получил, разумеется, совет немедленно расставить, где следует, караулы: гораздо выгоднее иметь у входов и выходов друзей, чем врагов. Таким образом 176-й полк, явившийся для демонстрации против власти, охранял эту власть от демонстрантов. Если бы дело действительно шло о восстании, поручик Пригоровский без труда арестовал бы весь Исполнительный комитет, имея четырех солдат за спиною. Но никто не думал об аресте, солдаты большевистского полка добросовестно несли караулы.
После того как казачьи сотни, единственное препятствие на пути к Таврическому дворцу, оказались сметены, многим демонстрантам представлялось, что победа обеспечена. На самом деле главное препятствие сидело в самом Таврическом дворце. На объединенном заседании исполкомов, которое началось в шестом часу вечера, присутствовало 90 представителей от 54 фабрик и заводов. Пять ораторов, которым, по соглашению, было предоставлено слово, начинали с протестов против того, что демонстранты клеймятся в воззваниях Исполкома как контрреволюционеры. «Вы видите, что написано на плакатах, – говорит один. – Таковы решения, вынесенные рабочими… Мы требуем ухода 10 министров-капиталистов. Мы доверяем Совету, но не тем, кому доверяет Совет… Мы требуем, чтобы немедленно была взята земля, чтобы немедленно был учрежден контроль над промышленностью, мы требуем борьбы с грозящим нам голодом». Другой дополнял:
«Перед вами не бунт, а вполне организованное выступление. Мы требуем перехода земли к крестьянам. Мы требуем, чтобы были отменены приказы, направленные против революционной армии… Сейчас, когда кадеты отказались с вами работать, мы спрашиваем вас, с кем вы еще будете сторговываться? Мы требуем, чтобы власть перешла в руки Советов». Пропагандистские лозунги манифестации 18 июня стали теперь вооруженным ультиматумом масс. Но соглашатели были уже слишком тяжелыми цепями прикованы к колеснице имущих. Власть советов? Но это значит прежде всего смелая политика мира, разрыв с союзниками, разрыв с собственной буржуазией, полная изоляция, гибель в течение нескольких недель. Нет, ответственная демократия не станет на путь авантюр! «Нынешние обстоятельства, – говорил Церетели, – делают невозможным в петроградской атмосфере выполнить какие-либо новые решения». Остается поэтому «признать правительство в том составе, в котором оно осталось… Назначить чрезвычайный съезд советов через две недели… в таком месте, где он мог бы работать беспрепятственно, лучше всего в Москве».
Но ход собрания непрерывно нарушается. В дверь Таврического дворца стучатся путиловцы: они подтянулись только к вечеру, усталые, раздраженные, в крайнем возбуждении. «Церетели, подавай сюда Церетели!» Тридцатитысячная масса посылает во дворец своих представителей, кое-кто кричит им вдогонку, что, если Церетели не выйдет добровольно, придется вывести его насильно. От угрозы до действия еще не близко, но дело принимает все же слишком острый оборот, и большевики спешат вмешаться. Зиновьев впоследствии рассказывал: «Наши товарищи предложили мне выйти к путиловцам… Море голов, какого я еще не видал. Сгрудилось несколько десятков тысяч человек. Крики „Церетели“ продолжались… Я начал: „Вместо Церетели вышел к вам я“. Смех. Это переломило настроение. Я смог произнести довольно большую речь… В заключение я и эту аудиторию призвал немедленно мирно расходиться, соблюдая полный порядок, и ни в каком случае не давать себя провоцировать на какие-нибудь агрессивные действия. Собравшиеся бурно аплодируют, строятся в ряды и начинают расходиться». Этот эпизод как нельзя лучше передает и остроту недовольства масс, и отсутствие у них наступательного плана, и действительную роль партии в июльских событиях.
В то время как Зиновьев объяснялся с путиловцами на улице, в зал заседаний бурно вступила многочисленная группа путиловских делегатов, некоторые с ружьями. Члены исполнительных комитетов вскакивают с мест. «Иные не проявляют достаточно храбрости и самообладания», – пишет Суханов, оставивший яркое описание этого драматического момента. Один из рабочих, классический санкюлот, в кепке и короткой синей блузе без пояса, с винтовкой в руке", вскакивает на ораторскую трибуну, дрожа от волнения и гнева… «Товарищи! Долго ли терпеть нам, рабочим, предательство? Вы заключаете сделки с буржуазией и помещиками… Нас тут, путиловцев, 30 тысяч человек… Мы добьемся своей воли!»… Чхеидзе, перед носом которого плясала винтовка, проявил выдержку. Спокойно наклонившись со своего возвышения, он всовывал в дрожащую руку рабочего печатное воззвание: «Вот, товарищ, возьмите, пожалуйста, прошу вас – и прочтите. Тут сказано, что надо делать товарищам-путиловцам»… В воззвании не было сказано ничего, кроме того, что демонстранты должны отправляться по домам, иначе они будут предателями революции. Да и что другое оставалось сказать меньшевикам?
В агитации под стенами Таврического дворца, как и вообще в агитационном вихре того периода, большое место занимал Зиновьев, оратор исключительной силы. Его высокий теноровый голос в первый момент удивлял, а затем подкупал своеобразной музыкальностью. Зиновьев был прирожденный агитатор. Он умел заражаться настроением массы, волноваться ее волнениями и находить для ее чувств и мыслей, может быть, несколько расплывчатое, но захватывающее выражение. Противники называли Зиновьева наибольшим демагогом среди большевиков. Этим они обычно отдавали дань наиболее сильной его черте, т. е. способности проникать в душу демоса и играть на ее струнах. Нельзя, однако, отрицать того, что, будучи только агитатором, не теоретиком, не революционным стратегом, Зиновьев, когда его не сдерживала внешняя дисциплина, легко соскальзывал на путь демагогии, уже не в обывательском, а в научном смысле этого слова, т. е. проявлял склонность жертвовать длительными интересами во имя успехов момента. Агитаторская чуткость Зиновьева делала его чрезвычайно ценным советником, поскольку дело касалось конъюнктурных политических оценок, но не глубже этого. На собраниях партии он умел убеждать, завоевывать, завораживать, когда являлся с готовой политической идеей, проверенной на массовых митингах и как бы насыщенной надеждами и ненавистью рабочих и солдат. Зиновьев способен был, с другой стороны, во враждебном собрании, даже в тогдашнем Исполнительном комитете, придавать самым крайним и взрывчатым мыслям обволакивающую, вкрадчивую форму, забираясь в головы тех, которые относились к нему с заранее готовым недоверием. Чтобы достигать таких неоценимых результатов, ему мало было одного лишь сознания своей правоты; ему необходима была успокоительная уверенность в том, что политическая ответственность снята с него надежной и крепкой рукою. Такую уверенность давал ему Ленин. Вооруженный готовой стратегической формулой, вскрывающей самую суть вопроса, Зиновьев находчиво и чутко наполнял ее свежими, только что перехваченными на улице, на заводе или в казарме возгласами, протестами, требованиями. В такие моменты это был идеальный передаточный механизм между Лениным и массой, отчасти между массой и Лениным. За своим учителем Зиновьев следовал всегда, за вычетом совсем немногих случаев; но час разногласий наступал как раз тогда, когда решалась судьба партии, класса, страны. Агитатору революции не хватало революционного характера. Поскольку дело шло о завоевании голов и душ, Зиновьев оставался неутомимым бойцом. Но он сразу терял боевую уверенность, когда становился лицом к лицу с необходимостью действия. Тут он отшатывался от массы, как и от Ленина, реагировал только на голоса нерешительности, подхватывал сомнения, видел одни препятствия, и его вкрадчивый, почти женственный голос, теряя убедительность, выдавал внутреннюю слабость. Под стенами Таврического дворца в июльские дни Зиновьев был чрезвычайно деятелен, находчив и силен. Он поднимал до самых высоких нот возбуждение масс – не для того, чтобы звать к решающим действиям, а, наоборот, чтобы удерживать от них. Это отвечало моменту и политике партии. Зиновьев был полностью в своей стихии.
Сражение на Литейном создало в развитии демонстрации резкий перелом. Никто уже не глядел на шествие из окон или с балконов. Более солидная публика, осаждая вокзалы, покидала город. Уличная борьба превращалась в разрозненные стычки без определенных целей. В ночные часы шли рукопашные схватки демонстрантов с патриотами, беспорядочные разоружения, переход винтовок из рук в руки. Группы солдат из расстроенных полков действовали вразброд. «Присосавшиеся к ним темные элементы и провокаторы подбивали их на анархические действия», – прибавляет Подвойский. В поисках виновников стрельбы из домов группы матросов и солдат производили повальные обыски. Под предлогом обысков кое-где вспыхивали грабежи. С другой стороны, начались погромные действия. Торговцы яростно набрасывались на рабочих в тех частях города, где чувствовали себя в силе, и беспощадно избивали их. «С криками „Бей жидов и большевиков, в воду их“, – рассказывает Афанасьев, рабочий с завода Новый Лесснер, – толпа набросилась на нас и здорово поколотила». Один из пострадавших умер в больнице, самого Афанасьева, избитого и окровавленного, матросы вытащили из Екатерининского канала…
Столкновения, жертвы, безрезультатность борьбы и неосязаемость ее практической цели – все это исчерпало движение. Центральный Комитет большевиков постановил: призвать рабочих и солдат прекратить демонстрацию. Теперь этот призыв, немедленно доведенный до сведения Исполнительного комитета, почти не встречал уже сопротивления в низах. Массы схлынули на окраины и не собирались завтра возобновлять борьбу. Они почувствовали, что с вопросом о власти советов дело обстоит гораздо сложнее, чем им казалось.
Осада с Таврического дворца была окончательно снята, прилегающие улицы стояли пусты. Но бдение исполнительных комитетов продолжалось, с перерывами, тягучими речами, без смысла и цели. Только позже обнаружилось, что соглашатели чего-то дожидались. В соседних помещениях все еще томились делегаты заводов и полков. «Уже перевалило далеко за полночь, – рассказывает Метелев, – а мы все ждем „решения“… Мучась от усталости и голода, мы бродили по Александровскому залу… В четыре часа утра на пятое июля нашим ожиданиям был положен конец… В раскрытые двери главного подъезда дворца с шумом врывались вооруженные офицеры и солдаты». Все здание оглашается медными звуками марсельезы. Топот ног и гром инструментов в этот предутренний час вызывают в зале заседаний чрезвычайное волнение. Депутаты вскакивают с мест. Новая опасность? Но на трибуне Дан… «Товарищи, – провозглашает он. – Успокойтесь! Никакой опасности нет! Это пришли полки, верные революции». Да, это пришли наконец долгожданные верные войска. Они занимают проходы, злобно набрасываются на остающихся еще во дворце немногих рабочих, отбирают оружие, у кого оно есть, арестовывают, уводят. На трибуну поднимается поручик Кучин, видный меньшевик, в походной форме. Председательствующий Дан принимает его в свои объятия при победных звуках оркестра. Задыхаясь от восторга и испепеляя левых торжествующими взглядами, соглашатели хватают друг друга за руки, широко раскрывают рты и вливают свой энтузиазм в звуки марсельезы. «Классическая сцена начала контрреволюции!» – гневно бросает Мартов, который умел многое замечать и понимать. Политический смысл сцены, запечатленной Сухановым, станет еще многозначительнее, если напомнить, что Мартов принадлежал к одной партии с Даном, для которого эта сцена была высшим торжеством революции.
Только теперь, наблюдая бьющую ключом радость большинства, левое крыло начало понимать по-настоящему, насколько изолирован оказался верховный орган официальной демократии, когда подлинная демократия вышла на улицу. Эти люди в течение 36 часов по очереди исчезали за кулисы, чтобы из телефонной будки сноситься со штабом, с Керенским на фронте, требовать войск, звать, убеждать, умолять, снова и снова посылать агитаторов и снова ждать. Опасность прошла, но инерция страха осталась. И топот «верных» в пятом часу утра прозвучал в их ушах, как симфония освобождения. С трибуны раздались, наконец, откровенные речи о счастливо подавленном вооруженном мятеже и о необходимости расправиться на этот раз с большевиками до конца. Отряд, вступивший в Таврический дворец, не прибыл с фронта, как показалось многим сгоряча: он был выделен из состава петроградского гарнизона, преимущественно из трех наиболее отсталых гвардейских батальонов: Преображенского, Семеновского и Измайловского. 3 июля они объявили себя нейтральными. Тщетно пытались взять их авторитетом правительства и Исполнительного комитета: солдаты угрюмо сидели по казармам, выжидая. Только во вторую половину 4 июля власти открыли, наконец, сильнодействующее средство: преображенцам показали документы, доказывающие, как дважды два, что Ленин – немецкий шпион. Это подействовало. Весть пошла по полкам. Офицеры, члены полковых комитетов, агитаторы Исполнительного комитета заработали вовсю. Настроение нейтральных батальонов переломилось. К рассвету, когда в них не было уже никакой надобности, удалось собрать их и провести по безлюдным улицам к опустевшему Таврическому дворцу. Марсельезу исполнял оркестр Измайловского полка, того самого, на который, как наиболее реакционный, возложена была 3 декабря 1905 года задача арестовать первый Петроградский Совет рабочих депутатов, заседавший под председательством Троцкого. Слепой режиссер исторических постановок на каждом шагу достигает поразительных театральных эффектов, нимало не ища их: он просто отпускает вожжи логике вещей.
* * *
Когда улицы очистились от масс, молодое правительство революции расправило свои подагрические члены: арестовывались представители рабочих, захватывалось оружие, отрезался один район города от другого. Около 6 часов утра у помещения редакции «Правды» остановился автомобиль, нагруженный юнкерами и солдатами с пулеметом, который тут же был поставлен на окно. После ухода непрошеных гостей редакция представляла картину разрушения: ящики столов сломаны, пол завален изорванными рукописями, телефоны оборваны. Караульные и служащие редакции и конторы были избиты и арестованы. Еще большему разгрому подверглась типография, на которую рабочие в течение последних трех месяцев собирали средства: ротационные машины разрушены, испорчены монотипы, разбиты клавиатурные машины. Напрасно большевики обвиняли правительство Керенского в недостатке энергии!
«Улицы, вообще говоря, пришли в норму, – пишет Суханов. – Сборищ и уличных митингов почти нет. Магазины почти все открыты». С утра распространяется воззвание большевиков о прекращении демонстрации, последний продукт разрушенной типографии. Казаки и юнкера арестовывают на улицах матросов, солдат, рабочих и отправляют их в тюрьмы и на гауптвахты. В лавочках и на тротуарах говорят о немецких деньгах. Арестовывают всякого, кто замолвит слово в пользу большевиков. «Уже нельзя объявить, что Ленин – честный человек: ведут в комиссариат». Суханов, как всегда, выступает внимательным наблюдателем того, что происходит на улицах буржуазии, интеллигенции, мещанства. Но по-иному выглядят рабочие кварталы. Фабрики и заводы еще не работают. Настроение тревожное. Разносятся слухи, что прибыли с фронта войска. Улицы Выборгского района покрываются группами, обсуждающими, как быть в случае нападения. «Красногвардейцы и вообще заводская молодежь, – рассказывает Метелев, – готовятся проникнуть к Петропавловской крепости на поддержку отрядам, находящимся в осаде. Запрятывая ручные бомбы в карманы, в сапоги, за пазуху, они переправляются на лодках через реку, частью через мосты». Наборщик Смирнов, из коломенской части, вспоминает: «Видел, как по Неве прибывали буксиры с гардемаринами из Дудергофа и Ораниенбаума. Часам к двум положение стало выясняться в скверную сторону… Видел, как поодиночке, закоулками, возвращались в Кронштадт матросы… Распространяли версию, что все большевики – немецкие шпионы. Травля поднята была гнусная». Историк Милюков резюмирует с удовлетворением: «Настроение и состав публики на улицах совершенно переменились. К вечеру Петроград был совершенно спокоен».
Пока войска с фронта еще не успели подойти, штаб округа, при политическом содействии соглашателей, продолжал маскировать свои намерения. Днем пожаловали во дворец Кшесинской на совещание с вождями большевиков члены Исполнительного комитета во главе с Либером: один этот визит свидетельствовал о самых мирных чувствах. Достигнутое соглашение обязывало большевиков увести матросов в Кронштадт, вывести роту пулеметчиков из Петропавловской крепости, снять с постов броневики и караулы. Правительство обещало, с своей стороны, не допускать каких бы то ни было погромов и репрессий в отношении большевиков и выпустить всех арестованных, за исключением совершивших уголовные деяния. Но соглашение продержалось недолго. По мере распространения слухов о немецких деньгах и приближающихся с фронта войсках в гарнизоне обнаруживалось все больше частей и частиц, вспоминавших о своей верности демократии и Керенскому. Они посылали делегатов в Таврический дворец или в штаб округа. Начали наконец действительно прибывать эшелоны с фронта. Настроение в соглашательских сферах свирепело с часу на час. Прибывшие с фронта войска готовились к тому, что столицу придется с кровью вырывать у агентов кайзера. Теперь, когда в войсках не оказалось никакой надобности, приходилось оправдывать их вызов. Чтобы не подпасть самим под подозрение, соглашатели изо всех сил старались показать командирам, что меньшевики и эсеры принадлежат к одному с ними лагерю и что большевики – общий враг. Когда Каменев попытался напомнить членам президиума Исполнительного комитета о заключенном несколько часов тому назад соглашении, Либер ответил в тоне железного государственного человека: «Теперь соотношение сил изменилось». Из популярных речей Лассаля Либер знал, что пушка – важный элемент конституции. Делегация кронштадтцев, во главе с Раскольниковым, несколько раз вызывалась в Военную комиссию Исполкома, где требования, повышавшиеся с часу на час, разрешились ультиматумом Либера: немедленно согласиться на разоружение кронштадтцев. «Уйдя с заседания Военной комиссии, – рассказывает Раскольников, – мы возобновили наше совещание с Троцким и Каменевым. Лев Давыдович (Троцкий) посоветовал немедленно и тайком отправить кронштадтцев домой. Было принято решение разослать товарищей по казармам и предупредить кронштадтцев о готовящемся насильственном разоружении». Большинство кронштадтцев уехали своевременно; остались только небольшие отряды в доме Кшесинской и в Петропавловской крепости.
С ведома и согласия министров-социалистов князь Львов еще 4-го отдал генералу Половцеву письменное распоряжение «арестовать большевиков, занимающих дом Кшесинской, очистить его и занять войсками». Теперь, после разгрома редакции и типографии, вопрос о судьбе центральной квартиры большевиков встал очень остро. Надо было привести особняк в оборонительное состояние. Комендантом здания Военная организация назначила Раскольникова. Он понял задачу широко, по-кронштадтски, послал требования о доставке пушек и даже о присылке в устье Невы небольшого военного корабля. Этот свой шаг Раскольников объяснял впоследствии следующим образом: «Конечно, с моей стороны были сделаны военные приготовления, но только на случай самообороны, так как в воздухе пахло не только порохом, но и погромами… Я, полагаю, не без основания, считал, что достаточно ввести в устье Невы один хороший корабль, чтобы решимость Временного правительства значительно пала». Все это довольно неопределенно и не слишком серьезно. Скорее приходится предположить, что в дневные часы 5 июля руководители Военной организации, и Раскольников с ними, еще не оценили полностью перелома обстановки, и в тот момент, когда вооруженная демонстрация должна была спешно отступать назад, чтобы не превратиться в навязанное врагом вооруженное восстание, кое-кто из военных руководителей сделал несколько случайных и необдуманных шагов вперед. Молодые кронштадтские вожди не первый раз хватали через край. Но можно ли сделать революцию без участия людей, которые хватают через край? И разве известный процент легкомыслия не входит необходимой частью во все большие человеческие дела? На этот раз все ограничилось одними распоряжениями, вскоре к тому же отмененными самим Раскольниковым. В особняк стекались тем временем все более тревожные вести: один видел, что в окнах дома на противоположном берегу Невы наведены пулеметы на дом Кшесинской; другой наблюдал колонну бронированных автомобилей, направлявшихся сюда же; третий сообщал о приближении казачьих разъездов. К командующему округом посланы были для переговоров два члена Военной организации. Половцев заверил парламентеров, что разгром «Правды» произведен без его ведома и что против Военной организации он не готовит никаких репрессий. На самом деле он лишь дожидался достаточных подкреплений с фронта.
В то время как Кронштадт отступал, Балтийский флот в целом только еще готовился к наступлению. В финляндских водах стояла главная часть флота, с общим количеством до 70 тысяч моряков; в Финляндии был расположен, кроме того, армейский корпус, на заводе в порту Гельсингфорса работало до 10 тысяч русских рабочих. Это был внушительный кулак революции. Давление матросов и солдат было так непреодолимо, что даже гельсингфорсский комитет социалистов-революционеров высказался против коалиции, в результате чего все советские органы флота и армии в Финляндии единодушно потребовали, чтобы Центральный исполнительный комитет взял власть в свои руки. На поддержку своего требования балтийцы готовы были в любой момент двинуться в устье Невы; их сдерживало, однако, опасение ослабить линию морской обороны и облегчить немецкому флоту нападение на Кронштадт и Петроград. Но тут произошло нечто совсем непредвиденное. Центральный комитет Балтийского флота – так называемый Центробалт – созвал 4 июля экстренное заседание судовых комитетов, на котором председатель Дыбенко огласил два только что полученных командующим флотом секретных приказа, за подписью помощника морского министра Дударова: первый обязывал адмирала Вердеревского выслать к Петрограду четыре миноносца, дабы силой не допустить высадки мятежников со стороны Кронштадта; второй требовал от командующего флотом, чтобы он ни под каким видом не допустил выхода из Гельсингфорса судов в Кронштадт, не останавливаясь перед потоплением непокорных кораблей подводными лодками. Попав меж двух огней и озабоченный прежде всего сохранением собственной головы, адмирал забежал вперед и передал телеграммы Центробалту с заявлением, что не выполнит приказа, даже если Центробалт приложит к нему свою печать. Оглашение телеграммы потрясло моряков. Правда, они по всяким поводам немилосердно бранили Керенского и соглашателей. Но это было, в их глазах, внутренней советской борьбой. Ведь в Центральном исполнительном комитете большинство принадлежало тем самым партиям, что и в областном комитете Финляндии, который только что высказался за власть советов. Ясно: ни меньшевики, ни эсеры не могут одобрить потопление кораблей, выступающих за власть Исполнительного комитета. Каким же образом старый морской офицер Дударев мог вмешаться в семейный советский спор, чтобы превратить его в морское сражение? Вчера еще большие корабли официально считались опорой революции в противовес отсталым миноносцам и едва затронутым пропагандой подводным лодкам. Неужели же власти собираются теперь всерьез при помощи подводных лодок топить корабли! Эти факты никак не укладывались в упрямые матросские черепа. Приказ, который не без основания казался им кошмарным, был, однако, законным июльским плодом мартовского семени. Уже с апреля меньшевики и эсеры начали апеллировать к провинции против Петрограда, к солдатам против рабочих, к коннице против пулеметчиков. Они давали ротам более привилегированное представительство в советах, чем заводам; покровительствовали мелким и разрозненным предприятиям в противовес металлическим гигантам. Представляя вчерашний день, они искали опоры в отсталости всех видов. Теряя почву, они натравливали арьергард на авангард. Политика имеет свою логику, особенно во время революции. Теснимые со всех сторон, соглашатели оказались вынуждены поручить адмиралу Вердеревскому потопить наиболее передовые корабли. На беду соглашателей отсталые, на которых они хотели опереться, все больше стремились равняться по передовым; команды подводок оказались не менее возмущены приказом Дударова, чем команды броненосцев.
Во главе Центробалта стояли люди отнюдь не гамлетического склада: совместно с членами судовых комитетов они, не теряя времени, вынесли решение: эскадренный миноносец «Орфей», намечавшийся для потопления кронштадтцев, срочно послать в Петроград, во-первых, для получения сведений о том, что там происходит, во-вторых, «для ареста помощника морского министра Дударова». Как ни неожиданно может показаться это решение, но оно с особенной силой свидетельствует о том, насколько балтийцы все еще склонны были считать соглашателей внутренним противником, в противоположность какому-нибудь Дударову, которого они считали общим врагом. «Орфей» вошел в устье Невы через 24 часа после того, как здесь причалили 10 тысяч вооруженных кронштадтцев. Но «соотношение сил изменилось». Весь день команде не позволяли высадиться. Только вечером делегация в составе 67 моряков от Центробалта и судовых команд была допущена на объединенное заседание исполнительных комитетов, подводившее первые итоги июльским дням. Победители купались в своей свежей победе. Докладчик Войтинский не без удовольствия рисовал часы слабости и унижения, чтобы тем ярче представить воспоследовавшее торжество. «Первая часть, пришедшая нам на помощь, – говорил он, – это броневые машины. У нас было твердое решение в случае насилия со стороны вооруженной банды открыть огонь… Видя всю опасность, грозящую революции, мы дали приказ некоторым частям (на фронте) грузиться и направляться сюда…» Большинство высокого собрания дышало ненавистью к большевикам, особенно к матросам. В эту атмосферу попали балтийские делегаты, снабженные приказом арестовать Дударова. Диким воем, грохотом кулаков по столам, топотом ног встретили победители оглашение резолюции Балтфлота. Арестовать Дударева? Но доблестный капитан первого ранга только выполнил священный долг по отношению к революции, которой они, матросы, мятежники, контрреволюционеры, наносят удар в спину. Особым постановлением объединенное заседание торжественно солидаризировалось с Дударовым. Матросы глядели на ораторов и друг на друга широко раскрытыми глазами. Только теперь они начинали понимать, что происходит перед ними. Вся делегация была на другой день арестована и довершала свое политическое воспитание в тюрьме. Вслед за этим арестован был прибывший вдогонку председатель Центробалта, морской унтер-офицер Дыбенко, а потом и адмирал Вердеревский, вызванный в столицу для объяснений.








