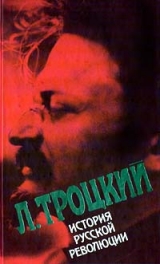
Текст книги "История русской революции. Том I"
Автор книги: Лев Троцкий
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Одна за другой приходили радостные вести о победах: появились свои броневики! Под красными знаменами они наводили по районам ужас на всех еще не покорившихся. Теперь уже не нужно проползать под брюхом казачьей лошади. Революция становится во весь рост!
Часам к двенадцати дня Петроград снова стал полем военных действий: ружейная и пулеметная стрельба раздавалась всюду. Кто и где стреляет, не всегда можно разобрать. Ясно одно: перестреливаются прошлое и будущее. Немало и зряшной стрельбы: подростки палят из неожиданно доставшихся револьверов. Разбит арсенал: «говорят, одних браунингов разобрали по рукам несколько десятков тысяч». От горевших зданий окружного суда и полицейских участков тянулись к небесам столбы дыма. В некоторых пунктах стычки и перестрелки сгущались до настоящих сражений. На Сампсониевском проспекте к баракам, занятым самокатчиками, часть которых толпится в воротах, подходят рабочие. «Что же стоите, товарищи?» Солдаты улыбаются, «нехорошо улыбаются», свидетельствует один из участников, молчат, офицеры грубо приказывают рабочим проходить дальше. Самокатчики, как и кавалеристы, являлись и в Февральской революции и в Октябрьской наиболее консервативными частями армии. Перед забором скопляются скоро рабочие и революционные солдаты. Надо вывести подозрительный батальон! Кто-то сообщает, что послано за броневиками: иначе не взять, пожалуй, самокатчиков, которые укрепились, выставив пулеметы. Но массе трудно ждать: она тревожно нетерпелива и в своем нетерпении права. Прозвучали первые выстрелы с обеих сторон. Но мешает дощатый забор, отделяющий солдат от революции. Наступающие решили свалить забор. Часть свалили, а часть подожгли. Бараки обнажились, числом около двадцати. Самокатчики сосредоточились в двух-трех. Свободные бараки были тут же подожжены. Через шесть лет Каюров будет вспоминать: «Пылающие бараки и сваленный окружающий их забор, пулеметная и ружейная стрельба, возбужденные лица осаждающих, примчавшийся грузовик, наполненный вооруженными революционерами, и, наконец, явившийся броневик со сверкающими дулами орудий представляли собой великолепнейшую, незабываемую картину». Это старая царская крепостная, поповско-полицейская Россия горела бараками и заборами, исходила огнем и дымом, издыхала в икотке пулеметной стрельбы. Как же было не восторгаться Каюрову, десяткам, сотням, тысячам Каюровых! Прибывший броневик дал несколько пушечных выстрелов по бараку с засевшими в нем офицерами и самокатчиками. Командующий защитой был убит, офицеры, сняв погоны и знаки отличия, бежали через прилегающие к баракам огороды, остальные сдались. Пожалуй, это было самое крупное из столкновений дня.
Военное восстание получило тем временем эпидемический характер. Не восстали в этот день только те части, которые не успели восстать. К вечеру примкнули солдаты Семеновского полка, знаменитого зверским усмирением московского восстания 1905 года: одиннадцать лет не прошли бесследно! Вместе с егерями семеновцы уже совсем ночью сняли измайловцев, которых начальство держало запертыми в казармах: этот полк, окруживший и арестовавший 3 декабря 1905 года первый Петроградский Совет, считался и теперь еще одним из отсталых. Царский гарнизон столицы, насчитывавший полтораста тысяч солдат, расползался, таял, исчезал. К ночи он уже не существовал.
После утреннего известия о восстании полков Хабалов пытается еще оказать сопротивление, направив против восставших сводный отряд, около 1000 человек, с самыми драконовскими инструкциями. Но судьба отряда принимает таинственный характер. «Начинает твориться в этот день нечто невозможное, – рассказывает после переворота несравненный Хабалов. – Отряд двинут, двинут с храбрым офицером, решительным, – речь идет о полковнике Кутепове, – но… результатов нет». Посланные вслед этому отряду роты также пропадали бесследно. Генерал начал формировать резервы на Дворцовой площади, но «не было патронов и неоткуда было их добыть». Это все из подлинных показаний Хабалова перед следственной комиссией Временного правительства. Куда же девались все-таки усмирительные отряды? Нетрудно догадаться: они сейчас же по выступлении тонули в восстании. Рабочие, женщины, подростки, восставшие солдаты облепляли хабаловские отряды со всех сторон, либо считая их своими, либо стремясь сделать их такими, и не давали им двигаться иначе, как вместе с необозримой толпой. Сражаться с этой плотно облепившей, уже ничего не боящейся, неисчерпаемой, всепроникающей массой можно было так же мало, как и фехтовать в тесте.
Одновременно с донесениями о восстании новых и новых полков шли требования надежных частей для усмирения восставших, для охраны телефонной станции. Литовского замка, Мариинского дворца и других еще более священных мест. Хабалов по телефону требовал прислать надежные части из Кронштадта, но комендант ответил, что сам опасается за крепость. Хабалов еще не знал, что восстание перекинулось и на соседние гарнизоны. Генерал пытался или делал вид, что пытается превратить Зимний дворец в редут, но план сейчас же был оставлен, как неосуществимый, и последняя горсточка «верных» войск перешла в адмиралтейство. Там диктатор озаботился наконец совершить наиболее важное и неотложное дело: напечатать для обнародования два последних правительственных акта – об уходе Протопопова «по болезни» и об осадном положении в Петрограде. С последним действительно приходилось торопиться, так как уже через несколько часов армия Хабалова сняла «осаду» с Петрограда и разбежалась из адмиралтейства по домам. Только по неведению революция не арестовала еще 27-го вечером снабженного грозными полномочиями, но совсем не страшного генерала. Это было без осложнений сделано на следующий день.
Неужели же это и есть все сопротивление грозной императорской России перед лицом смертельной опасности? Да, почти все, несмотря на великий опыт расправы с народом и на тщательно разработанные планы. Позже опамятовавшиеся монархисты объясняли легкость февральской победы народа особым характером петроградского гарнизона. Но весь дальнейший ход революции опровергает это объяснение. Правда, еще в начале рокового года камарилья подсказывала царю мысль о необходимости обновить гарнизон столицы. Царь дал без труда себя убедить в том, что гвардейская кавалерия, считавшаяся особо преданной, достаточно «долго пробыла в огне» и заслужила отдых в своих петроградских казармах. Однако после почтительных представлений фронта царь согласился на замену четырех полков конной гвардии тремя гвардейскими экипажами матросов. По версии Протопопова, замена была произведена будто бы без согласия царя, с вероломным умыслом со стороны командования: «Матросы набраны из рабочих и представляют самый революционный элемент в армии». Но это явный вздор. Просто высшее гвардейское офицерство, особенно кавалерийское, делало слишком хорошую карьеру на фронте, чтобы стремиться в тыл. Кроме того, оно должно было не без страха думать о предназначавшихся ему усмирительных функциях во главе полков, ставших на фронте совсем иными, чем были на столичном плацу. Как показали вскоре события на фронте, конная гвардия уже не отличалась в это время от остальной конницы, а переведенные в столицу матросы-гвардейцы отнюдь не играли активной роли в февральском перевороте. Все дело в том, что ткань режима окончательно сгнила, не осталось ни одной живой нитки…
В течение 27 февраля освобождены толпой без жертв политические арестованные из многочисленных столичных тюрем, в их числе патриотическая группа военно-промышленного комитета, арестованная 26 января, и члены Петербургского комитета большевиков, захваченные Хабаловым 40 часов тому назад. Политическое размежевание происходит сейчас же за воротами тюрьмы: меньшевики-патриоты направляются в Думу, где распределяются роли и посты; большевики идут в районы, к рабочим и солдатам, чтобы заканчивать с ними завоевание столицы. Нельзя давать врагу передышку. Революцию больше, чем всякое другое дело, надо доводить до конца.
Кто надоумил вести восставшие полки в Таврический дворец, ответить нельзя. Такой политический маршрут вытекал из всей обстановки. К Таврическому дворцу, как средоточию оппозиционной информации, естественно тяготели все элементы радикализма, не связанные с массами. Весьма вероятно, что именно эти элементы, внезапно почувствовавшие 27-го приток жизненных сил, выступали в качестве проводников восставшей гвардии. Эта роль была почетной и уже почти безопасной. Дворец Потемкина по всему своему расположению оказался как нельзя более подходящим в качестве центра революции. Одной только улицей Таврический сад отделен от целого военного городка, где расположены гвардейские казармы и размещен ряд военных учреждений. Правда, в течение многих лет эта часть города считалась и правительством и революционерами военным оплотом монархии. Да так оно и было. Но сейчас все повернулось. Из гвардейского сектора вышло солдатское восстание. Восставшим частям достаточно было пересечь улицу, чтобы упереться в сад Таврического дворца, который лишь одним кварталом отделен от Невы. А за Невою простирается Выборгский район, паровой котел революции: рабочим достаточно пройти по Александровскому мосту, а если он разведен, по льду Невы, чтобы попасть в гвардейские казармы или в Таврический дворец. Так этот разнородный и противоречивый по происхождению северо-восточный треугольник Петербурга: гвардия, дворец Потемкина и гиганты заводы, плотно сомкнулся в плацдарм революции.
В здании Таврического дворца уже создаются или намечаются разные центры, в том числе и полевой штаб восстания. Нельзя сказать, чтобы он имел очень серьезный характер. «Революционные» офицеры, т. е. офицеры, чем-нибудь, хотя бы недоразумением связанные в прошлом с революцией, но благополучно проспавшие восстание, спешат после его победы напомнить о себе или, по прямому призыву других, являются «на службу революции». Они глубокомысленно обозревают положение и пессимистически покачивают головами. Ведь эти взбудораженные толпы солдат, часто безоружных, совсем не боеспособны. Ни артиллерии, ни пулеметов, ни связи, ни командиров. Врагу достаточно одной крепкой части! Сейчас революционные толпы препятствуют, правда, каким бы то ни было планомерным операциям на улицах. Но на ночь рабочие уйдут к себе, обыватель затихнет, город опустеет. Если Хабалов ударит крепкой частью по казармам, он может оказаться хозяином положения. Эта мысль, кстати сказать, проходит в дальнейшем в разных вариантах через все этапы революции. Дайте мне крепкий полк, будут не раз говорить в своем кругу лихие полковники, и я смету вам в два счета всю эту нечисть. Некоторые, как увидим, попробуют. Но всем придется повторять слова Хабалова: «Отряд двинут, с храбрым офицером, но… результатов нет».
Да и откуда им быть? Самый непоколебимый из всех возможных отрядов составляли полицейские и жандармы, отчасти учебные команды некоторых полков. Но они оказывались жалкими перед натиском подлинных масс, как бессильными окажутся георгиевские батальоны и юнкерские училища через восемь месяцев, в октябре. Откуда было монархии достать эту спасительную воинскую часть, готовую и способную вступить в длительное и безнадежное единоборство с двухмиллионным городом? Революция кажется предприимчивым на словах полковникам беззащитной, потому что она еще ужасающе хаотична: везде движения без цели, встречные потоки, людские водовороты, изумленные, точно внезапно оглохшие фигуры, расхлястанные шинели, жестикулирующие студенты, солдаты без ружей, ружья без солдат, стреляющие вверх подростки, тысячеголосый шум, вихри необузданных слухов, фальшивых страхов, ложных радостей – стоит, кажется, занести над всем этим хаосом саблю, и все брызнет по сторонам без остатка. Но это была грубая ошибка зрения. Хаос только кажущийся. Под ним идет непреодолимая кристаллизация масс по новым осям. Эти неисчислимые толпы еще не определили для себя достаточно ясно, чего они хотят, но зато они пропитаны жгучей ненавистью к тому, чего больше не хотят. За их спиною уже непоправимый исторический обвал. Назад возврата нет. Если бы даже было кому разогнать их, они через час стали бы собираться снова, и второй прибой был бы более неистовым и кровавым. С февральских дней атмосфера Петрограда станет так накалена, что каждая враждебная воинская часть, попавшая в этот мощный очаг или только приблизившаяся к нему и опаленная его дыханием, преображается, теряет уверенность в себе, чувствует себя парализованной и без боя сдается на милость победителя. В этом убедится завтра генерал Иванов, присланный царем с фронта с батальоном георгиевских кавалеров. Через пять месяцев та же участь постигнет генерала Корнилова. Через восемь – Керенского.
На улицах в предшествующие дни казаки казались наиболее податливыми: это потому, что их больше всего дергали. Но когда дело дошло до прямого восстания, конница еще раз оправдала свою консервативную репутацию, оказавшись позади пехоты, 27-го она еще сохраняла видимость выжидательного нейтралитета. Если Хабалов на нее уже не надеялся, то революция ее все еще опасалась.
Загадкой оставалась пока и Петропавловская крепость на островке, омываемом Невою, против Зимнего и великокняжеских дворцов. За своими стенами гарнизон крепости являлся или казался наиболее огражденным от внешних влияний мирком. Постоянной артиллерии в крепости нет, если не считать старинной пушки, ежедневно возвещающей петроградцам полдень. Но сегодня на стенах выставлены полевые орудия, наведенные на мост. Что там готовят? В Таврическом штабе ночью ломают себе голову над тем, как быть с Петропавловкой, а в крепости мучаются вопросом, что сделает с ними революция. Наутро загадка разрешится: «на условии неприкосновенности офицерского состава» крепость сдастся Таврическому дворцу. Разобравшись в положении, что было не так трудно, офицеры крепости поторопятся предупредить неизбежный ход событий.
К вечеру 27-го в Таврический дворец тянутся солдаты, рабочие, студенты, обыватели. Здесь надеются найти тех, которые все знают, получить сведения или указания. Во дворец сносят с разных сторон оружие охапками и складывают в одной из комнат, превращенной в арсенал. Тем временем революционный штаб в Таврическом приступает ночью к работе. Он рассылает команды для охраны вокзалов и разведки по всем направлениям, откуда можно ждать опасности. Солдаты охотно и беспрекословно, хоть и крайне беспорядочно, выполняют распоряжения новой власти. Они требуют только каждый раз письменного приказа: инициатива исходит, вероятно, от оставшихся при полках осколков командного состава или от военных писарей. Но они правы: нужно немедля вносить порядок в хаос. У революционного штаба, как и у только что возникшего Совета, нет еще никаких печатей. Революции предстоит еще только обзаводиться бюрократическим хозяйством. С течением времени она это сделает, увы, с избытком.
Революция начинает поиски врагов. По городу идут аресты, «самопроизвольные», будут укоризненно говорить либералы. Но вся революция самопроизвольна. В Таврический дворец приводят и приводят задержанных: председателя Государственного совета, министров, городовых, агентов охранки, «германофильскую» графиню, жандармских офицеров целыми выводками. Некоторые сановники, как Протопопов, придут сюда сами арестоваться: так надежнее. "Стены зала, звучавшего хвалебными гимнами абсолютизму, слыхали ныне лишь вздохи и рыдания, – будет позже рассказывать выпущенная на волю графиня. – Арестованный генерал без сил опустился на соседний стул. Несколько членов Думы любезно предложили мне чашку чая. Потрясенный до глубины души генерал говорил волнуясь: «Графиня, мы присутствуем при гибели великой страны!»
Тем временем не собиравшаяся гибнуть великая страна проходила мимо бывших людей, стуча сапогами, громыхая прикладами, потрясая воздух кликами и наступая на ноги. Революции всегда отличались неучтивостью: вероятно потому, что господствующие классы не озабочивались своевременно привитием народу хороших манер. Таврический становится временной ставкой, правительственным центром, арсеналом, арестантским замком революции, еще не отершей крови и пота с лица. Сюда, в этот водоворот пробираются и предприимчивые враги. Случайно обнаружен переодетый жандармский полковник, ведущий в углу свои записи, не для истории, а для военно-полевых судов. Солдаты и рабочие хотят покончить с ним тут же. Но люди из «штаба» вступаются и легко выводят жандарма из толпы. В это время революция еще благодушна, доверчива, мягкосердечна. Она станет беспощадной только после долгого ряда измен, обманов и кровавых испытаний.
Первая ночь победоносной революции исполнена тревоги. Импровизированные комиссары вокзалов и других пунктов, в большинстве своем из случайной интеллигенции, по личным связям, выскочки, шапочные знакомые революции – унтер-офицеры, особенно из рабочих, были бы куда полезнее! – начинают нервничать, видят всюду опасности, нервируют солдат и без конца телефонируют в Таврический, требуя подкреплений. Там тоже волнуются, телефонируют, посылают подкрепления, которые чаще всего не доходят. «Те, что получают приказы, – рассказывает один из участников ночного таврического штаба, – не выполняют их; те, что действуют, – действуют без приказа».
Без приказа действуют рабочие кварталы. Революционные вожаки, выводившие свои заводы, захватывавшие участки, снимавшие затем полки и громившие убежища контрреволюции, не спешат в Таврический, в штабы, в руководящие центры, наоборот, с иронией и недоверием кивают в эту сторону: уже слетаются молодчики на дележ шкуры не ими убитого и еще не добитого медведя. Рабочие-большевики, как и лучшие рабочие других левых партий, проводят дни на улицах, ночи в районных штабах, держат связь с казармой, подготовляют завтрашний день. В первую ночь победы они продолжают и развивают ту работу, которую выполняли в течение всех этих пяти суток. Они составляют молодой костяк революции, слишком еще рыхлой, как всякая революция на первых порах.
Набоков, уже знакомый нам член кадетского центра, состоявший в это время легализованным дезертиром в генеральном штабе, как всегда, отправился 27-го на службу и оставался в канцелярии, ничего не зная о событиях, до трех часов. Вечером на Морской слышались выстрелы, – Набоков слушал их из своей квартиры, – проносились броневики, отдельные солдаты и матросы пробегали, прижимаясь к стенам, – почтенный либерал наблюдал их из боковых окон тамбура. «Телефон продолжал работать, и сведения о происходившем в течение дня передавались мне, помнится, моими друзьями. В обычное время мы легли спать». Этот человек будет скоро одним из вдохновителей Революционного (!) Временного правительства, под видом управляющего его делами. На улице к нему завтра подойдет незнакомый старик, какой-нибудь конторщик или, может быть, учитель, снимет шляпу и скажет: «Спасибо вам за все, что вы сделали для народа». Набоков об этом со скромной гордостью расскажет сам.
КТО РУКОВОДИЛ ФЕВРАЛЬСКИМ ВОССТАНИЕМ?
Адвокаты и журналисты обиженных революцией классов потратили впоследствии немало чернил, чтобы доказать, что в феврале произошел, в сущности, бабий бунт, перекрытый затем солдатским мятежом, и что это именно было выдано за революцию. Людовик XVI тоже хотел думать в свое время, что взятие Бастилии – это бунт, но ему почтительно объяснили, что это революция. Те, которые теряют от революции, редко склонны признать за ней ее настоящее имя, ибо оно, несмотря на все усилия злобствующих реакционеров, окружено в исторической памяти человечества ореолом освобождения от старых оков и предрассудков. Привилегированные всех веков, как и их лакеи, неизменно пытались объявлять низвергнувшую их революцию, в противовес прошлым, мятежом, смутой или бунтом черни. Пережившие себя классы не отличаются изобретательностью.
Вскоре после 27 февраля делались попытки приравнять Февральскую революцию к младотурецкому военному перевороту, о котором, как мы знаем, немало мечтали на верхах русской буржуазии. Сближение это имело, однако, настолько безнадежный характер, что встретило серьезный отпор в одной из буржуазных газет. Туган-Барановский, экономист, прошедший в молодости школу Маркса, русская разновидность Зомбарта, писал 10 марта в «Биржевых Ведомостях»: «Турецкая революция заключалась в победоносном восстании армии, подготовленном и осуществленном вождями этой армии. Солдаты были лишь послушными исполнителями замыслов своих офицеров. Те же гвардейские полки, которые 27 февраля опрокинули русский трон, пришли без своих офицеров… Не армия, а рабочие начали восстание. Не генералы, а солдаты пошли к Государственной думе. Солдаты же поддержали рабочих не потому, что они послушно выполняли приказания своих офицеров, а потому, что… почувствовали свою кровную связь с рабочими как с классом таких же трудящихся людей, как и они сами. Крестьяне и рабочие – вот два социальных класса, которые делали русскую революцию».
Эти слова не нуждаются ни в поправках, ни в дополнениях. Дальнейшее развитие революции достаточно подтвердило и закрепило их смысл.
Последний день февраля был в Петербурге первым днем после победы: днем восторгов, объятий, радостных слез, многоречивых излияний, но вместе с тем и днем заключительных ударов по врагу. На улицах еще трещали выстрелы. Говорили, что продолжают стрелять сверху «фараоны» Протопопова, не осведомленные о победе народа. Снизу палили по чердакам, слуховым окнам и колокольням, где предполагались вооруженные фантомы царизма. Около 4 часов занято было адмиралтейство, куда укрылись последние остатки того, что было раньше государственной властью. Революционные организации и импровизированные группы производили в городе аресты. Шлиссельбургская каторжная тюрьма была взята без выстрела. Присоединялись к революции новые и новые полки в столице и в окрестностях.
Переворот в Москве был только отголоском восстания в Петрограде. Те же настроения среди рабочих и солдат, но менее ярко выраженные. Несколько более левые настроения в среде буржуазии. Еще большая, чем в Петрограде, слабость революционных организаций. Когда начались события на Неве, московская радикальная интеллигенция устраивала совещания на тему «как быть» и ни к чему не приходила. Только 27 февраля на фабриках и заводах Москвы начались забастовки, затем демонстрации. Офицеры говорили солдатам по казармам, что на улицах взбунтовалась сволочь, которую придется усмирить. «Но уже теперь, – рассказывает солдат Шишилин, – солдаты понимали слово сволочь обратно». К двум часам появилось у здания городской думы из разных полков много солдат, искавших способ примкнуть к революции. На следующий день забастовки разрослись. Толпы тянулись к Думе с флагами. Солдат автомобильной роты Муралов, старый большевик, агроном, великодушный и мужественный гигант, привел к Думе первую цельную и дисциплинированную воинскую часть, которая заняла радио и другие посты. Через восемь месяцев Муралов будет командовать войсками Московского военного округа.
Открыты были тюрьмы. Тот же Муралов привез грузовик, наполненный освобожденными политическими. Околоточный, с рукой у козырька, спрашивал у революционера, следует ли выпускать также и евреев. Дзержинский, только что освобожденный из каторжной тюрьмы и еще не сменивший арестантского платья, выступал в здании Думы, где уже формировался Совет депутатов. Артиллерист Дорофеев расскажет, как рабочие конфектной фабрики Сиу пришли 1 марта со знаменами в казарму артиллерийской бригады брататься с солдатами и как многие не могли вместить радости и плакали. Были в городе отдельные выстрелы из-за угла, но в общем не было ни вооруженных столкновений, ни жертв: за Москву ответ держал Петроград.
В ряде провинциальных городов движение началось только 1 марта, после того как переворот совершился уже и в Москве. В Твери рабочие с работ отправились демонстрацией в казармы и, смешавшись с солдатами, прошлись по улицам города. Тогда еще пели «Марсельезу», а не «Интернационал». В Нижнем Новгороде у здания городской думы, которое в большинстве городов играло роль Таврического дворца, собирались тысячи народа. После речи городского головы рабочие с красными знаменами двинулись освобождать политических из тюрем. Из 21 воинской части гарнизона уже к вечеру 18 добровольно перешли на сторону революции. В Самаре и Саратове происходили митинги, организовывались советы рабочих депутатов. В Харькове полицеймейстер, успевший на вокзале осведомиться о перевороте, встал в экипаже перед взбудораженной толпой и, подняв фуражку, крикнул изо всех легких: «Да здравствует революция, ура!» В Екатеринослав весть пришла из Харькова. Во главе манифестации шагал помощник полицеймейстера, поддерживая рукою длинную саблю, как и во время парадов в табельные дни. Когда выяснилось окончательно, что монархии не подняться, в учреждениях осторожно стали снимать и прятать на чердаки царские портреты. Таких анекдотов, правдивых и вымышленных, немало ходило в либеральных кругах, еще не успевших потерять вкус к шутливому тону по адресу революции. Рабочие, как и солдатские гарнизоны, переживали события совсем по-иному.
В отношении ряда других провинциальных городов (Псков, Орел, Рыбинск, Пенза, Казань, Царицын и др.) хроника отмечает под 2 марта: «Стало известно о происшедшем перевороте, и население присоединилось к революции». Эта характеристика, несмотря на свой суммарный характер, в основном правильно передает то, что произошло.
В деревню сведения о революции текли из ближайших городов, отчасти от властей, а главным образом через базары, через рабочих, через отпускных солдат. Деревня воспринимала переворот медленнее и менее энтузиастично, чем город, но не менее глубоко: она его связывала с войной и с землей.
Не будет преувеличением сказать, что Февральскую революцию совершил Петроград. Остальная страна присоединилась к нему. Нигде, кроме Петрограда, борьбы не было. Не нашлось во всей стране таких групп населения, партий, учреждений или воинских частей, которые решились бы выступить в защиту старого строя. Это показывает, как неосновательны запоздалые рассуждения реакционеров на тему о том, что, будь в составе питерского гарнизона гвардейская кавалерия или приведи Иванов с фронта надежную бригаду, судьба монархии была бы иная. Ни в тылу, ни на фронте не нашлось ни бригады, ни полка, которые готовы были бы сражаться за Николая II.
Переворот произведен инициативой и силою одного города, составлявшего примерно У 75 часть населения страны. Можно сказать, если угодно, что величайший демократический акт был совершен самым недемократическим образом. Вся страна была поставлена перед совершившимся фактом. То обстоятельство, что в перспективе предполагалось Учредительное собрание, не меняет дела, ибо сроки и способы созыва национального представительства определялись органами, вышедшими из победоносного петроградского восстания. Это бросает яркий свет на вопрос о функции демократических форм вообще, в революционные эпохи – в особенности. Юридическому фетишизму народной воли революции всегда наносили тяжкие удары, и тем беспощаднее, чем глубже, смелее, демократичнее были эти революции.
Довольно часто говорилось, особенно в отношении Великой французской революции, что крайняя централизация монархии позволила затем революционной столице думать и действовать за всю страну. Это объяснение поверхностно. Если революция обнаруживает централистические тенденции, то не в подражание свергнутой монархии, а вследствие неотразимых потребностей нового общества, не мирящегося с партикуляризмом. Если столица играет в революции столь доминирующую роль, как бы концентрируя в себе в известные моменты волю нации, то это именно потому, что столица наиболее ярко выражает и доводит до конца основные тенденции нового общества. Провинция воспринимает шаги столицы, как свои собственные намерения, но уже превращенные в действия. В инициативной роли центров – не нарушение демократизма, а его динамическое осуществление. Однако ритм этой динамики в великих революциях никогда не совпадал с ритмом формальной, репрезентативной демократии. Провинция присоединяется к действиям центра, но с запозданием. При характеризующем революцию быстром развитии событий это приводит к острым кризисам революционного парламентаризма, неразрешимым методами демократии. Национальное представительство во всех подлинных революциях неизменно расшибало себе голову о динамику революции, главным очагом которой являлась столица. Так было в XVII веке в Англии, в XVIII – во Франции, в XX – в России. Роль столицы определяется не традициями бюрократического централизма, а положением руководящего революционного класса, авангард которого естественно сосредоточен в главном городе: это одинаково верно и для буржуазии, и для пролетариата.
Когда февральская победа определилась полностью, стали подсчитывать жертвы. В Петрограде насчитали:
1443 убитых и раненых, в том числе 869 военных, из них 60 офицеров. По сравнению с жертвами любого сражения великой бойни эти внушительные цифры ничтожны. Либеральная печать провозгласила Февральскую революцию бескровной. В дни всеобщего благорастворения и взаимной амнистии патриотических партий никто не стал восстанавливать истину. Альберт Тома, друг всего победоносного, даже и победоносных восстаний, писал тогда о «самой солнечной, самой праздничной, самой бескровной русской революции». Правда, он надеялся, что она останется в распоряжении французской биржи. Но в конце концов Тома не выдумал пороха, 27 июня 1789 года Мирабо восклицал: «Какое счастье, что эта великая революция обойдется без злодеяний и без слез!.. История слишком долго повествовала лишь о деяниях хищных зверей… Мы можем надеяться, что начинаем историю людей». Когда все три сословия объединились в Национальном собрании, предки Альберта Тома писали: «Революция кончена, она не стоила ни капли крови». Надо, однако, признать, что в тот период крови действительно еще не было. Не то в февральские дни. Но легенда о бескровной революции упорно держалась, отвечая потребности либерального буржуа изображать дело так, будто власть досталась ему сама собою.
Если Февральская революция отнюдь не была бескровной, то нельзя не изумляться незначительному количеству жертв как в момент переворота, так и, особенно, в первый период после него. Ведь это же была расплата за гнет, преследования, издевательства, гнусные заушения, которым в течение веков подвергались народные массы России! Матросы и солдаты расправлялись, правда, кое-где с наиболее подлыми истязателями в образе офицеров. Но число таких расправ было вначале ничтожно по сравнению с числом старых кровавых обид. Массы отряхнули с себя добродушие лишь значительно позже, когда убедились, что господствующие классы хотят все потянуть назад и присвоить себе не ими совершенную революцию, как они всегда присваивали себе не ими производимые блага жизни.








