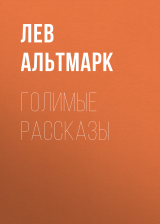
Текст книги "Голимые рассказы"
Автор книги: Лев Альтмарк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
– Больше так продолжаться не может, – как-то раз сказал он себе, – надо решительно исправлять эту вопиющую несправедливость и начинать мирить людей друг с другом. У нас в Израиле для этого широкое поле деятельности. Начну-ка я с евреев и арабов.
И тотчас отправился в одну из арабских деревень, надев майку с пацифистскими лозунгами какой-то левой партии, которую раздавали перед последними выборами всем желающим бесплатно.
– Эй, арабы, послушайте! – закричал он, выйдя на базарную площадь. – Я хочу раскрыть вам глаза и объяснить, почему нет мира на нашей земле. Дело в том, что все мы живём по замшелым средневековым законам и много времени уделяем своим дремучим национальным приоритетам…
– А сам-то ты кто будешь? – спросили арабы.
– Еврей, – слегка смутился он, – но какая, простите, разница?
– А вот такая! – ответили арабы и жестоко его отлупили. Хорошо, что не забили насмерть, а то ведь запросто могли. Выволокли еле живого за околицу и бросили в придорожную канаву на съедение мухам и комарам.
С трудом наш чудак пришёл в себя, встал на ноги и побрёл прочь. Долго ли, коротко ли он ковылял, пока не добрался до ближайшего еврейского поселения. Там его, конечно, подхватили под руки, доставили к доктору, который перевязал раны и смазал ушибы йодом.
– Кто ты такой? – спросили его. – И кто тебя так жестоко отделал?
Но чудак понимал, что расскажи он про арабов, непременно вспыхнет очередная свара между соседями, то есть всё пойдёт диаметрально противоположно тому, как он собирался поступать. Поэтому он решил перевести разговор в нужное русло:
– Евреи! Я научу вас, как нужно жить в мире с арабами и не конфликтовать! Во всём виноват средневековый предрассудок – наша национальность! Пора уже отказаться от неё, и тогда заживём дружно и счастливо…
Отшатнулись люди от него, а потом, ни слова не говоря, сунули костыли в руки, указали дорогу в город и выпроводили. От греха подальше. Пешочком пускай чешет, если такой миротворец.
Что происходило потом с нашим чудаком, не очень хорошо известно. Говорят, он летал в Америку мирить белых с неграми, но был освистан и закидан тухлыми яйцами с обеих сторон. Потом ездил в Африку, где просвещал полудикие племена, и был чудом не съеден тамошними людоедами. В Индии его едва не утопили в водах священного Ганга, а в Китае зверски избили воинственные монахи из монастыря Шаолинь. Хорошо, хоть от поездки в Австралию его отговорили, убедив, что кенгуру, которых он собирался мирить с индейцами маори, не люди, а значит, и национальности у них нет.
В конце концов, наш чудак вернулся в Израиль, но никаких выводов для себя, кажется, так и не сделал. Причину провала своих благих начинаний он объяснял просто:
– Здесь мой дом, а домой надо всегда возвращаться. Национальность здесь не при чём. Предрассудок – он и есть предрассудок… Сколько ещё крови прольётся, пока люди вспомнят мои слова, да поздно будет…
Мораль сей басни весьма незамысловата, хоть и не нова: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Хотя журавль – тоже ничего. Правда, отправишься его ловить, и синицу упустишь, но это уже детали. Не очень приятные детали…
ЗАГОТОВКИ ДЛЯ БУДУЩЕГО ГОТИЧЕСКИ-ЭРОТИЧЕСКОГО РОМАНА
– Как тебя звать, красавица? – спросила Добрая Фея.
– Я ещё не красавица, а девочка, – ответила юная Брунгильда, – но это поправимо, и скоро я стану красавицей!
Обходя окрестности имения своего батюшки, она трепетала всеми фибрами души, губы её сами собой напевали неизвестно откуда взявшуюся песенку: «Широка страна моя родная, много в ней полей, лесов и рек…»
Брунгильда помнила, какой скромной и жалостливой была в детстве. Каждый раз, когда дворецкий приносил завтрак и говорил «яйца в майонезе», её выворачивало наизнанку, и она очень сострадала прежнему владельцу яиц. Но ночью после этого ей почему-то мерещились сладострастные кошмары…
Затянувшаяся невинность наложила неизгладимый отпечаток беды на всю её последующую взрослую жизнь…
Она часто вспоминала свою первую любовь. Это был простой деревенский парень Жак, который доказал ей, что она хочет и может иметь детей. Потом вспомнила Джека, который был богат и доказал, что она больше хочет денег, чем детей. Но здравый смысл подсказывал, что выбирать нужно кого-то третьего. Или четвёртого. Пока сил хватит. И хотеть нужно всего…
От мук любви тело Брунгильды дрожало и трепетало. Каждый раз при виде Бальтазара сердце её выскакивало из груди, и ей приходилось прикладывать немало усилий, чтобы засунуть его назад, и чтобы окружающие этого не заметили…
Она чувствовала, что Бальтазар её хочет, но природная застенчивость не позволяла расставаться с аристократическими глупостями…
Свет оголённых лампочек не рассеивал ужаса мрачного подземелья Сизой Бороды…
С трудом сдерживая подступившую к горлу тошноту, Бальтазар облизал губы, искусанные злой колдуньей, и пошёл дальше по подземелью, сжимая в руках лезвие меча…
– На чудище не действуют магические заклинания, – рассуждал он про себя, – может, тогда сразиться с ним в честном бою?
В кармане панталон он неожиданно нащупал магический кристалл и покраснел…
Вдруг на стене вспыхнули буквы на древнем забытом людьми языке.
«Ви-а-гра» – по слогам прочитал он, и сердце его сладко трепыхнулось…
Волны экстаза накатывали на её лоно.
– Кто ты? – спросила она у чудища. – Какого ты лешего… пардон, какого ты пола?
– Я – совесть мира! – зарычало чудище и с жадностью набросилось на её лоно…
– Бальтазар, вернись! Забери меня! – застонала Брунгильда.
– Ещё не время! – жёстко обрубил тот и опустил забрало…
На вершине скалы в лучах заката остались только силуэты чудища и Бальтазара.
– Ага! – злорадно взвыло чудище. – Вот тебе и конец!
– Ни хрена себе заявочки! – мужественно отвечал юноша, готовясь к смертельной схватке…
Поражённый мечом в самое сердце, он лежал на склоне утёса, широко раскинув в разные стороны ноги…
Увидев, как поверженный Бальтазар из последних сил глотает магический кристалл, чудище в отчаянии взвыло:
– Я всё равно вырву его из тебя!
– Посмотрим, – усмехнулся юноша, – тебе придётся как следует покопаться в дерьме, чтобы его достать!..
– Я умру без тебя! – рыдала Брунгильда, заливая потоками слёз искусанные и обветренные губы Бальтазара.
– А я умру с тобой, дорогая! – почти захлёбываясь от заливающих его слёз, еле слышно шептал он сквозь стиснутые зубы, и эхо от его слов сотрясало каменные своды подземелья…
Чувствуя свой последний час, чудище закричало страшным голосом Филиппа Киркорова:
– Ах ты ж растудыть твою коленную чашечку, – и, немного подумав, прибавило жуткое проклятие на иноземном языке: – Иншалла тебя побери через пень-колоду!
Чело старика избороздили седины…
Невзирая на свои девяносто четыре года, барон Сизая Борода был полон подлости и коварства, как молодой…
На вид ему можно было дать лет шестьдесят, но в душе он ощущал себя семнадцатилетним. Женщины, с которыми он периодически занимался продажной любовью, давали ему и того меньше…
Злющий дворецкий, которого барон сильно побаивался, не разрешал ему курить в покоях и в любую погоду выгонял во внутренний дворик замка. Кряхтя от застарелых болячек и матерясь на всех знакомых и незнакомых языках, барон надевал домашние доспехи и, опираясь на лезвие меча, шёл покурить и заодно опростаться…
– А вас, барон, прошу не совать своё свиное рыло в наш вегетарианский монастырь! – бормотала Брунгильда, обречённо показывая барону как расстёгивать застёжку на бюстгальтере, чтобы тот случайно не порвал её своими корявыми лапами…
– Я вас ни капли не люблю! Тем более, вы ничего не понимаете в Кама сутре! – рыдала девушка в его морщинистых объятьях…
– Разве для того, что я прошу, – мерзко ухмылялся старый барон, стягивая панталоны и опуская вставную челюсть в кубок с водой, – требуется ваша любовь?
Каждый раз, вспоминая о своих любовных победах, ему становилась грустно. Чтобы развеселиться, он вспоминал о своих любовных поражениях…
– Будь что будет! – решила она и выложила всё, что у неё внутри, на мирно посапывающего рядом барона…
– Ничего не понимаю, – вскричал барон громовым голосом. – Скажи, женщина, на простом русском языке, чего ты ещё хочешь от меня, ненасытная?!
– Мамой клянусь! – воскликнул барон, но в грудь кулаком бить не стал, чтобы случайно не раздробить камень за пазухой…
– Всё, что у меня теперь есть, это ты! – ответил утром обессиленный барон на просьбу Брунгильды купить ей новые бриллианты взамен вышедших из моды…
Мысль о деньгах сверлила мозг и не давала сосредоточиться на чём-то банальном…
– До сих пор я любила только домашних животных и клубничное мороженое, – потупив взор, проговорила Брунгильда.
– А меня?! – вскричал в отчаянии Бальтазар.
– Ну, я не знаю… Нам с тобой надо съесть ещё не один пуд соли.
– Надо так надо, – обречённо пробормотал юноша, зачерпнул столовой ложкой из солонки и сунул ей в рот…
Её волосы пахли душистым мылом, а прокладки были настолько чистыми и белоснежными, что он в волнении зарылся в них лицом…
Трепещущая красавица лежала, широко раскинув ноги – одну направо, другую налево…
В темноте не было видно ничего, кроме запаха пота и прерывистого дыхания любовников…
В нужнике пахло Бальтазаром. Принесённый вчера рулончик туалетной бумаги куда-то бесследно исчез.
– А он такой же, как и все! – недовольно подумала Брунгильда, закрываясь на щеколду. – Только вчера говорил такие светлые и возвышенные слова, а рулончик всё-равно спёр…
Крыша замка поехала в разные стороны, стены рассыпались, но нетронутым осталось только то, что не поддавалось колдовским чарам: винный погреб и опочивальня, в которой находились Брунгильда с Бальтазаром, да ещё старый барон, притаившийся за портьерой с кинокамерой…
Лишь к утру, до конца испытав глубину и сладость любовных утех, Брунгильда поняла, что больше всего на свете любит родину…
Бальтазар ещё не понимал, что в его жизнь вторглось что-то новое. И это новое – беременность Брунгильды. Всё это ему предстоит пережить самому, да и не мешало бы до конца разобраться, кто отец будущего ребёнка…
Он снова сжал в руках лезвие меча и впервые за долгое время вытащил из-за щеки скрываемый там магический кристалл. И по привычке покраснел…
Два коня медленно исчезало в лучах заката. Один из них был Бальтазар, другой – Брунгильда, и оба счастливо ржали…
ДВОРОВЫЕ ВЫБОРЫ
Собралась как-то дворовая живность за будкой Барбоса подальше от хозяев и давай обсуждать ситуацию в округе. Мол, всё пришло в упадок, и хозяева уже не те, что прежде, и публика за плетнём обнаглела по полной программе, чего раньше никогда не было, и вообще всё в мире идёт наперекосяк. Нужно, братцы, принимать кардинальные меры, то есть брать бразды правления в свои руки, а Хозяина с Хозяйкой отправить на покой. Пускай у себя в доме командуют и во двор не высовываются – а тут отныне будут совсем иные порядки, принятые демократическим большинством. То есть нами, дворовой живностью. Чем мы хуже хозяев?
– Надоело тоталитарное правление! – брызжет слюной Петух. – Гнать их, негодяев, отсюда! Пускай в избе сидят и носа наружу не высовывают! Выборы нам нужны! Изберём либеральным путём дворового президента, который даст каждому всё, что тот захочет: свинье полное корыто отрубей, корове полную лужайку травы, курам – по петуху, петуху – по курице, и так далее.
– А мне-то как? – подал голос Барбос. – Я всегда был гарантом дисциплины и правопорядка во дворе! Помню старые добрые времена, когда никто пикнуть не смел, потому что боялся моих зубов, а теперь осмелели. Да и хозяева тогда решительней нынешних были. Хоть все и боялись тогда друг друга, зато у каждого в корыте что-то было. Вернуть добрые старые времена – и точка…
Но его сразу же Поросёнок перебил:
– Я за справедливость! За то, чтобы нашего брата не резали и обеспечили нам спокойную и счастливую старость! Тогда и в корыте что-то будет, и обиженных станет меньше! Была б моя воля, я бы… – Тут поросёнок задумался, потому что пока не придумал, что бы он сделал, дай ему волю.
– Вот и хорошо, что вы меня понимаете! – обрадовался Петух. – Будем проводить самые честные в истории нашего двора выборы. У вас уже, вижу, и предвыборные программы готовы. Ну, кто ещё хочет в президенты?
– Я, – подал голос Гусак. – Посмотрите, какой я жирок нагулял. И ни у кого ничего не просил, до всего дошёл собственным умом и старанием. Главное, не лениться и не надеяться на хозяев, а искать, где можно поживиться… – И, прикинув, что ляпнул что-то лишнее, Гусак решительно продолжил: – Выберете меня в президенты – научу всех, как такой жирок, как у меня, нагулять. Все станете толстыми и счастливыми!
– Четверо, – подсчитал Барбос и вдруг задумался. – А Хозяин нам своё президентское кресло без борьбы уступит?
– Конечно, нет! – прокукарекал Петух. – Но пускай он вместе со всеми баллотируется, а голосование покажет, кто популярней… На общих основаниях! Чтобы всё прошло честно!
Звери оглянулись на окошко избы, а оттуда на них и в самом деле уже поглядывал Хозяин, и за его спиной стояла жена.
– Ишь, смотрят, – проворчал Барбос, – посмеиваются! Видно, решили, что они нам не по зубам! Тоже себе – сладкая парочка! Думают, что незаменимые! Всё прибрали к рукам и решили, что так будет до скончания века…
– Негодяи! Подонки! – тотчас забился Петух в истерике. – Да я их заклюю… Мы их сообща…
– Всё разграбили, под себя подмяли! – в тон ему зарычал Барбос. – Всё, что веками мы и наши предки копили…
– Несправедливость! – хрюкнул Поросёнок. – И социальное неравенство!
– Я научу вас по-новому мыслить! – не к месту вставил Гусак. – Чтоб жирок был…
Тем временем вокруг четвёрки претендентов стала собираться остальная дворовая живность. Наслушавшись «предвыборных программ», куры, явно обожавшие своего Петуха, принялись клевать баранов, сторонников Барбоса. Козы, симпатизирующие Поросёнку, пытались бодать уток, которым очень хотелось обрасти жирком, как Гусак. Короче, шум поднялся на весь двор. За плетнём стала собираться деревенская публика, которую растревожила перепалка среди живности.
Долго бы это продолжалось или нет, никто не знает, но тут из избы вышел Хозяин, и на его лице больше не было усмешки. Наоборот он хмурился и был настроен весьма решительно.
– Ну-ка, все брысь по своим местам! Кому сказал?! А то затеяли тут… демократические выборы!
Барбос тотчас юркнул в свою будку, Поросёнок деловито уткнулся в корыто, будто никогда оттуда не вылезал, а Гусак поскорее заковылял подальше к плетню разыскивать в мусоре свои золотые зёрнышки. Лишь Петух с независимым видом поскакал по двору, а потом, увидев, что его не преследуют, вскочил на плетень и что-то невнятное прокукарекал.
– Ну, чья очередь сегодня в суп? – усмехнулся Хозяин и повёл взглядом по двору.
Поросёнок поглубже вжался в своё корыто, Гусак заковылял подальше за избу, чтобы не попадаться на глаза, Петух рухнул с плетня и притворился мёртвым. Лишь Барбосу ничего не угрожало. Наоборот, это было ему даже на руку: сварят кого-то из претендентов в хозяйском супе – ему наверняка жирные объедки достанутся. Да и конкурентов останется меньше…
КРЫЛЬЯ
Всё, как-то сказал я себе, хватит глупостей, пора и о душе подумать. С сегодняшнего дня начинаю новую жизнь, чтобы последующие поколения сказали обо мне: экий был человечище! Глыба, можно сказать. Безгрешный, как Папа Римский. Мудрый, как царь Соломон. Справедливый, как… впрочем, не знаю, как кто.
Только с чего начать?
Перестану-ка материться – первое и самое лёгкое, что пришло на ум. Пусть моя речь струится хрустальным ручьём и отзывается в людских сердцах дивным благозвучием.
Сказано – сделано. Перестал материться и вдруг поймал себя на мысли, что мой словарный запас стал до обидного скудным и однобоким. Хочется что-то выдать кому-то, завернуть что-нибудь эдакое, расцветить мысль яркими и оригинальными эпитетами, как она того заслуживает, и… и не получается. Хоть ты тресни.
Буду говорить отныне одну лишь правду – это намного труднее, чем перестать материться, но… попробую.
Ох, и трудно стало резать правду-матку да ещё в глаза и без мата!.. Чувствую, чуть ли не в йога превращаться начал, который большей частью молчит. Чтобы глупость не выдать, и только страдальчески глазами из стороны в сторону поводит. Но настоящему-то йогу есть что сказать этому миру, только он не опускается до непосвящённых, а у меня ситуация хуже – сказать тоже могу много, но врать не хочется, и слова правильные теперь с трудом подбираются. Да и ручьём они что-то не струятся. Без вранья-то.
Ладно, пойдём дальше. Брошу пить спиртные напитки, ведь всё зло от них. Хотя в том, что это действительно зло, я не очень уверен, потому что героизм и самопожертвование – хорошие и нужные вещи, но кто ж, извините за наблюдательность, станет геройствовать на трезвую голову?
Да и настроение у невыпившего человека всегда кислое, не до куража ему и подвигов. А всяческие болезни? Пьющий-то человек хоть знает их причину, а непьющему как быть?
Ограничу-ка себя в контактах с нехорошими женщинами и заодно с негодяями любого пола, мужественно решил я. Тотчас уничтожил в записной книжке телефоны всех моих подруг-однодневок, а заодно и приятелей, ведь, как теперь выяснялось, приличной публики среди них не шибко много, а те, кого оставил невычеркнутыми, почему-то сами не очень хотят теперь со мной общаться. И вот я один-оденёшенек остался, но тешусь мыслью, что рано или поздно приличная публика ко мне всё-таки потянется. Как к тому же хрустальному ручью.
Теперь пора, наверное, заняться более серьёзными вещами: совершать только хорошие поступки и не делать плохие. Возникал, правда, риторический вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, но здесь я решил особо голову не ломать. Не будем пока делать вообще ничего, а время покажет, что да как. Ведь плохие наши поступки – они сами косяком прут, безо всякой натуги и желания, чуть ли не в очередь выстраиваются, а вот хорошие – их ещё поискать надо да всех вокруг убедить, что они действительно хорошие. Правда, потом нередко всё наоборот получается.
Чувствую, прямо-таки на глазах меняться начал.
Молчу, привычных глупостей не горожу, взгляд трезвый и просветлённый, от окружающей мерзости отворачиваюсь и всё больше отмалчиваюсь. Но и делать пока ничего не делаю, так как время ещё не наступило. Не сужу, да и не судим отныне…
Взмахну теперь белоснежными крыльями и полечу орлом в горние выси, где ждут меня мои собратья – такие же, как я, очистившиеся от скверны и порвавшие с грязным и приземлённым. Их немного, эдаких ангелов небесных, но они есть. Наверняка есть.
Оглянулся я, посмотрел за спину, а там и в самом деле крылья прорезались – только угольно-чёрные, как у известно кого…
КРУШЕНИЕ ЧЕТВЁРТОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА
– Поехали в Москву за компанию! – предложил Корзинкину его лучший приятель Давид на собственных проводах перед отъездом в Израиль. – Деньги у меня пока есть, значит, гульнём напоследок! Не буду заморачиваться с их обменом на доллары – да не та это сумма, которая сделает погоду. Так что лучше здесь всё прогулять. А то, кто знает, свидимся ли когда-то ещё?
– А может, там… ну, куда ты едешь… они нужней тебе будут? – осторожно осведомился Корзинкин.
Слово «Израиль» он старался не произносить, а если произносил, то с запинкой и при этом страшно краснел. Он немного злился на эту страну из-за того, что она отнимала у него лучшего друга, но в то же время понимал: ничего не поделаешь, и каждый должен жить там, где ему лучше, а свобода передвижения должна быть ограничена только в тюремной камере. К тому же, Давид давно мечтал об Израиле, а мечты на то и мечты, чтобы когда-то сбывались.
– Деньги я всегда и везде заработать сумею! Руки-то – вот они! – хвастливо заявлял Давид. – Хоть в Израиле, хоть на северном полюсе! А с лучшим другом попрощаться, как следует, – разве на это каких-то денег жалко?! Так что едем – оттянемся последний раз!
Сутки в поезде до столицы пролетели незаметно, лишь на столике в их купе с завидным постоянством обновлялись выпивка и закуска, а за столиком – собутыльники, и на всё это толстая проводница в старушечьем оренбургском платке сперва недобро косилась и материлась сквозь зубы, но потом махнула рукой и присоединилась к буйному веселью, предоставив почётное право открывать и закрывать двери на остановках самим пассажирам.
В самом конце поездки Корзинкина и Давида сморил сон, но зловредная проводница не дала выспаться и вытолкала друзей из тёплого и обжитого вагонного чрева на перрон под моросящий дождь, дверь замкнула на ключ и отправилась отсыпаться, не реагируя ни на жалобные уговоры, ни на стук в окно, ни даже на заманчивые предложения продолжить разгульное пиршество.
– Да и хрен с ней! – махнул рукой Давид и подхватил сумку. – Что мы, пропадём без неё? Вперёд, нам везде рады!
– А на самолёт не опоздаешь? – заосторожничал Корзинкин, зевая.
– До самолёта ещё полдня. Уйма времени. Продолжаем веселиться. – И повторил свою мантру: – Когда ещё свидеться придётся?
Но идти в какой-нибудь ресторан или выпивать в ближайшем скверике не хотелось. А хотелось только добраться до какой-нибудь постели, растянуться и вырубиться на несколько часов до отлёта.
– Слушай, – неожиданно вспомнил Давид, – у меня в столице есть соратники по сионистской деятельности. Отличные ребята, к ним и пойдём. Не болтаться же нам на улице!
– Как-то неудобно, – замялся Корзинкин. – Вы там все свои – евреи, а что мне, русскому, среди вас делать?
– Ничего страшного! – рассмеялся Давид. – Академик Сахаров тоже был русским, а похлеще любого еврея! Тем более сионистская деятельность становится в последнее время всё более и более интернациональной – этакий Четвёртый интернационал!
– Сионистская деятельность? – подозрительно переспросил Корзинкин. – Ты-то какое отношение к ней имеешь? Ничего подобного за тобой раньше не замечал.
– Как – какое?! Я всегда был сионистом – сперва в душе, а потом и снаружи. И, между прочим, довольно активным. Другое дело, что не особо это афишировал… Впрочем, это сейчас не важно: в Израиле заниматься сионистской деятельностью – дело неприбыльное. Там вкалывать надо, шекели зарабатывать, а не заниматься говорильней…
– Так и быть, пошли к сионистам, – сразу успокоился Корзинкин. – Надеюсь, у них найдётся какая-нибудь раскладушка, чтобы пару часов перекимарить.
– О, с этими ребятами не соскучишься! – разглагольствовал по дороге Давид. – Пару часов с ними пообщаешься, а впечатлений на всю оставшуюся жизнь.
Столичные сионисты, с которыми был знаком Давид, и в самом деле оказались ребятами активными и лёгкими на подъём. Как исконные столичные жители, абсолютно уверенные, что живут в центре земного шара, а все остальные города и страны – глухая провинция, уезжать отсюда они никуда не собирались, хотя почти каждому из них довелось побывать на казённый кошт на Земле обетованной. И это было для них в порядке вещей. Давид не обманывал Корзинкина, когда говорил, что существовать на дивиденды от сионистской деятельности в Израиле невозможно, зато за его пределами это вполне приличный способ заработка. Тем друзья Давида и кормились, организовав нечто вроде полузакрытого элитного салона для избранных, куда посторонние, конечно, допускались, но им сразу давали понять, что хлебные места давно заняты, и потесниться у кормушки никто не собирается. К таким, как Давид, они относились приветливо и благожелательно, ибо именно провинциалы были веским аргументом для выколачивания из довольно прижимистых заграничных спонсоров всевозможных дотаций. Благо, провинциальные сионисты на многое не претендовали, а Давид и вовсе уезжал на родину предков.
– Вы-то, хаверим, как раз сегодня нам и понадобитесь! – вместо приветствия закричал им главный сионист по имени Лёня – довольно колоритная личность в крохотной вязаной кипе, утонувшей в бурной рыжей шевелюре а-ля Джимми Хендрикс.
– На самолёт не опоздаю? – без особого энтузиазма поинтересовался Давид.
– Я тебя лично на своей машине доставлю в Шереметьево, – успокоил его предводитель и многозначительно прибавил, – если, конечно, в полицию не загремим…
– В полицию?! – побледнел Давид.
– Для тебя такое попадание будет просто подарком! – успокоил его Лёня. – Максимум через пятнадцать суток всё равно улетишь в Эрец Исраэль, но уже как герой. Сможешь всем там твердить, что ты «узник Сиона»!
– Не-е, братцы, я на такое не согласен! – неожиданно заволновался Корзинкин. – Вы хоть «узниками Сиона» станете, деньги какие-то с этого получите, и вообще почти уже иностранцы здесь, а я? Мне-то тут жить…
– О чём разговор?! – искренне удивился Лёня. – В наших рядах много русских – не квасных, а настоящих патриотов и правозащитников. У тебя тоже есть шанс влиться в их стройные ряды!
Корзинкину польстило, что его ставят в один ряд с правозащитниками, о которых ходило много слухов, но никто в точности не знал, что же такого замечательного они сделали, и он сразу же успокоился. Даже как-то позабылось о том, что они с Давидом намеревались немного отдохнуть после бессонной ночи.
– Итак, ближе к делу, – распорядился Лёня, – разбираем плакаты и поехали.
Корзинкину достался лист ватмана, приколотый на фанеру с длинной деревянной ручкой, напоминающую лопату для расчистки снега. На ватмане фломастером были намалёваны большие неровные буквы на иврите.
– Переведи, что написано, – подёргал он за рукав предводителя, – а то я не понесу!
– Тут написано «Свободу курдским повстанцам!»
– Кто это такие? И какое они отношение имеют к вашей сионистской деятельности?
– Верно, никакое! Но мы идём митинговать к иранскому посольству, и нам нужно их укусить побольнее!
– А зачем их кусать?
Но Лёня уже отвернулся к другим участникам будущего митинга, считая своё объяснение исчерпывающим. Тем не менее, Корзинкину почему кусать никого не хотелось, и после ночного веселья он был настроен весьма благодушно. Если говорить честно, то он был безразличен не только к иракцам и курдам, но и вообще ко всем народам Ближнего, а заодно и Дальнего востока. Его больше волновали проблемы местного значения, и даже не всей своей громадной родины, а именно города, откуда они приехали. Однако признаваться в этом показалось ему почему-то стыдным, и он решил не вдаваться в подробности, а тихо и спокойно отсидеться в уголке.
Давиду достался большой самодельный плакат, на котором был намалёван бородатый араб в чалме, сидящий верхом на баране и размахивающий пучком ракет, зажатых в волосатом кулаке. На баране было написано по-русски «исламский мир», а на арабе непонятное слово «Аятолла». Чувствовалось, что автор плаката уроков живописи не брал, но компенсировал отсутствие таланта обилием совершенно ненужных деталей и подробностей.
Кроме Лёни, Давида и Корзинкина принимать участие в намеченной акции намеревалось ещё три человека – по виду студенты, худосочные и угловатые, но с горящими глазами потенциальных революционеров, не боящихся ничего, кроме щекотки и несданного зачёта по сопромату.
– Остальные участники соберутся у посольства, – пояснил Лёня, – кроме того, обещал прийти корреспондент германского телевидения, который всё заснимет, и мир узнает о том, как российские евреи протестуют против иранской военщины.
Хвалёной Лёниной машины под рукой не оказалось, а так как денег на такси ни у кого не было, то поехали на троллейбусе, а потом пересели в метро. Пассажиры с интересом разглядывали плакаты, отчего демонстранты чувствовали себя не в своей тарелке. Больше всех смущался Корзинкин, которому казалось, что взоры присутствующих обращены именно к нему. Его так и подмывало объяснять каждому встречному-поперечному, что он здесь случайно, и никакой он не еврей, а иранцы ничего плохого ему не сделали. Но никого в вагоне не интересовали его переживания, лишь какая-то старушка, пристально поглядев на него, перекрестилась и пробормотала:
– Ох, и маскируются евреи! Особенно этот. А по виду – точь-в точь наш парень, пензенский…
Вопреки уверениям Лёни у иранского посольства толпы протестующих не оказалось, лишь какой-то парень, тоже похожий на студента-революционера, прятался от первых капель начинающегося дождя под козырьком коммерческого ларька вместе с долговязым бородатым немцем – корреспондентом германского телевидения.
– Ничего страшного, – мужественно стиснул зубы Лёня. – Главное, не количество, а качество! Пусть весь мир узнает, что и один еврей в поле воин!
Последние его слова никому, кроме Корзинкина, не понравились.
К чугунной ограде посольства демонстранты подошли, зябко поёживаясь от холодных капель усиливающегося дождя, попадающих за шиворот. Плакаты уже успели промокнуть, и с усов размалёванного аятоллы на бороду стекали огромные и грязные моржовые клыки.
Лёня вытащил из заплечного рюкзака припасённый заранее мегафон и оглянулся на своё воинство:
– Разворачивайте плакаты, а я начну кричать речёвки, – и действительно закричал в мегафон тонким срывающимся голосом: – Долой тирана! Свободу свободолюбивому иранскому народу! Руки прочь от… – Тут он, видимо, подзабыл, от чего необходимо убирать руки иранскому диктатору. Несчастные курды как-то сразу выскочили из головы.
Из-за дождя прилегающая к посольству улица была пуста и безлюдна, лишь какая-то женщина с сумками, проходившая мимо, равнодушно глянув на него и пошла дальше. Да и само посольство казалось вымершим.
– Может, камнем по стёклам? – льстиво предложил Корзинкин. – Пускай тираны почувствуют, как угнетать простой народ…
– Не добросим, – прикинул Давид, – и потом за такое хулиганство нам влетит по первое число без всяких политических заморочек…
Тем не менее, он всё равно оглянулся по сторонам, но ничего метательного не обнаружилось, и даже бетонная мусорница у посольских ворот рядом с будочкой, в которой мирно посапывал охрнник, оказалась пустой.
– Тоже себе посольские работнички! – проворчал кто-то. – Нормальные люди к этому времени уже по троячку на обед сбрасываются и гонца в магазин отправляют, а эти…
– Сейчас их разбудим! – зловеще пообещал Лёня и извлёк из студенческого тубуса для чертежей свёрнутый в трубку цветной портрет улыбающегося аятоллы, наверняка уведённый с какой-то иранской фотовыставки.
Он расстелил портрет на асфальте у входа и принялся топтать.
Неожиданно дверь в здании посольства распахнулась, и вышло двое мужчин, похожих друг на друга, как близнецы-братья, своими одинаковыми чёрными пиджачками, белыми рубашками без галстуков и аккуратно подстриженными щёточками усов. Тупо и безразлично они принялись разглядывать Лёню, топчущего плакат, потом один из них вытащил сотовый телефон и принялся куда-то названивать.








![Книга Прекрасное воскресенье для пикника [другой перевод] автора Теннеси Уильямс](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-prekrasnoe-voskresene-dlya-piknika-drugoy-perevod-70252.jpg)