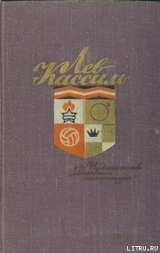
Текст книги "Маяковский – сам. Очерк жизни и работы поэта"
Автор книги: Лев Кассиль
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Людогусь путешествует
Чье сердце
октябрьскими бурями вымыто,
тому ни закат,
ни моря рёволицые,
тому ничего,
ни красот,
ни климатов,
не надо —
кроме тебя,
Революция!
И Маяковский путешествует. В годы первых своих поездок он побывал уже в Латвии, в Берлине и Париже, в Нордернее и Флинцберге. Теперь он едет не только в Германию и Францию, но и в Америку. С гордостью предъявляет он на границах, как знамя подняв над головой, свою «краснокожую паспортину», свою «пурпурную книжицу»: «Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского Союза!»
Свои первые поездки он называет «путешествиями Людогуся».
Аксиома:
Все люди имеют шею.
Задача:
Как поэту пользоваться ею?
Решение:
Сущность поэзии в том,
чтоб шею сильнее завинтить винтом.
И вот поэт, чтобы дальше видеть, чтобы расширить горизонты, «выкручивает» свою шею и превращается в странное существо:
Мысленно себя вытягивая за уши.
* * *
Человек не человек,
а так —
людогусь.
«Вы знаете, что за птица Людогусь? Людогусь – существо с тысячеверстой шеей: ему виднее!
У Людогуся громадное достоинство: «возвышенная» шея. Видит дальше всех. Видит только главное. Точно устанавливает отношения больших сил.
У Людогуся громадный недостаток: «поверхностная» голова – маленьких не видно».
Но и с высоты своего людогусьего роста Маяковский отлично видит каждую мелочь непривычной для него зарубежной жизни. Он смотрит города, людей, новые вещи. Он взыскательно приглядывается: чему здесь можно научиться? Что следует перенести домой, чтобы внедрить это потом у нас?
Его путевые очерки, его стихи о Западе, об Америке написаны умно и искренне, с подлинным советским патриотизмом, с поэтическим тактом и литературной честностью, с хозяйской заинтересованностью советского человека.
Маяковский одинаково далек и от квасного зазнайства, и от провинциального ротозейного преклонения перед величием американской техники.
«Бруклинский мост – да… Это вещь!» Эйфелева башня в Париже тоже ему по душе. Крепко шарахнули в небо. Но башню ему хочется перенести к себе домой, на родину. «Идемте! К нам! К нам, в РСФСР! Идемте к нам – я вам достану визу!» – призывает он башню.
И восхищение Бруклинским мостом – этим грандиозным приспособлением для простуд и эшафотом для самоубийства безработных – «меркнет перед острой лирической силой строк об американских комсомольцах из лагеря «Нит гедайге» («Не унывай»), которые «песней заставляют плыть в Москву Гудзон».
В какой бы точке земного шара Маяковский ни был, он чувствует себя советским гражданином. Все мысли его обращены к родине. Бродит ли он среди мексиканских кактусов, подымается ли на небоскребные высоты Нью-Йорка, фланирует ли по бульварам Парижа – все равно в стихах его заботы о нашей стране, ее величие, ее горизонты.
И даже сам Атлантический океан, который он пересек, нравится ему главным образом потому, что океан
По шири,
по долу,
по крови,
по духу —
моей революции
старший брат.
«Жизнь моя совсем противная и надоедная невероятно. Я все делаю, чтобы максимально сократить сроки пребывания в этих хреновых заграницах», – пишет он домой.
На каждом шагу за рубежом путешественник Маяковский наталкивается на примеры жесточайшего угнетения человека. Все его поэтическое существо содрогается от этих картин. Он чувствует себя везде человеком с головой, проросшей в будущее, людогусем, пришельцем из передовой страны, опустившимся на дно истории: продажная любовь, ханжество, лицемерие, грубейший вкус…
И как ни радует его железобетон небоскребов, как ни по душе ему грохот и движение больших американских городов, он говорит, что на месте Колумба он Америку сейчас закрыл бы, почистил, а потом бы уже открыл снова.
Он «земной шар чуть не весь обошел». Мир кажется ему большим, вместительным, но «для веселия планета наша мало оборудована».
Он ездит по Европе и Америке, выступает с докладами, читает свои стихи, рассказывает о советской литературе.
Стены аудиторий, в которых он выступает, кажется, вот-вот рухнут, так набиты залы, так грохочет на весь мир из-за морей пришедший голос советского поэта.
Буржуазные газеты сочиняют небылицы о Маяковском, требуют его выслать обратно в СССР. Рабочая пресса дружно приветствует «полпреда стиха» СССР и призывает всех слушать Маяковского, который приехал «стихом побрататься».
Одна из заокеанских газет так описывает выступление Маяковского в помещении Централ Опера Хаус в Нью-Йорке:
«…тысячи искрящихся глаз устремлены на эстраду, заполненную представителями печати пролетарских организаций. Ждут с затаенным дыханием богатыря новейшей поэзии.
Но… прежде надо выслушать приветственные речи. Они льются ручьями самых красивейших возвышенных слов. И при каждом упоминании имени поэта и определении его как «титана русской литературы»… «певца революционных масс» своды огромного зала оглашаются аплодисментами.
…Кончились речи. Из-за колонны появляется Маяковский.
– Добро пожаловать, Владимир Владимирович! – раздается голос председателя.
Зал гремит долго-долго.
Вот он, Маяковский! Так же прост и велик, как и сама Советская Россия. Гигантский рост, крепкие плечи, простенький пиджачок, коротко стриженная большая голова… Он стоит и ждет, чтобы смолкли аплодисменты. Как будто начинают стихать, но вдруг – совершенно неожиданно – новый взрыв рукоплесканий и вся публика вскакивает с мест. В воздух летят шляпы, машут руками, платками, не видать конца оваций.
…Зал замолк, воцаряется полная тишина, и, словно раскаты грома, раздается голос Маяковского. Так гремел голос поэта в октябре 1917 года… В громовых раскатах его голоса чудилась та великая страна, которая породила одного большого и много-много малых Маяковских, значение которых растет вместе с ростом величия единственной в мире Пролетарской Социалистической Республики…»
А он, путешествуя по Америке, вглядывается в златозубый оскал заокеанской цивилизации, видит личину «его препохабья» – всемогущего капитала, потом в стихах своих он высмеивает американский доллар, демократию, воплощенную в грандирзной статуе, в знаменитой «бабе-свободе», которая замахнулась на мир «кулаком с факелом», «прикрыв задом тюрьму острова слез». С негодованием разоблачает он гнусное преследование негров.
Уже в те годы Маяковский распознает «рваческий завоевательный характер американского развития». Он предсказывает: «Америка станет только финансовой, ростовщической страной… Может статься, что США сообща станут последними вооруженными защитниками безнадежного буржуазного дела, – тогда история сможет написать хороший типа Уэллса роман «Борьба двух светов».
Впоследствии поэт прозорливо нарисует в своей патриотической пьесе «Баня» некоего иностранного туриста мистера Понта Кича, приехавшего в СССР и ищущего знакомства не только с историческими достопримечательностями, но прежде всего с некоторыми изобретениями советских техников.
Вот что говорит о нем в пьесе Маяковского один из персонажей:
«Мистер Понт Кич, известный, известный и в Лондоне и в Сити филателист. Филателист (сконапель, марколюб – по-русски), и он очень, очень интересуется химическими заводами, авиацией и вообще искусством. Очень, очень культурный и общительный человек. Даже меценат. Сконапель… ну, как это вам перевести?.. помогает, там, киноработникам, изобретателям… Такой культурный, общительный, даже нам ваш адрес сказал».
И Маяковский выступает, бросая свои стихи в лицо «его препохабью» – всемогущему капиталу, который, «обирая, лапя и хапая», встал перед ним по ту сторону Атлантики.
В Европе его встречают также восторженно. Здесь его уже давно знают, и нет почти ни одного революционного поэта, который бы не испытал на себе влияния Маяковского. «В Праге отмахал всю руку – столько понадписывал своих книг…» – пишет Маяковский домой. «Был большущий вечер, рассчитанный на 1000 человек, – продали все билеты, а потом стали продавать билетные корешки. Продали половину их, а потом просто люди уходили за нехваткой места».
Пражская газета «Лидове новины» так описывала впечатление, которое произвел на чешских слушателей Маяковский:
«Его могучий голос буквально гремел по всему зданию. Это не было декламацией, с какой мы знакомы в Европе, это был взрыв энергии, чувства, силы и, наконец, просто самой человеческой души.
Слушатели, захваченные необычайной силой человека, который говорил, обращаясь к ним, и голос которого колебал колонны зала, были совершенно потрясены. Успех лекции был таков, что трудно его сравнить с чем-нибудь когда-либо показанным в Праге в области декламационного искусства».
Высокого вкуса, остроумия и грозного благородства исполненны стихи Маяковского о Париже. Ему нравится город, его бульвары и улицы. Ое даже заранее отмечает, что надо будет поберечь в архитектуре, чтобы ядром ничего не портить, когда революционный народ пойдет громить префектуру по соседству. Поэт признается, что он «хотел бы жить и умереть в Париже, если бы не было такой земли – Москва». И однажды говорит своему знакомому:
– Как вы думаете, будет этой весной война? Неужели сунутся? Ужасно не хочу войны. Если случится, пойду с Чекой в Париж. Зная состав этого города, буду полезен.
Он не хочет вымокать и ржаветь под «иностранными дождями». Его тянет домой, в боевую, кипучую «бучу» нашей советской жизни.
Поездки за границу не только обогащают его нужным материалом, расширяют его «людогусьи горизонты». Там, в чужой, рассмотренной им до самого дна жизни еще грандиознее делается его «громада любовь» к родине, «громада ненависть» к старью.
Вернувшись на родину, он отправляется «менестрелить»: разъезжает по Советскому Союзу, продолжая «прерванную традицию трубадуров и менестрелей» – бродячих поэтов и певцов.
Он ездит по городам Советской страны, рассказывает о своих заграничных впечатлениях, читает стихи, спорит и расправляется с литературными противниками. Его выступления во всех углах СССР не похожи на гастрольные концерты. Разговор Маяковского с читателем идет всерьез, начистоту. Он обогащает аудиторию, дает ей крепкую революционную зарядку.
Маяковский уделяет этой работе много сил и времени. «За один день читал (за один, но не один) от гудка до гудка, в обеденный перерыв, прямо с токарного станка на заводе Шмидта; от пяти до семи – красноармейцам и матросам в только что отстроенном прекрасном, но холодном, неотопленном Доме Красной Армии; от девяти до часу – в университете – это Баку».
В Ленинграде, в Баку, в Киеве, в Саратове, в Виннице, в Харькове, в Ростове – во всех крупных городах Советского Союза гремит его мощный голос. Сперва появляются афиши, возвещающие о его прибытии, потом приезжает он сам, окруженный легендами и сплетнями.
Огромный, широкоплечий, еще полный большого путевого движения, еще не потерявший кругосветного разгона, он взбирается на сколоченные наспех подмостки в цехах, выходит на эстрады клубов и больших городских залов.
Разговор с читателем он считает для себя таким же кровным делом, как непосредственную работу над стихом. В этих разговорах он неутомимо агитирует за новые требования, которые должны предъявляться к революционному поэту. —
Мало знать
чистописаниев ремёсла,
расписать закат
или цветенье редьки.
Вот
когда
к ребру душа примерзла,
ты
ее попробуй отогреть-ка!
«В наше время тот поэт, кто напишет марш и лозунг!» – говорит Маяковский. Он рассказывает о новых задачах литературы, о месте поэта в рабочем строю.
Так живет он, разъезжая, работая, вглядываясь. Так живет он в ругне, спорах, веря, что вовек не придет к нему «позорное благоразумие». И его, неутомимого, несдающегося, напролом идущего вперед, ждут во всех концах страны не только рабочие, но и студенты, комсомольцы.
Его хотят услышать, его хотят повидать и в Одессе, и в Краснодаре, и в Казани… Стоит ему только приехать в город, в гостиницу к нему стекаются читатели, поэты, журналисты, переводчики.
Входит татарин:
«Я
на татарском
вам
прочитаю
«Левый марш».
Входит второй.
Косой в скуле.
И говорит,
в карманах порыскав:
«Я —
мариец.
Твой
«Левый»
дай
тебе
прочту по-марийски».
Эти вышли.
Шедших этих
в низкой
встретил третий.
«Марш
ваш —
наш марш.
Я —
чуваш,
послушай,
уважь.
Марш
вашинский
так по-чувашски…»
Долгое время, уже после его отъезда, еще идут споры в редакциях, в институтах. Приезд Маяковского каждый раз событие. И в самых тихих городках разгораются бурные дискуссии о Маяковском.
За Маяковского – молодежь, студенты, краснофлотцы, рабфаковцы, новая советская интеллигенция.
Против Маяковского – те, кто любит похвастаться своей «старой закалкой», местные литераторы из неудачников, особого рода библиотекари, считающие своим долгом «оберегать вкус рабочих и крестьян», и просто обыватели…
Когда его долго нет в Москве, в литературе тихо и пусто. И люди с нетерпением ждут, когда появятся знакомые афиши, возвещающие о том, что в Большой аудитории Политехнического музея выступит поэт Владимир Маяковский.
На капитанском мостке
Аудитория
сыплет
вопросы колючие,
старается озадачить
в записочном рвении.
Политехнический осажден. Смяты очереди. Трещат барьеры. Давка стирает со стен афиши. Администратор взмок… Лысой кукушкой он ускользает в захлопнувшееся окошечко. Милиция просит очистить вестибюль.
Зудят стекла, всхлипывают пружины дверей. Гам… Маяковский сам не может попасть на свой вечер. Он оказывается заложником у осаждающих. С него требуют выкупа: пятьдесят контрамарок… ну, двадцать – тогда пропустят. Но он уже роздал вчера, сегодня, сейчас десятки контрамарок, пропусков. Больше нет. Он оскудел.
И Маяковский продирается к входу. Он начинает таранить, ворочаться, раздвигать, как затертый мощный ледокол. Потом он вдруг сразу и легко проходит через всю толщу толпы.
Зал переполнен. Сидят в проходах, на ступеньках, на краю эстрады, на коленях друг у друга. Только в первых рядах еще видны пустые места, оставленные для лиц, особо уважаемых администрацией и пренебрежительно опаздывающих.
Маленькая закулисная комнатка загромождена Маяковским. Она раздавлена его расхаживанием. Комнатка тесна Маяковскому. Владимир Владимирович сторонит широкие плечи. В углу рта папироса. Она закушена, как удила.
По лестнице поднимается шум осады:
– Ма…
я…
ков…
ский!..
Про…
пусти…
те!!
Владимир Владимирович, почти сконфуженный, говорит мне:
– Пожалуйста, Кассильчик, спуститесь к администратору – мне уже совестно. А там пришли комсомольцы, кружковцы. Пусть пропустят пять человек, скажите: последние… Ну ладно, заодно уж восемь… словом, десять. И бейте себя в грудь, рвите волосы, выньте сердце, клянитесь, что последние. Он поверит. Девять раз уже верил…
Тем временем строптивый зал уже топочет от нетерпения.
И вот выходит Маяковский. Его появление на эстраде валит в котловину зала веселую и приветливую груду хлопков. Друзья и соратники сопровождают поэта.
В одной руке Маяковского портфель, в другой – стакан чаю.
Он сотрясает своими шагами пол эстрады. Он двигает стол. Грохочут стулья. Рядком раскладываются книжки, стихи, бумажки, часы. Громко звенит ложечка в стакане. Маяковский медленно, методично мешает ложечкой чай. Вот он обжился. Он осмотрен и осмотрелся. С мрачной иронией оглядывает он первые ряды и поднимает голову. Теперь он смотрит наверх, на балкон. Крепко закушенный, втиснутый в самый угол рта окурок вдруг сдвигается в широкой улыбке.
– Галерка! – произносит Маяковский грохочущим басом.– Студенты, сюда!
И жестом, убедительнейшим по своему размаху и простоте, он приглашает веселое население галерки занять неприкосновенные пустоты в партере. Студенты валят вниз. Растерянные капельдинеры сметены.
– Горные жители спускаются в долину, – вполголоса говорит Маяковский.
Пять минут шума, топота, веселых пререканий, толкотни, и вот от самых ног Маяковского, от края эстрады, на ступеньках, в проходах, на лестницах, вплоть до задней стены аудитории, – все заполняется горячеголовой, яснолицей молодежью. И огромные глаза Маяковского, поражающие обычным своим глубоким, мрачным и гордым блеском, теплеют. Распахнув полы пиджака, он засовывает ладони под пояс. Поза почти спортивная.
– Сегодня, – начинает он, – я буду…
Сообщается программа вечера.
– После доклада – перерыв: для моего отдыха и для изъявления восторгов публики.
– А когда же стихи будут? – жеманно спрашивает какая-то девица.
– А вам хочется, чтобы скорее интэрэсное началось? – так же жеманно басит Маяковский.
Первый раскат заглушённого хохота. В зале копится пока еще скрытое восхищение и негодование. И вот Маяковский начинает свой доклад.
Собственно, это не доклад, это блестящая беседа, убедительный рассказ, зажигательная речь, бурный монолог. Интереснейшие сообщения, факты, неистовые требования, возмущение, курьезы, афоризмы, смелые утверждения, пародии, эпиграммы, острые мысли и шутки, разительные примеры, пылкие выпады, отточенные формулы. Память его необъятна. Без труда цитирует он десятки строк других поэтов. Недаром говорят друзья: у Володи память как дорога в Полтаве – каждый галошу оставит. На шевелюру и плеши рыцарей мещанского искусства рушатся убийственно меткие определения и хлесткие шутки.
Маяковский разговаривает. Головастый, широкоротый, он минутами делается похожим на упрямо вгрызающийся экскаватор.
Вот он ухватил какую-то строку из пошлой статьи критика, пронес ее над головами слушателей и выбросил из широко раскрытого рта, свалив в кучу смеха, выкриков и аплодисментов. Стенографистки то и дело записывают в отчете: «смех», «аплодисменты», «общий смех», «бурные аплодисменты».
На стол слетаются записки из всех углов зала. Обиженные шумят. На них шикают. Обиженные оскорбляются. «Шум в зале», – констатирует стенограмма.
– Не резвитесь, – говорит Маяковский. Он не напрягает голоса, но грохот его баса легко перекрывает шум всего зала.
– Не резвитесь… Раз я начал говорить, значит, докончу. Не родился еще ни в дворянской семье, ни в купеческой такой богатырь, который бы меня переорал. Вы там, в третьем ряду, не размахивайте так грозно золотым зубом. Сядьте! А вы положите сейчас же свою газету или уходите вон из зала: здесь не читальный зал, здесь слушают меня, а не читают. Что?.. Неинтересно вам? Вот вам трешка за билет. Идите, я вас не задерживаю… А вы там тоже захлопнитесь. Что вы так растворились настежь? Вы не человек, вы шкаф.
Он ходит по эстраде, как капитан на своем мостике, уверенно направляя разговор по выбранному им курсу. Он легко, без натуги, распоряжается залом.
Становится жарко. Он снимает пиджак, аккуратно складывает его. Кладет на стол. Подтягивает брюки.
– Я здесь работаю. Мне жарко. Имею право улучшить условия работы? Безусловно!
Некая шокированная дама почти истерически кричит:
– Маяковский, что вы все подтягиваете штаны? Смотреть противно!..
– А если они у меня свалятся?..– вежливо интересуется Маяковский.
Молниеносные ответы разят пытающихся зацепить поэта.
– Что?.. Ну, вы, товарищ, возражаете, как будто воз рожаете… А вы, я вижу, ровно ничего не поняли. Собрание постановило считать вас отсутствующим.
– До моего понимания ваши шутки не доходят, – ерепенится непонимающий.
– Вы – жирафа! – восклицает Маяковский.– Только жирафа может промочить ноги в понедельник, а насморк почувствовать лишь к субботе.
Противники никнут. Стенографистки ставят закорючки, обозначающие хохот всего зала, аплодисменты.
Но вдруг вскакивает бойкий молодой человек без особых примет.
– Маяковский! – вызывающе кричит молодой человек.– Вы что полагаете, что мы все идиоты?
– Ну что вы! – кротко удивляется Маяковский.– Почему все? Пока я вижу перед собой только одного…
Некто в черепаховых очках и немеркнущем галстуке взбирается на эстраду и принимается горячо, безапелляционно доказывать, что «Маяковский уже труп и ждать от него в поэзии нечего».
Зал возмущен. Оратор, не смущаясь, продолжает умерщвлять Маяковского.
– Вот странно, – задумчиво говорит вдруг Маяковский, – труп я, а смердит он.
И оратор кончился… Когда хохот стихает, в одном из углов зала опять начинают что-то бубнить недовольные.
– Если вы будете шуметь, – урезонивает их Маяковский, – вам же хуже будет: я выпущу опять на вас предыдущего оратора.
Маленький толстый человек, проталкиваясь, карабкается на эстраду.
Он клеймит Маяковского за гигантоманию.
– Я должен напомнить товарищу Маяковскому, – горячится коротышка, – истину, которая была еще известна Наполеону: от великого до смешного – один шаг…
Маяковский вдруг, смерив расстояние, отделяющее его от говоруна, соглашается:
– От великого до смешного – один шаг, – и показывает на себя и на коротенького оратора.
А зал надрывается от хохота.
Начинается, как всегда, разговор о классиках, критическом изучении их. Маяковский, уважительно отзываясь о Пушкине, Лермонтове, Толстом, говорит, что новому времени нужны новые литературные приемы, новый поэтический словарь. Тут же он еще раз говорит о том, что Пушкин был величайшим поэтом.
– Вот Анатолий Васильевич Луначарский упрекает меня в неуважении к предкам. А я месяц назад во время работы, когда Брик начал читать мне «Евгения Онегина», которого я знаю наизусть, не мог оторваться и слушал до конца и два дня ходил под обаянием четверостишия:
Я знаю: жребий мой измерен,
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.
Проникновенно и почти благоговейно звучит его низкий голос, плывущий пушкинской строфой.
– Конечно, – продолжает он, – мы будем сотни раз возвращаться к таким художественным произведениям, и даже в тот момент, когда смерть будет нам накладывать петлю на шею, тысячи раз!.. Учиться этим максимально добросовестным приемам, которые дают бесконечное удовлетворение и верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли.
Какой-то крикливый оппонент, все время пытавшийся сострить, шумевший с места и требовавший слова, неожиданно получает таковое. Но он, оказывается, «раздумал, да и вообще не собирался».
Маяковский торжественно возглашает:
– По случаю сырой погоды фейерверк отменяется… Маленькая, хрупкая на вид поэтесса подымается на эстраду и начинает спорить с Маяковским по поводу одного раскритикованного им стиха.
Маяковский очень тихо, почти беззвучно шевеля губами, отвечает ей.
– Громче! Не слышно, громче! – кричат из зала.
– Боюсь, – говорит Маяковский, прикрывая рот и глазами показывая на поэтессу, – боюсь: сдую…
Потом Владимир Владимирович читает свои стихи. И сторонники и противники стынут во внимательной, напряженной тишине. Зал сверху донизу дышит восторженной покорностью. С мастерством и могучей простотой читает Маяковский. Его неохватный голос звучен, бодр, искренен. Все уголки Политехнического плотно заполнены им. Замерли много слышавшие на своем веку капельдинеры. Дежурный милиционер и пожарный приоткрыли рты. Слово такое большое и объемное, что, кажется, вот-вот раздерет углы распяленного рта, слово несокрушимой крепости, слово упругое, вздымающее, весомое, грубое, зримое, слово радостное и яростное, шершавое и острое колышет остановившийся воздух зала:
И жизнь хороша,
и жить хорошо!
Гремит взволнованный зал. Вот уже спал первый жар восторга, но снова хлопает, ревет, топочет аудитория.
Еще читает Маяковский. Опять онемел зал. Но тут из второго ряда шумно и грузно подымается тучный и очень бородатый дядя. Он топает через зал к выходу. Широкая и пышная борода лежит на громадном его животе, как на подносе.
Он невозмутимо выбирается из зашикавших рядов.
– Это еще что за выходящая из ряда вон личность? – грозно вопрошает Маяковский.
Но тот бесцеремонно и в то же время церемониально несет свою бороду к двери. И вдруг Маяковский, с абсолютно серьезной уверенностью и как бы извиняя, говорит:
– Побриться пошел…
Зал лопается от хохота. Борода обескуражеино и негодующе исчезает за дверью, словно вынесенная взрывной волной смеха. Теперь, положив карандаш, аплодируют даже стенографистки. Пожарный сияет ярче своей каски. Капельдинеры учтиво прикрывают ладонью рты, расползающиеся в улыбке.
Затем Маяковский отвечает на записки. Он запускает руки в большую груду бумажек и делает вид, что роется в них.
– Читайте все подряд, что вы там ищете? – уже кричат из зала.
– Что ищу? Ищу в этой куче жемчужные зерна…
С беспощадной неиссякаемой находчивостью отвечает Маяковский на колкие записки противников, на вопросы любопытствующих обывателей и писульки литературных барышень.
«Маяковский, сколько денег вы получите за сегодняшний вечер?»
– А вам какое дело? Вам-то ведь все равно ни копейки не перепадет… Ни с кем делиться я не собираюсь… Ну-с, дальше…
«Как ваша настоящая фамилия?»
Маяковский с таинственным видом наклоняется к залу.
– Сказать?.. Пушкин!!!
«Может ли в Мексике, скажем, появиться второй Маяковский?»
– Гм! Почему же нет? Вот поеду еще разок туда, женюсь там, может… Вот и, вполне вероятно, может появиться там второй Маяковский.
«Ваши стихи слишком злободневны. Они завтра умрут. Вас самого забудут. Бессмертие – не ваш удел…»
– А вы зайдите через тысячу лет, там поговорим!
«Ваше последнее стихотворение слишком длинно…»
– А вы сократите. На одних обрезках можете себе имя составить.
«Ваши стихи мне непонятны».
– Ничего, ваши дети их поймут!
– Нет, – кричит автор записки из зала, – и дети мои не поймут!
– А почему вы так убеждены, что дети ваши пойдут в вас? Может быть, у них мама умнее, а они будут похожи на нее.
«Маяковский, почему вы так себя хвалите?»
– Мой соученик по гимназии Шекспир всегда советовал: говори о себе только хорошее, плохое о тебе скажут твои друзья.
– Вы это уже говорили в Харькове! – кричит кто-то из партера.
– Вот видите, – спокойно говорит Маяковский, – товарищ подтверждает.– Он на мгновение замолкает и смотрит иронически в зал.– А я и не знал, что вы всюду таскаетесь за мной.
Он продолжает ворошить записки. «Как вы относитесь к Безыменскому?»
– Очень хорошо, только вот он недавно плохое стихотворение написал. Там у него рифмуется «свисток – серп и молоток». Безыменский, ну-ка, прочитайте, не стесняйтесь.
В зале послушно поднимается Безыменский и читает злополучное стихотворение.
– Ну вот, пожалуйста! – говорит Маяковский.– Разве можно так писать? А если бы у вас там рифмовалась пушка, так вы бы написали: «серп и молотушка»?
«Маяковский, вы сказали, что должны время от времени смывать с себя налипшие традиции и навыки, а раз вам надо умываться, значит, вы грязный…»
– А вы не умываетесь и думаете поэтому, что вы чистый?
«Маяковский, попросите передних сбоку сесть, вас не видно».
– Ну проверните в передних дырочку и смотрите насквозь… Что такое? А, знакомый почерк. А я вас все ждал. Вот она, долгожданная: «Ваши стихи непонятны массам». Значит, вы опять здесь? Отлично! Идите-ка сюда. Я вам давно собираюсь надрать уши. Вы мне надоели.
Еще с места:
– Мы с товарищем читали ваши стихи и ничего не поняли.
– Надо иметь умных товарищей!
– Маяковский, ваши стихи не волнуют, не греют, не заражают.
– Мои стихи не море, не печка и не чума.
– Маяковский, зачем вы носите кольцо на пальце? Оно вам не к лицу.
– Вот потому, что не к лицу, и ношу на пальце, а не в носу.
– Маяковский, вы считаете себя пролетарским поэтом, коллективистом, а всюду пишете: я, я, я.
– А как вы думаете, Николай Второй был коллективист? А он всегда писал: мы, Николай Вторый… И нельзя везде во всем говорить «мы». А если вы, допустим, начнете объясняться в любви девушке, что же, вы так и скажете: «Мы вас любим?» Она же спросит: «А сколько вас?»
Но больше всего обиженных за Пушкина. В зале поднимается худой, очень строгий на вид человек в сюртуке, похожий на учителя старой гимназии. Он поправляет пенсне и принимается распекать Маяковского.
– Не-ет, сударь, извините… – сердится он.– Вы изволили в письменной форме утверждать нечто совершенно недопустимое об Александре Сергеевиче Пушкине. Изъяснитесь. Нуте-с?
Владимир Владимирович быстро вытягивается, руки по швам, и говорит школьной скороговоркой:
– П'остите, п'остите, я больше не буду!
– А все-таки Пушкин лучше вас! – кричит кто-то.
– А, – говорит Маяковский, – значит, вам интереснее слушать Пушкина? Отлично!.. А. С. Пушкин! «Евгений Онегин». Роман в стихах. Глава первая.
Мой дядя самых честпых правил,
Когда не в шутку занемог…
И он начинает читать наизусть «Евгения Онегина». Строфа за строфой. «Онегина» он знает наизусть чуть ли не всего… В зале хохочут, смеются, вскакивают. Он читает. Только тогда, когда зал уже изнемог, Маяковский останавливается:
– Взмолились?.. Ладно. Вернемся к Маяковскому… И, пользуясь затишьем, он опять серьезно и неутомимо сражается за боевую, за политическую поэзию наших дней.
– Я люблю Пушкина! Наверное, больше всех вас люблю его. «Может, я один действительно жалею», что его сегодня нет в живых! Когда у меня голос садится, когда устанешь до полного измордования, возьмешь на ночь «Полтаву» или «Медного всадника» – утром весь встаешь промытый, и глотка свежая… И хочется писать совсем по-новому. Понимаете? По-новому! А не переписывать, не повторять слова чужого дяди! Обновлять строку, слова выворачивать с корнем, подымать стих до уровня наших дней. А время у нас посерьезней, покрупней пушкинского. Вот за что я дерусь!
Кончился вечер. Политехнический вытек. Мы едем домой.
Владимир Владимирович устал. Он наполнен впечатлениями и записками. Записки торчат из всех его карманов.
– Все-таки устаешь, – говорит он.– Я сейчас как выдоенный, брюкам не на чем держаться. Но интересно. Люблю. Оч-ч-чень люблю все-таки разговаривать. А публика который год, а все прет: уважают, значит, черти. Рабфаковец этот сверху… удивительно верно схватывает. Приятно. Хорошие ребята. А здорово я этого с бородой?..
Уже в который раз провожаю я его домой после таких вечеров, полных стихов, перепалок а оваций. И каждый раз хочется при этом повторять и мне радостно-восторженные строки, которые посвятил ему Семен Кирсанов:
Я счастлив, как зверь, до ногтей, до волос,
Я радостью вскручен, как вьюгой,
Что мне с капитаном таким довелось
Шаландаться по морю юнгой.







