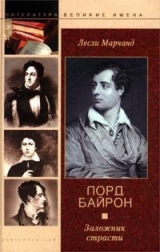
Текст книги "Лорд Байрон. Заложник страсти"
Автор книги: Лесли Марчанд
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Вскоре после этого Байрон принял приглашение своего друга Уэддерберна Уэбстера навестить его в Эстон-Холле недалеко от Ротерхэма. Оттуда 21 сентября он прислал леди Мельбурн описание этой нелепой семьи: «Ощущая беспокойство и нетерпение в городе, я с радостью принял это приглашение… Тут очень тихо и мило, и дети не шумят… [Уэбстер] прочел мне целую лекцию о добродетелях своей супруги, заключив, что по моральным качествам она близка к Христу!» Байрон смеялся до тех пор, пока Уэбстер не рассердился.
Если леди Мельбурн надеялась, что ее протеже позабудет о своей греховной привязанности, увлекшись леди Фрэнсис Уэбстер, то ее ожидало разочарование, потому что три дня спустя Байрон опять вернулся к Августе. Он написал леди Мельбурн: «Я пытался изо всех сил одержать победу над этим демоном, но безуспешно, потому что оружие, действенное прежде, подвело меня на этот раз. Я имею в виду, перенести весь пыл любовного увлечения на другую женщину. И вот что из этого вышло, вы теперь знаете». Под влиянием сиюминутного настроения Байрон составил новое завещание, по которому половина его состояния должна была перейти к его кузену и наследнику Джорджу Энсону Байрону, а другая половина – к Августе.
В Лондоне Байрона уже ждало письмо от Аннабеллы Милбэнк. Она была разочарована, услышав от него, что «цель жизни – чувство». Это было слишком по-байроновски. Он был по-прежнему очарован странной умной девушкой, но желал изменять себе только для того, чтобы заслужить ее одобрение. «Вам не нравятся мои «мятежные» теории – было бы жаль, если бы они вам нравились, и тем не менее я не могу быть бездеятельным». После этого Байрон обратился к «ужасному» предмету, в пренебрежении к которому его обвиняла Аннабелла, – к религии. Он больше не желал молчать на эту тему: «Я воспитывался в Шотландии среди кальвинистов, что навсегда отвратило меня от этого вероисповедания… Если в настоящее время я не имею безоговорочной веры в традиции и законы какой-либо человеческой религии, то надеюсь, что это проистекает не от недостатка веры в Создателя, но в создание…»
Теперь Байрон показывал письма Аннабеллы леди Мельбурн, которая не видела в них надежды на брак, потому в его рассказе о самообмане Аннабеллы не сквозило и намека на романтическое чувство. Байрон писал: «Послания вашего математика (обозначать ее просто А. теперь двусмысленно) [14]14
Это значит, что теперь Байрон буквой «А» в своих мыслях и письмах к леди Мельбурн обозначал Августу; позднее он различал их следующим образом: «ваша А.» (Аннабелла) и «моя А.» (Августа).
[Закрыть]продолжают приходить. Последнее заканчивается выражением желания, что об этом не узнает никто, кроме папы и мамы. Почему вы не должны знать, кажется мне нелепым, но теперь об этом уже поздно спрашивать…»
Байрон собирался вернуться в Эстон в тайной надежде, что к нему присоединится и Августа, о чем он, естественно, не написал леди Мельбурн. Он продолжал рассказывать о смехотворном Уэбстере, который написал, что графиня, являющаяся предметом его желания, «неумолима».
«Какой счастливчик! Находит удовольствие в трудностях». Что касается леди Фрэнсис, то «она, очевидно, ожидает нападения и готовит блестящую защиту. Моя репутация повесы достигла Эстона, и мое беспечное и тихое поведение так ее изумило, что она посчитала себя уродливой или меня слепым, если не хуже».
Однако леди Мельбурн яснее Байрона поняла, что он уязвлен больше, чем предполагает, тем, что не уверен в чувствах леди Фрэнсис. Через три дня после его возвращения в Эстон он обнаружил, что его равнодушное отношение принесло свои плоды, то есть подогрело его интерес к этой любовной игре. Байрон заявил: «Я признался в любви, и, если верить словам, поскольку на них мы и остановились, она взаимна». Байрон произнес эту речь, находясь в бильярдной. Вместе с леди Фрэнсис они продолжали партию, «не обращая внимания на риск». Позднее он написал ей письмо, на которое она ответила, «очень недвусмысленно, однако слишком благоразумно: что-то о добродетели и бескорыстной привязанности в некоем неземном мире, где главное – душа, чего я не совсем понимаю, будучи плохим метафизиком. Однако обычно мы начинаем и заканчиваем платонической любовью, и, поскольку моей «новообращенной» всего двадцать лет, у нас еще достаточно времени». В порыве откровенности Байрон написал: «Помню, в последний раз все было наоборот, как говорит майор О'Флагерти, «сначала сражение, а потом объяснение». В шесть часов вечера он добавил к письму приписку: «Дело принимает серьезный оборот, думаю, платоническая любовь находится в опасности».
Леди Мельбурн поняла, что, несмотря на циничные откровения, Байрона глубоко затронула эта любовь, поскольку леди Фрэнсис сочетала в себе опыт и невинность, что он так ценил. Испытывая сердечный жар, Байрон в то же время как бы со стороны видел всю комичность сложившейся ситуации и знал, что в лице леди Мельбурн найдет благодарного слушателя. Ему было приятнее писать о своем увлечении, чем испытывать его прелесть на себе. Леди Мельбурн с удовлетворением читала его письма, зная, что на время Байрон забудет о своих прежних связях. Но когда его увлечение леди Фрэнсис стало серьезным, он посчитал необходимым написать в свое оправдание: «Все, что угодно, лучше последнего увлечения; а я не могу жить без предмета сердечной привязанности».
На следующий день Байрон сообщал: «Я полагаю, что меня постигла неудача, по крайней мере, к этому все идет… Мы быстрыми темпами перешли к менее духовному общению и обмену любезностями, но печать еще не поставлена, хотя воск уже готов». Забавная развязка наступила скорее, чем предполагал Байрон, на фоне живописных развалин Ньюстеда, куда в середине октября направилась вся компания. Леди Мельбурн он сообщил, что «в отношении развязки у меня были более радужные надежды… Один день, когда мы оказались наедине, чуть не стал роковым: еще одна такая победа, и мы с Пирром будем разгромлены. Вот ее слова: «Я полностью полагаюсь на вашу милость. Я подчиняюсь вам. Я совсем не так холодна, как думают другие, но не выношу осуждения. Не думайте, что это просто слова. Я говорю правду, а вы действуйте так, как сочтете нужным». Поступил ли я неправильно? Я пощадил ее… Это было не простое «нет», которое я слышал прежде раз сорок, и всегда с одинаковым оттенком согласия; это был ее тон и выражение лица. Я пожертвовал многим: было два часа утра, хотя дьявол нашептывал мне в уши, что это просто слова…»
Теперь Байрон был по-настоящему влюблен и готов на все – на дуэль, скандал, развод. Он предложил Фрэнсис уехать, но она ответила, что будет полагаться на него. «Бедняжка! Она или самое коварное, или самое бесхитростное создание в возрасте двадцати лет, которое я когда-либо встречал… Самыми нелепыми во всей этой истории, и все же я не могу заставить себя от них отказаться, являются ее ласки. Они какие-то детские, но не совсем невинные. Вся моя натура Сципиона тянется к этим проявлениям нежности». В отчаянии Байрон много пил после ужина и ночью, подстрекаемый хвастливым Уэбстером, одним глотком опустошал свою чашу из черепа, в которую вмещалось больше бутылки вина, и с помощью Флетчера укладывался в постель. Когда у него было время поразмыслить над своей провалившейся попыткой вести себя «решительно» с леди Фрэнсис, он не сожалел о своей сдержанности. «Я не переношу ничего, что свершается не по обоюдному желанию», – писал он леди Мельбурн. «Возможно, я стал жертвой ее обмана, но если так, то я пал жертвой добрых чувств, о которых мог бы похвастаться…»
В Лондоне страсть Байрона начала угасать, но он по-прежнему хранил верность своей возлюбленной. Леди Фрэнсис писала ему письма – смесь дерзости и осторожности, «используя два слова, «душевное излияние» и «душа», чаще, чем можно найти во всех книгах библиотеки». Однако Байрон заверял леди Мельбурн: «…вы неверно понимаете меня, если не верите, что я пожертвую всем ради Фрэнсис. Я ненавижу лживые сантименты, к тому же мои легкомысленные письма могут натолкнуть вас на мысль, что я пустой и бессердечный человек». Вскоре Байрона интересовали уже другие люди и дела. Его друг Ходжсон был увлечен некоей мисс Тайлер, мать которой не соглашалась на брак из-за долгов Ходжсона. Байрон всю ночь ехал в почтовой карете, чтобы встретиться с матерью девушки и убедить ее, что Ходжсон скоро рассчитается со всеми долгами, а по возвращении в Лондон вместе со своим другом пошел в банк Хаммерсли и там перевел на счет Ходжсона 1000 фунтов в качестве подарка. Вероятно, это были деньги, отложенные Байроном на путешествие.
Разочарование в любовном чувстве вновь нашло отражение в стихах. 4 ноября Байрон написал леди Мельбурн: «Последние три дня я не выхожу из дома; из-за недавних событий я постоянно нахожусь в состоянии возбуждения, которое приходится снимать стихами. Как раз сейчас я пишу очередную восточную повесть…» Через неделю он закончил ее и сказал Муру: «Все потрясения в моей жизни заканчиваются стихами, и, чтобы скрасить свои ночи, я нацарапал очередную турецкую повесть…» Тема кровосмешения – в первом наброске Селим и Зулейка были родными братом и сестрой – неудержимо влекла к себе Байрона, но в конце концов он отказался от нее и сделал любовников кузенами. Он думал об Августе и леди Фрэнсис, когда писал «Абидосскую невесту», такое название он дал поэме.
Увлечение леди Фрэнсис заставило Байрона позабыть про Августу и про свою «математическую» собеседницу из Сихэма. Однако 8 ноября он написал сестре письмо с извинениями, а два дня спустя отправил «Принцессе Параллелограмме» шутливое послание. О математике он писал: «Единственное, что я помню из этой науки, не вызывало во мне восторга. Это теоремы, кажется, так их называют, в которых после бесчисленных вариаций с АВ и CD приходишь к совершенно противоположному. Именно к этому я всегда приходил и, боюсь, буду приходить всю жизнь…» В следующем письме он делал более серьезное признание: «Я ни в коей мере не считаю поэтов и поэзию высшей ступенью на шкале интеллектуального труда. Это может показаться притворством, но таково мое истинное мнение. Извержение лавы воображения предотвращает землетрясение… Я предпочитаю людей действия – военных, сенаторов или даже ученых – всем размышлениям этих мечтателей…»
14 ноября, после того, как он отправил свою восточную поэму Меррею, Байрон начал вести дневник. Темой первой записи в нем были самоанализ и краткое описание своей жизни, которая казалась ему теперь сплошной чередой неудач и разочарований. «В возрасте двадцати пяти лет, когда лучшее время в жизни уже позади, следует чего-нибудь добиться. А что я? Ничто, просто двадцатипятилетний человек…Что я видел? Тех же людей во всем мире и женщин… Я не знаю, чего я хочу. Странно, что я никогда ни о чем не мечтал, лишь добивался желаемого, а потом сожалел». В своем разочаровании Байрон подумывал о женитьбе, единственной вещи, которой еще не испытал. Но в то же время интуиция подсказывала ему, что лучше воздержаться от столь решительного шага. Он все еще не мог оправиться от удара, нанесенного ему провалом его политической карьеры, ставшего очередной причиной недовольства собой. «Я отказался представлять петицию должников, устав от парламентского фиглярства».
Байрон по-прежнему выходил в свет, но теперь это доставляло ему меньше удовольствия. Он избегал званых обедов и мечтал оказаться в деревне, где можно заняться делом, вместо того, чтобы «принуждать себя к воздержанию… Я не стал бы возражать против возвращения к плотским утехам… Беда только в том, что с каждой из них приходит дьявол, и мне приходится прогонять его, потому что я не хочу стать рабом своего аппетита». Уютнее всего Байрон чувствовал себя в обществе Холландов. Он посещал «Друри-Лейн» и «Ковент-Гарден», где целый сезон занимал ложу лорда Солсбери. Но больше всего ему нравилось обедать в обществе приятных ему людей: Дж. У. Уорда, Джорджа Каннинга и Джона Хукэма Фрира, писавших для «Антиякобинца», с великолепным собеседником Шарпом, «человеком изящного склада ума, общавшегося с лучшими пропагандистами всех времен и народов – Фоксом, Горном Туком, Уиндхэмом, Фицпатриком и другими».
Однако ни светская жизнь, ни сочинительство не могли помочь Байрону избавиться от мысли о том, что он тратит силы впустую. Он пришел к выводу, что «ни один человек, который способен на что-либо большее, не должен быть поэтом… Быть известным человеком, не диктатором, не тираном, а таким, как Вашингтон или Аристид, человеком, ведущим к истине, – все равно что быть избранником Божьим!».
Увлечение Байрона Фрэнсис Уэбстер быстро превратилось в некий фарс, над которым он не мог не потешаться, одновременно испытывая сердечные муки. Он послал ей свой портрет, сделанный художником Холмсом, «мрачный и суровый, как мое настроение в прошлом июле, когда писался этот портрет (в первом порыве страсти к Августе. – Л.М.)». Вспоминая бескорыстную любовь сестры, Байрон говорил леди Мельбурн: «Знаете, боюсь, что эта греховная страсть была самой сильной в моей жизни».
В своем дневнике Байрон откровенно признавался в том, что наибольшее удовольствие ему доставляет писать леди Мельбурн, «…а ее ответы – такие благоразумные, такие тактичные, – я никогда не встречал человека, обладавшего хотя бы половиной ее дара. Если бы она была на несколько лет моложе, как бы она могла одурачить меня, если бы ей заблагорассудилось, и я потерял бы хорошего и верного друга. Помните, что возлюбленная никогда не может быть вашим другом. Пока у вас мир и согласие, вы любовники, когда это позади – друзья». Возможно, что Байрон думал о своем былом увлечении Каролиной Лэм.
«Абидосская невеста» была издана Мерреем 2 декабря и получила признание публики. В течение месяца было распродано шесть тысяч экземпляров, и Байрон вновь стал литературным кумиром сезона. Когда Меррей предложил ему тысячу гиней за право издания двух последних восточных поэм, Байрон испытал искушение согласиться, потому что постоянно нуждался в деньгах, однако гордость не позволяла ему их принять. Его приглашали в самые лучшие дома, но он чаще отказывался от званых обедов. Однажды вечером в доме лорда Холланда он беседовал с Томасом Кэмпбеллом, когда хозяин внес сосуд, по форме напоминающий католическую кадильницу, и, приблизившись к Кэмпбеллу, воскликнул: «Ладан для вас!» Кэмпбелл, слегка уязвленный успехом своего соперника-поэта, ответил: «Отнесите лорду Байрону, он к этому привык».
Шли дни, и Байроном овладевало чувство нерешительности, бесцельности существования и тоски. Он пристрастился к сигарам, которые, как раньше табак, помогали ему избавиться от мучительного чувства голода, когда он отказывался от еды, чтобы поддерживать вес в норме. 7 декабря он записал в своем журнале: «Лег в кровать и спал без всяких сновидений, однако сон не освежил меня. Проснулся на час раньше, но три часа провозился за туалетом. Если вычесть из жизни младенческий период, который представляет собой растительное существование, сон, время, затраченное на еду, умывание, раздевание и одевание, то сколько останется времени на настоящую жизнь? Время, отведенное мыши».
Доктор Джон Аллен, друг лорда Холланда, одолжил Байрону «множество неопубликованных и никогда не увидевших свет писем Бернса». Они произвели на поэта странное впечатление. Что за противоречивый ум! Нежность, грубость, тактичность, прямолинейность, чувственность, возвышенные чувства, унижение, грязь и божественность – все смешано в одном комочке священной глины!
«Странно: истинный сластолюбец никогда не станет задумываться о грубости реальной жизни. Превознося до небес земное, материальное, телесное, не признаваясь самому себе в греховности, потом забывая обо всем, можем мы сохранить всю прелесть земных удовольствий».
Вне всякого сомнения, Байрон осознавал, как близко в этом высказывании затронул противоречивую природу своего собственного характера. Вынужденный маскировать тягу к «земным» удовольствиям ореолом идеального чувства, чтобы избежать столкновения с жестокой действительностью, испытывая влечение ко всему земному, мешающему ему в достижении поставленных целей, Байрон становился ближе к Бернсу, чем сам о том подозревал.
Гнетущее уныние, испытываемое поэтом в первой половине декабря, усугублялось его тоской по Августе и попытками подавить это чувство. Хотя как бы Байрон ни старался, он не мог отделаться от мысли, что ни одна женщина, кроме Августы, так не притягивала его, не читала все его мысли, не была так чувственна и в то же время нетребовательна, не вела себя так по-матерински по отношению к нему. По мере того как его решимость уменьшалась, он все реже писал леди Мельбурн, зная о ее чувствах и опасениях, когда дело заходило о романе с Августой. 15 декабря Августа приехала в Лондон, а 18-го Байрон прекратил записи в своем дневнике. «Я написал достаточно, чтобы привести в порядок мои мысли, а мои дела вряд ли нуждаются в описании».
В день, когда Байрон отложил в сторону дневник, он начал очередную восточную поэму, на этот раз более откровенную, чем прежде. Проза больше не справлялась с поставленной задачей: выразить чувства Байрона. «I suoi pensieri in lui dormir non ponno» – «Его мысли не дремлют в его душе» – этот эпиграф к поэме Байрон взял из произведения Тассо «Освобожденный Иерусалим». В начале первой песни поэмы «Корсар» Байрон поместил известные строчки из «Ада» Данте:
Nessun maggior dolore,
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria… [15]15
«Ад», песня V. Байрон перевел название этой песни как «Франческа да Римини», открыв первую песню «Корсара» словами Франчески:
Тот страждет высшей мукой,Кто радостные помнит временаВ несчастии…( Перевод Ю. Петрова)
[Закрыть]
С Конрадом, героем «Корсара», Байрон бродил по «темному синему морю», омывающему его нежно любимый греческий архипелаг. В этом тоже заключалась свобода – свобода духа, которую давал сам процесс сочинительства и которая позволяла Байрону сквозь пелену фантазии взирать на свои собственные чувства с откровенностью, не встречающейся даже в его письмах к леди Мельбурн. Он работал до поздней ночи в своей квартире на Беннет-стрит и, провожая Августу домой, брал рукопись с собой. 27 декабря Байрон закончил первый черновой вариант, сочиняя каждый день почти по двести строк.
До начала нового года в жизни Байрона появились два призрака из прошлого. Мэри Чаворт-Мастерс, чей супруг, Джек Мастере, теперь охотился уже не на лис, а на другую дичь, напомнила о себе хромому юноше, с которым кокетничала в детстве и который стал теперь известным поэтом. Если он приедет в Ноттингем, то найдет там «старого и преданного друга, с нетерпением ожидающего встречи с ним». Байрон написал Мэри вежливый ответ. Она была больна и намекала на неверность мужа. «Ты вряд ли узнаешь во мне ту счастливую девушку, которой я была когда-то. Я стала такой худой, бледной и мрачной». Такого письма Байрон вовсе не ждал от своей прежней возлюбленной и не горел желанием повидать ее. Он предпочел, чтобы в его мечтах она оставалась прежней.
Голос из недавнего прошлого принадлежал Аннабелле Милбэнк, которая написала Байрону на следующий день после Рождества. Она тоже была больна и еще не набралась храбрости, чтобы признаться в своей невинной лжи о другом поклоннике. Аннабелла заверяла Байрона, что она его «преданный друг». Получив в конце ноября ее предыдущее письмо, Байрон записал в своем дневнике:
«Вчера получил очень милое письмо от Аннабеллы, на которое ответил. Какие у нас странные отношения! Ни искры чувства с обеих сторон… Она прекрасная женщина, совсем не испорченная, что странно встретить в двадцатилетней богатой наследнице, будущей супруге пэра, единственной дочери и эрудированном человеке, который привык всегда поступать по-своему. Она поэтесса, математик, метафизик и одновременно очень добра, великодушна, нежна и не притворна. Любой мужчина потерял бы голову, столкнувшись хотя бы с половиной ее талантов и десятой частью ее достоинств».
Глава 12
Опасные связи
1814
Поэма «Корсар», написанная Байроном «на основании жизненного и любовного опыта», занимала его мысли всю первую половину января. Он сделал посвящение Муру, в котором опрометчиво заявил: «…в ближайшие несколько лет я намереваюсь не искать благоволения богов, людей и газет». В этом посвящении он интриговал публику, подстрекая читателей искать в поэме автобиографические черты; он больше не станет оправдываться.
Байрон был озадачен чувством леди Фрэнсис, которая и сама казалась «смущенной постоянством», потому после визита Августы в Лондон в декабре он еще больше привязался к своей сестре. Когда романтическая привязанность к леди Фрэнсис остыла, он стал испытывать досаду при мысли об их неудавшейся связи. Байрон говорил леди Мельбурн: «Если люди будут останавливаться, не дойдя до первого лица глагола «любить», то им не следует удивляться, что грамматическое спряжение закончится с кем-нибудь другим». Байрона приводили в недоумение попытки к сближению со стороны Мэри Чаворт-Мастерс. Получив от нее второе письмо, он признался Августе: «М. снова написала о дружбе, а также весьма просто и жалостливо о плохом обращении, бледности, нездоровье, старых друзьях, добрых намерениях, добродетели и тому подобном».
Отношения Байрона с женщинами становились напряженнее не потому, что он был злодеем, а потому, что поэт делал все возможное, чтобы не причинить боль тем женщинам, которые были привязаны к нему. Он писал леди Мельбурн: «Не могу постигнуть, отчего мне приходится постоянно сталкиваться с различными искушениями, которые, уверяю вас, поджидали меня еще до рождения. Когда мне приписывают талант писателя, то ошибаются самым непостижимым образом…»
Леди Мельбурн надеялась на появление нового сильного увлечения или даже на брак, но страны Средиземноморья вновь искушали Байрона воспоминаниями его беззаботной юности. Стремление преуспеть потеряло для него всякий интерес. «Мне никогда не удавалось завоевать свет, – говорил он леди Мельбурн, – а публика обласкивала меня по своей прихоти. Моя жизнь в Англии растрачивается впустую..» А далее он признавался: «.. в чувстве, недавно поглотившем меня полностью, есть что-то демоническое, отчего все остальные страсти теряют свою притягательность…»
Байрон безнадежно и скептически размышлял над предложением своей подруги, леди Мельбурн. «Хорошо, если бы я был женат и не думал о красоте, о добродетели и богатстве. Я принял решение следовать примеру вышестоящих лиц, но все же мне бы хотелось жизнерадостности, нежности, чистоплотности и немного привлекательности. Были ли когда-нибудь мечты человека более умеренными?» Далее он продолжал: «Я могу любить и ожидаю этого взамен, но, как говорит Мур: «Хорошенькая жена – плод тщеславных стремлений повесы»… Единственная неприятность заключается в том, что я потом опять могу влюбиться, поскольку привычка странным образом преобладает над моими чувствами».
Августа вновь приехала в Лондон, и в понедельник, 17-го числа, они с Байроном выехали в Ньюстед в огромном экипаже. Из-за сильного снегопада Грейт-Норт-роуд стала почти непроходимой. Они вдвоем оказались в заснеженном пустом полуразрушенном аббатстве. Огромный парк был заметен снегом, который тяжелыми шапками лежал на ветвях старых деревьев и перекрывал все дороги, ведущие к поместью. Дурная погода явилась причиной, чтобы отложить поездку к Мэри Чаворт, а присутствие Августы скрашивало дни. Байрон написал леди Мельбурн: «…мы никогда не скучаем и не ссоримся, смеемся больше, чем подобает в таком солидном особняке, а свойственная нам обоим застенчивость делает нас лучшими собеседниками в мире».
Дороги очистились только к 1 февраля, но даже после этого Байрон с неохотой покидал Ньюстед. Он ничего не писал, очевидно достигнув определенной степени довольства собой. До отъезда б февраля он получил восторженное письмо от Меррея с рассказом о небывалом успехе «Корсара», о чем не могли и мечтать ни поэт, ни издатель. Меррей взволнованно писал: «В день издания я продал 10 000 экземпляров, чего прежде никогда не случалось…» В течение месяца после первого успеха Меррей напечатал еще семь изданий и продал 25 000 книг.
Триумф вещи объяснялся, во-первых, прекрасными описаниями, особенно такими великолепными строчками:
Холмы Морей превратив в пожар,
Садится медленно багровый шар…
( Перевод Ю. Петрова)
Во-вторых, с интересом был встречен яркий сюжет, подкрепленный личными наблюдениями над жизнью и бытом Греции. Но больше всего читателей заворожил образ пирата Конрада, этот «одинокий и таинственный человек», в чертах которого явственно проступает портрет самого автора. «Он будет жить в преданиях семейств с одной любовью, с тысячей злодейств».
Одновременно появление на свет «Корсара» вызвало и бурю журналистских нападок; особой критике подверглись строки с намеками на принца-регента. Газета тори «Морнинг пост» заклеймила Байрона как «нового Ричарда III – физического и морального урода». Байрон говорил Меррею: «Последнее сообщение не является новостью для человека, который пять лет провел в частной школе». Но когда Меррей, приверженец партии тори и испуганный издатель, убрал злополучные строчки из второго издания, Байрон принялся настаивать на том, чтобы их вернули на прежнее место. Он уверял леди Мельбурн: «Во мне живет дух противоречия».
8 февраля Хобхаус возвратился из поездки по Европе и вскоре встретился с Байроном в «Ковент-Гарден». Он записал в своем дневнике: «…в театре я увидел моего дорогого Байрона, он сидел в ложе. Давно я не был так счастлив. Вместе мы приехали домой и просидели до четырех часов утра». Байрон, также обрадованный, сделал запись в своем дневнике: «Он мой лучший друг, самый веселый и одаренный человек из всех». После этого они часто встречались. 19 февраля в театре «Друри-Лейн» они видели игру Кина в «Ричарде III». Байрона потрясло это представление: «Боже мой! Он (Кин. – Л.М.) настоящий талант. Жизненность, правдивость и ни капли преуменьшения или преувеличения».
Хобхаус привез с собой «десять тысяч анекдотов о Наполеоне, забавных и основанных на реальных событиях». Это заставило Байрона задуматься о человеке, который пленил его еще в школьные дни. «Наполеон! На этой неделе решится его судьба. Кажется, все против него, но я надеюсь и верю, что он победит, по крайней мере отразит натиск захватчиков. По какому праву мы насаждаем во Франции монархов? Да здравствует Республика!.. Чем больше равенства, тем равномерное распределяется зло, становясь не таким тяжким бременем после разделения между многими людьми. Итак, Республика!»
Но ни общество Хобхауса, ни светская жизнь, ни театр не могли отвлечь Байрона от грустных мыслей. Весь февраль он ощущал разлад с самим собой. Он не мог спать и читать, даже стихи не приносили облегчения. Еще в ноябре Байрон начал комедию и роман, но сжег их, потому что они «слишком напоминали действительность». Также он вырвал две страницы из своего дневника. Скрытность теперь стала для него важнее откровенных признаний. И все-таки только дневнику мог он поверить свои самые тайные мысли. В нем он анализировал свои слабости: «В присутствии женщины во мне все смягчается. Они оказывают на меня какое-то странное влияние, даже если я не влюблен, чего не могу объяснить, потому что в целом придерживаюсь невысокого мнения о них. И все же, если поблизости женщина, я более снисходительно начинаю относиться к себе и к окружающему миру. Даже миссис Мьюл, которая зажигает у меня свечи, самая древняя из всех женщин, но не самая дружелюбная – дружелюбна она лишь со мной, – всегда вызывает у меня улыбку, что совсем несложно сделать, когда я в хорошем расположении духа».
Еще больше усугубили разочарование Байрона размышления над собственными литературными трудами; ему казалось, что они не имеют большой ценности. Слишком много в них «лавы воображения», появившейся, чтобы избежать землетрясения в личной жизни. Байрон с неудовольствием замечал, что отклоняется от своего истинного предназначения, сатиры в стиле Поупа, которая так ему удалась в «Английских бардах и шотландских обозревателях», занявшись вместо этого написанием ставших популярными автобиографических восточных поэм и «Чайльд Гарольда». Байрон писал Муру: «…Недавно я стал подумывать, что мои вещицы странным образом переоценили, однако в любом случае я с ними навсегда покончил. Могу вам признаться в том, чего не говорил никому: последние две поэмы, «Абидосская невеста» и «Корсар», были написаны за четыре и за десять дней, чрезвычайно унизительное признание, которое доказывает мое желание быть оцененным публикой и желание публики читать произведения, имеющие только временный успех».
Байрон позировал Томасу Филлипсу, известному портретисту, но по-прежнему с неохотой принимал участие в светской жизни, соглашаясь на предложения пообедать лишь из вежливости или по привычке. Он предпочитал остроумное и интеллигентное общество, собиравшееся в доме Роджерса, где Шеридан, Макинтош и Шарп рассказывали старые анекдоты. Испытывая все возрастающий интерес к нравам и литературе XVIII века, Байрон больше наслаждался этими экскурсами в прошлое, чем безвкусными сборищами английского высшего света. «Какие пьесы! Какой блеск остроумия! Конгрив и Ванбру – ваша единственная комедия!» – восклицал Байрон, прочитав переделанную Шериданом комедию Ванбру «Неисправимый», получившую название «Поездка в Скарборо».
Несмотря на внутренний разлад, Байрон продолжал переписку с Аннабеллой Милбэнк, отправляя ей иногда шутливые, а иногда серьезные письма. Нечто отличное от обычного волокитства привязывало его к этой миловидной девушке, которая присылала ему серьезные наставления. Возможно, ему доставляло удовольствие осознание, что ему удается смутить ее логический ум. Возвращаясь к вопросу об утешениях религией, он писал: «Это источник, из которого я никогда не черпал и, надеюсь, не буду черпать утешения. Если я когда-либо чувствую искреннее благоговение, то лишь тогда, когда сталкиваюсь с чем-то хорошим, о чем даже не помышлял, и тогда готов благодарить кого угодно, только не человечество… Зачем я пришел в этот мир, я не знаю, куда уйду потом, бессмысленно спрашивать. Среди мириад живых и мертвых миров, звезд, звездных систем, бесконечности какой смысл волноваться о судьбе атома?»
Однако Аннабелла продолжала слать Байрону свои серьезные письма. Он немного испугал ее, но одновременно и разжег ее интерес, сказав, что хочет увидеться с нею, туманно намекнув, что хотел бы поговорить о личных делах. Аннабелла начала советоваться с родителями, когда лучше всего пригласить Байрона в Сихэм. Относительно слухов, что она отказала ему во второй раз, Аннабелла написала: «Чтобы избежать возможности оказаться в подобной ситуации, должна признать, что не отказывала вам». Так Аннабелла довольно хитроумным способом дала Байрону понять, что хотела бы услышать его предложение. Байрон понял ее правильно. 15 марта он записал в своем дневнике: «Получил письмо от Беллы и ответил на него. Могу снова влюбиться в нее, если не буду осторожен».








